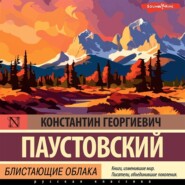По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Странствия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Странствия
Константин Паустовский
Можно смело утверждать, что Константин Паустовский странствовал всю жизнь. Он жил и творил в самых разных городах, путешествовал по миру, побывал в самых отдаленных уголках: жил на Кольском полуострове и в Украине, побывал на Волге, Каме, Дону, Днепре и других великих реках, в Средней Азии, на Алтае, в Белоруссии и других местах. Писатель словно следовал совету К. Кастанеды: путешествуя, не концентрируйся на себе, внимательно слушай окружающих и с любопытством смотри по сторонам. Итоги путешествий – замечательные очерки, увлекательные путевые записки, эссе, новеллы.
Константин Паустовский
Странствия
Ветер скорости
Из путевого дневника
Под Москвой леса были насквозь просвечены золотом. Особенно много этого лиственного шумного золота скопилось в оврагах, куда не проникал ветер. А на холмах ветер начисто срывал сухую листву, кружил ее и уносил вдаль. И там, в этой дали, в холодном блеске октябрьского солнца листья временами летели по ветру так густо, что воздух казался от них желтоватым.
В такой день начался наш путь из Москвы на запад.
Путь шел мимо Бородинского поля. Над ним курился туман. Он был похож на дым сраженья.
Сухие взгорья Бородина расстилались вокруг. К ним были обращены мысли Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого и многих тысяч русских людей. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина».
На этих полях Пьер Безухов мог бы встретиться с интендантом наполеоновской армии Стендалем. Я написал слово «мог» потому, что сила толстовского гения сделала Безухова существующим. Нельзя даже представить себе, что не было на свете этого добродушного увальня.
Ветер скорости гудел в крыльях «победы». Под этот гул хорошо было думать о разных разностях, хотя бы об этой невозможной встрече Безухова со Стендалем.
О чем они могли говорить? Может быть, о том, что рядом со старой кровавой историей, с ее войнами и бессмыслицей живет простая повесть любящих сердец, где-то близко бьется милое сердце Наташи Ростовой. И ради этого сердца стоит броситься очертя голову в любую опасность.
Мало ли мыслей приходит в голову под гул дорожного ветра! А здесь ему было где разгуляться – на автостраде Москва – Минск, серой бетонной ленте, туго натянутой от края до края земли.
Дорога эта проходит в стороне от городов и деревень. Города возникают и проносятся по ее сторонам, как виденья.
Таким виденьем прошла на вечереющих холмах героическая Вязьма. И снова помчались километры красной по осени болотной травы, березняка и равномерно сменяющих друг друга перелесков.
Днепр под Смоленском блеснул узкой извилиной. Берега его дымились паром.
Около Днепра мы остановили машину. Пастух гнал навстречу пестрое стадо. Вопреки тысячелетней привычке, он не кричал на коров осипшим, отчаянным голосом: «Куды, дьяволы!» Он заменил этот возглас более современным: «Алло, красавицы! Алло!» И коровы, проходя мимо машин, ласково поглядывали на нас, помахивали хвостами и, казалось, хотели сказать: «Вот видите, какой у пас чудный пастух».
К вечеру показался Смоленск – многострадальный город, раскинутый на кручах над Днепром.
Не прошло и десяти лет после войны, а понятие «разрушенный город» почти исчезло. Разрушенных городов больше нет. Нет и разрушенного Смоленска. Новый город поднялся над развалинами. Уцелевшие дома вошли в ансамбль новых зданий. Только смоленские пращуры – крепостные валы, собор и кремлевские стены – хранят в своем каменном молчании память о прошлом.
Всю ночь за окнами маленькой смоленской гостиницы шумел дождь. На столе в номере стоял букет гладиолусов удивительно нежной раскраски.
Ничто в этой гостинице не напоминало пресловутые «номера для приезжающих» с их застарелой вонью дешевого одеколона и хлора, сквозняками и скрипучими лестницами.
Было очень чисто, тихо, спокойно. На стене висела литография «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Эта литография встречалась нам на всем пути. И не только она одна, но еще «Утро в сосновом лесу» Шишкина и «Девятый вал» Айвазовского. Почти не было такой гостиницы, столовой или кафе на протяжении четырех тысяч километров дороги, где бы не висели эти литографии. Всюду нас радостно приветствовал схватившийся за живот от смеха сивоусый запорожец – в Витебске и Пскове, в Нарве и Каунасе. Он просто преследовал нас своим зычным безмолвным хохотом.
В конце концов нам стало не по себе. И потому мы искренне обрадовались, когда в столовой в Оночке впервые увидели на стенах превосходные пейзажи местного художника. Имя его нам так и не удалось узнать.
Утром серый дождь все еще висел над Смоленском. Я вышел в город. Среди земляных валов и старых ив тускло поблескивал большой пруд. С деревьев слетали сизые листья и ложились на воду. Она даже не вздрагивала от их прикосновенья.
Посиневший от холода вихрастый мальчик сидел на корточках на берегу пруда и удил рыбу. Я почувствовал невольное уважение к этому мальчику за его жестокую страсть и терпение.
Город в этот ранний час был почти пуст, безмолвен. Я подумал о том, сколько бурь пронеслось над ним и сколько одаренных русских людей выросло здесь, под стенами Смоленского кремля, на горбатых улочках, заросших травой.
Как будто нарочно, чтобы подтвердить эти мысли, из отдаленного громкоговорителя послышались звуки рояля и мужской голос запел:
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей…
Томительные эти слова и музыка Глинки – уроженца Смоленска – наполнили утренний холодок печальной поэзией. Я вспомнил стихи другого смоленского уроженца, Твардовского: «За далью даль». Места поэзии! Здесь она рождалась – на суглинистых дорогах, в сырых лесах Смоленщины.
Вихрастый мальчишка-рыболов напомнил мне замечательного смоленского человека, Василия Тихоновича Бобрышева. Он был редактором журнала «Наши достижения». Его многие знали – худого, со смеющимися глазами и светлой прядью, падавшей на лоб. Было в нем что-то от старых русских мастеров, от лесковского Левши. О таких людях, как Бобрышев, говорят: «золотые руки».
Он прекрасно составлял журнал. Он собрал вокруг него всю даровитую литературную молодежь. Как все талантливые люди, Бобрышев любил все делать сам – чинить всякие приборы, часы, особенно старые музыкальные ящики с их перезвоном простых мелодий («В милые годы ты возвратишься…»), выращивать у себя в комнате на улице Горького диковинные цветы и собирать грибы в подмосковных лесах.
В свободное время он вытачивал из дерева необыкновенно тонкие вещи. Однажды он вырезал перочинным ножом из цельного куска липы сомкнутую цепь.
Он погиб в народном ополчении под родным Смоленском.
Как за далью открывается новая даль, так смоленская земля непрерывно дарит нам незаурядные русские характеры – от Пржевальского и Глинки до Твардовского и от писателя и охотника Соколова-Микитова до безусловно существующего Василия Теркина – тоже, судя по всем ухваткам, уроженца Смоленщины.
Дорога на Витебск резко сворачивает около Орши на север и уходит в песчаные холмы и болота. Шоссе проложено по гатям, залитым асфальтом. От тяжелого хода машин шоссе чуть прогибается и покачивается, как на тугих рессорах.
Исчезли большие смоленские села. Их сменили короткие белорусские деревни. Мальчишки уже не швыряли под колеса машины пыльные кепки, как это было на буйной Смоленщине. И косматые псы уже не мчались, сатанея от хрипа, вслед за проклятой машиной.
В деревнях было пусто и тихо, – повсюду копали картошку.
Мы остановились в лесной деревушке и зашли в хату попить молока. На пороге сидел на огромной железной цепи заплаканный щенок. Увидев нас, он полез спасаться в сени, повизгивая от страха и громыхая цепью.
В хате висели на стенах колхозные плакаты. В углу стояла почерневшая прялка.
Я тронул колесо прялки. Оно повернулось и жалобно заскрипело. – И хозяйка-старуха пожаловалась, что вот уже много годов, как никто не ткет полотна, а прялками, как «ляльками», играют дети. Домотканое полотно было хотя и узкое и суровое, но очень прочное.
Сколько сказок и песен родилось под шум прялки и свист метели за окнами, сколько открылось чистейшей народной поэзии. Мы забываем об этом. Забываем, что и пушкинские стихи «Буря мглою небо кроет» тоже были вызваны к жизни вечерами за прялкой:
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжанье
Своего веретена?
Давно, еще в детстве, мне почему-то очень хотелось попасть в Витебск. Я знал, что в этом городе останавливался Наполеон и что в маленьком местечке под Витебском жил художник Шагал. Во время моей юности этот художник прогремел по всей Европе своими картинами из жизни давно уже исчезнувшего затхлого «гетто». Об этом художнике много говорили и спорили взрослые.
Мне нравилась его картина «Парикмахерская в местечке». На картине были изображены кривая вывеска с пышно намыленным жгучим брюнетом во фраке, чахлый фикус и пятнистое, как ягуар, трюмо, похожее на окно в потусторонний мир, – так в нем все было искажено плесенью, разъевшей зеркальную амальгаму.
Так случилось, что за всю свою жизнь я не встретил ни одного человека, который был бы родом из Витебска. Поэтому некая дымка таинственности окутывала в моих глазах этот город.
Редко бывает, что наше представление о чем-нибудь совпадает с действительностью. Но с Витебском случилось именно так.
Мы приехали в Витебск в сумерки. Закат догорал за Двиной. В позднем его огне холмистый город показался очень живописным.
Константин Паустовский
Можно смело утверждать, что Константин Паустовский странствовал всю жизнь. Он жил и творил в самых разных городах, путешествовал по миру, побывал в самых отдаленных уголках: жил на Кольском полуострове и в Украине, побывал на Волге, Каме, Дону, Днепре и других великих реках, в Средней Азии, на Алтае, в Белоруссии и других местах. Писатель словно следовал совету К. Кастанеды: путешествуя, не концентрируйся на себе, внимательно слушай окружающих и с любопытством смотри по сторонам. Итоги путешествий – замечательные очерки, увлекательные путевые записки, эссе, новеллы.
Константин Паустовский
Странствия
Ветер скорости
Из путевого дневника
Под Москвой леса были насквозь просвечены золотом. Особенно много этого лиственного шумного золота скопилось в оврагах, куда не проникал ветер. А на холмах ветер начисто срывал сухую листву, кружил ее и уносил вдаль. И там, в этой дали, в холодном блеске октябрьского солнца листья временами летели по ветру так густо, что воздух казался от них желтоватым.
В такой день начался наш путь из Москвы на запад.
Путь шел мимо Бородинского поля. Над ним курился туман. Он был похож на дым сраженья.
Сухие взгорья Бородина расстилались вокруг. К ним были обращены мысли Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого и многих тысяч русских людей. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина».
На этих полях Пьер Безухов мог бы встретиться с интендантом наполеоновской армии Стендалем. Я написал слово «мог» потому, что сила толстовского гения сделала Безухова существующим. Нельзя даже представить себе, что не было на свете этого добродушного увальня.
Ветер скорости гудел в крыльях «победы». Под этот гул хорошо было думать о разных разностях, хотя бы об этой невозможной встрече Безухова со Стендалем.
О чем они могли говорить? Может быть, о том, что рядом со старой кровавой историей, с ее войнами и бессмыслицей живет простая повесть любящих сердец, где-то близко бьется милое сердце Наташи Ростовой. И ради этого сердца стоит броситься очертя голову в любую опасность.
Мало ли мыслей приходит в голову под гул дорожного ветра! А здесь ему было где разгуляться – на автостраде Москва – Минск, серой бетонной ленте, туго натянутой от края до края земли.
Дорога эта проходит в стороне от городов и деревень. Города возникают и проносятся по ее сторонам, как виденья.
Таким виденьем прошла на вечереющих холмах героическая Вязьма. И снова помчались километры красной по осени болотной травы, березняка и равномерно сменяющих друг друга перелесков.
Днепр под Смоленском блеснул узкой извилиной. Берега его дымились паром.
Около Днепра мы остановили машину. Пастух гнал навстречу пестрое стадо. Вопреки тысячелетней привычке, он не кричал на коров осипшим, отчаянным голосом: «Куды, дьяволы!» Он заменил этот возглас более современным: «Алло, красавицы! Алло!» И коровы, проходя мимо машин, ласково поглядывали на нас, помахивали хвостами и, казалось, хотели сказать: «Вот видите, какой у пас чудный пастух».
К вечеру показался Смоленск – многострадальный город, раскинутый на кручах над Днепром.
Не прошло и десяти лет после войны, а понятие «разрушенный город» почти исчезло. Разрушенных городов больше нет. Нет и разрушенного Смоленска. Новый город поднялся над развалинами. Уцелевшие дома вошли в ансамбль новых зданий. Только смоленские пращуры – крепостные валы, собор и кремлевские стены – хранят в своем каменном молчании память о прошлом.
Всю ночь за окнами маленькой смоленской гостиницы шумел дождь. На столе в номере стоял букет гладиолусов удивительно нежной раскраски.
Ничто в этой гостинице не напоминало пресловутые «номера для приезжающих» с их застарелой вонью дешевого одеколона и хлора, сквозняками и скрипучими лестницами.
Было очень чисто, тихо, спокойно. На стене висела литография «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Эта литография встречалась нам на всем пути. И не только она одна, но еще «Утро в сосновом лесу» Шишкина и «Девятый вал» Айвазовского. Почти не было такой гостиницы, столовой или кафе на протяжении четырех тысяч километров дороги, где бы не висели эти литографии. Всюду нас радостно приветствовал схватившийся за живот от смеха сивоусый запорожец – в Витебске и Пскове, в Нарве и Каунасе. Он просто преследовал нас своим зычным безмолвным хохотом.
В конце концов нам стало не по себе. И потому мы искренне обрадовались, когда в столовой в Оночке впервые увидели на стенах превосходные пейзажи местного художника. Имя его нам так и не удалось узнать.
Утром серый дождь все еще висел над Смоленском. Я вышел в город. Среди земляных валов и старых ив тускло поблескивал большой пруд. С деревьев слетали сизые листья и ложились на воду. Она даже не вздрагивала от их прикосновенья.
Посиневший от холода вихрастый мальчик сидел на корточках на берегу пруда и удил рыбу. Я почувствовал невольное уважение к этому мальчику за его жестокую страсть и терпение.
Город в этот ранний час был почти пуст, безмолвен. Я подумал о том, сколько бурь пронеслось над ним и сколько одаренных русских людей выросло здесь, под стенами Смоленского кремля, на горбатых улочках, заросших травой.
Как будто нарочно, чтобы подтвердить эти мысли, из отдаленного громкоговорителя послышались звуки рояля и мужской голос запел:
Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей…
Томительные эти слова и музыка Глинки – уроженца Смоленска – наполнили утренний холодок печальной поэзией. Я вспомнил стихи другого смоленского уроженца, Твардовского: «За далью даль». Места поэзии! Здесь она рождалась – на суглинистых дорогах, в сырых лесах Смоленщины.
Вихрастый мальчишка-рыболов напомнил мне замечательного смоленского человека, Василия Тихоновича Бобрышева. Он был редактором журнала «Наши достижения». Его многие знали – худого, со смеющимися глазами и светлой прядью, падавшей на лоб. Было в нем что-то от старых русских мастеров, от лесковского Левши. О таких людях, как Бобрышев, говорят: «золотые руки».
Он прекрасно составлял журнал. Он собрал вокруг него всю даровитую литературную молодежь. Как все талантливые люди, Бобрышев любил все делать сам – чинить всякие приборы, часы, особенно старые музыкальные ящики с их перезвоном простых мелодий («В милые годы ты возвратишься…»), выращивать у себя в комнате на улице Горького диковинные цветы и собирать грибы в подмосковных лесах.
В свободное время он вытачивал из дерева необыкновенно тонкие вещи. Однажды он вырезал перочинным ножом из цельного куска липы сомкнутую цепь.
Он погиб в народном ополчении под родным Смоленском.
Как за далью открывается новая даль, так смоленская земля непрерывно дарит нам незаурядные русские характеры – от Пржевальского и Глинки до Твардовского и от писателя и охотника Соколова-Микитова до безусловно существующего Василия Теркина – тоже, судя по всем ухваткам, уроженца Смоленщины.
Дорога на Витебск резко сворачивает около Орши на север и уходит в песчаные холмы и болота. Шоссе проложено по гатям, залитым асфальтом. От тяжелого хода машин шоссе чуть прогибается и покачивается, как на тугих рессорах.
Исчезли большие смоленские села. Их сменили короткие белорусские деревни. Мальчишки уже не швыряли под колеса машины пыльные кепки, как это было на буйной Смоленщине. И косматые псы уже не мчались, сатанея от хрипа, вслед за проклятой машиной.
В деревнях было пусто и тихо, – повсюду копали картошку.
Мы остановились в лесной деревушке и зашли в хату попить молока. На пороге сидел на огромной железной цепи заплаканный щенок. Увидев нас, он полез спасаться в сени, повизгивая от страха и громыхая цепью.
В хате висели на стенах колхозные плакаты. В углу стояла почерневшая прялка.
Я тронул колесо прялки. Оно повернулось и жалобно заскрипело. – И хозяйка-старуха пожаловалась, что вот уже много годов, как никто не ткет полотна, а прялками, как «ляльками», играют дети. Домотканое полотно было хотя и узкое и суровое, но очень прочное.
Сколько сказок и песен родилось под шум прялки и свист метели за окнами, сколько открылось чистейшей народной поэзии. Мы забываем об этом. Забываем, что и пушкинские стихи «Буря мглою небо кроет» тоже были вызваны к жизни вечерами за прялкой:
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжанье
Своего веретена?
Давно, еще в детстве, мне почему-то очень хотелось попасть в Витебск. Я знал, что в этом городе останавливался Наполеон и что в маленьком местечке под Витебском жил художник Шагал. Во время моей юности этот художник прогремел по всей Европе своими картинами из жизни давно уже исчезнувшего затхлого «гетто». Об этом художнике много говорили и спорили взрослые.
Мне нравилась его картина «Парикмахерская в местечке». На картине были изображены кривая вывеска с пышно намыленным жгучим брюнетом во фраке, чахлый фикус и пятнистое, как ягуар, трюмо, похожее на окно в потусторонний мир, – так в нем все было искажено плесенью, разъевшей зеркальную амальгаму.
Так случилось, что за всю свою жизнь я не встретил ни одного человека, который был бы родом из Витебска. Поэтому некая дымка таинственности окутывала в моих глазах этот город.
Редко бывает, что наше представление о чем-нибудь совпадает с действительностью. Но с Витебском случилось именно так.
Мы приехали в Витебск в сумерки. Закат догорал за Двиной. В позднем его огне холмистый город показался очень живописным.