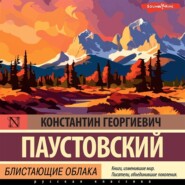По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повесть о жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет.
– Парень к нам приходил. Пил молоко. Как будто его голос. Теперь ясно. Майстры пожаловались Гону. А это его человек, гоновец. Он и поджег. Так я думаю. Лейзер его перевез на тот берег. Но помните, что мы с вами ничего не видели и не знаем.
Севрюк осторожно закурил, прикрыв спичку полой дождевого плаща.
Зарево качалось в небе. Шумела в затопленных кустах река, скрипели оси. Потом из болот нанесло холодный туман.
Только на рассвете мы, мокрые и озябшие, добрались до усадьбы.
После этого случая потянулись неспокойные дни. Мне они нравились. Мне нравилось постоянное ожидание опасностей, разговоры вполголоса и слухи, что приносил Трофим о внезапном появлении Андрея Гона то тут, то там.
Мне нравилась холодная Брагинка, разбойничьи заросли, загадочные следы подков на дороге, которых не было вчера. Мне, признаться, даже хотелось, чтобы Андрей Гон налетел на усадьбу Севрюка, но без поджога и убийства.
Но вместо Андрея Гона как-то в сумерки в усадьбе появились драгуны. Они спешились около ворот. Офицер в пыльных сапогах подошел к веранде, где мы пили чай, извинился и спросил:
– Вы господин Севрюк?
– Да, я, – ответил Севрюк. – Чем могу служить?
Офицер обернулся к солдатам.
– Эй, Марченко! – крикнул он. – Подведи-ка его сюда!
Из-за лошади двое драгун вывели босого человека. Руки его были скручены за спиной. На человеке были черные солдатские штаны с выгоревшими красными кантами.
Человека подвели к веранде. Он смотрел на Марину Павловну пристально, будто хотел что-то ей сказать.
– Вы знаете этого парня? – спросил офицер.
Все молчали.
– Приглядитесь получше.
– Нет, – сказала Марина Павловна и побледнела. – Я никогда не видела этого человека.
Человек вздрогнул и опустил глаза.
– А вы? – спросил офицер Севрюка.
– Нет. Я его не знаю.
– Что ж ты, братец, – офицер обернулся к человеку, – все врешь, что ты здешний и что ты у господ Севрюков работал в усадьбе? Теперь твое дело табак!
– Ладно уж! – сказал человек. – Ведите! Ваша сила, только не ваша правда.
Марина Павловна вскочила и ушла в комнату.
– Без разговоров! – сказал офицер. – Марш за ворота!
Драгуны уехали. Марина Павловна долго плакала.
– Он же так смотрел на меня, – говорила она сквозь слезы. – Как же я не догадалась! Надо было сказать, что я его знаю и что он работал у нас.
– Где там догадаться! – сокрушался Трофим. – Хоть бы он знак какой дал. А Любомирского тот человек спалил до последней косточки. Знаменито спалил. За убиенного хлопчика.
Вскоре я уехал в Киев.
Полесье сохранилось у меня в памяти как печальная и немного загадочная страна. Она цвела лютиками и аиром, шумела ольхой и густыми ветлами, и тихий звон ее колоколов, казалось, никогда не возвестит молчаливым полещукам о кануне светлого народного праздника. Так мне думалось тогда. Но так, к счастью, не случилось.
Сон в бабушкином саду
Бабушка моя Викентия Ивановна жила в Черкассах вместе с моей тетушкой Евфросинией Григорьевной. Дед давно умер, а в то лето, когда я ездил в Полесье, умерла от порока сердца и тетушка Евфросиния Григорьевна.
Бабушка переехала в Киев к одной из своих дочерей – тете Вере, вышедшей замуж за крупного киевского дельца.
У тети Веры был свой дом на окраине города – Лукьяновке. Бабушку поселили в маленьком флигеле, в саду около этого дома.
После независимой жизни в Черкассах бабушка чувствовала себя нахлебницей в чопорном доме тети Веры. Бабушка втихомолку плакала от этого и радовалась только тому, что живет отдельно, во флигеле, сама себе готовит и хоть в этом самостоятельна и не должна одолжаться перед богатой своей дочерью.
Бабушке было скучно одной, и она уговорила меня переехать от пани Козловской к ней во флигель. Во флигеле было четыре маленькие комнаты. В одной жила бабушка, во второй – старый виолончелист Гаттенбергер, третью комнату бабушка отвела мне, а четвертая была холодная, но называлась теплицей. Весь пол в ней был уставлен вазонами с цветами.
Когда я возвратился из Полесья в половине лета, в городе было пусто. Все разъехались на дачу. Боря уехал на практику в Екатеринослав. На Лукьяновке жили только бабушка Викентия Ивановна и Гаттенбергер.
Бабушка очень одряхлела, согнулась, былая ее строгость исчезла, но все же бабушка не изменила своих привычек. Она вставала на рассвете и тотчас открывала настежь окна. Потом она готовила на спиртовке кофе.
Выпив кофе, она выходила в сад и читала, сидя в плетеном кресле, любимые свои книги – бесконечные романы Крашевского или рассказы Короленко и Элизы Ожешко. Часто она засыпала за чтением, – седая, вся в черном, положив худые руки на подлокотники кресла.
Мотыльки садились ей на руки и на черный чепец. С деревьев гулко падали перезревшие сливы. Теплый ветер пролетал по саду, гонял по дорожкам тени от листьев.
Высоко в небе сияло над бабушкой солнце – очень чистое и жаркое солнце киевского лета. И я думал, что вот так когда-нибудь бабушка и уснет навсегда в теплоте и свежести этого сада.
Я дружил с бабушкой. Я любил ее больше, чем всех своих родных. Она мне платила тем же. Бабушка воспитала пятерых дочерей и трех сыновей, а в старости жила совершенно одна. У нее тоже, по существу, никого не было. Из этого нашего одиночества и родилась взаимная привязанность.
Бабушка вся светилась лаской и грустью. Несмотря на разницу лет, у нас было много общего. Бабушка любила стихи, книги, деревья, небо и собственные размышления. Она никогда меня ни к чему не принуждала.
Единственная ее слабость заключалась в том, что при малейшей простуде она лечила меня своим испытанным лекарством. Она называла его «спиритус».
Это было зверское лекарство. Бабушка смешивала все известные ей спирты – винный, древесный, нашатырный – и добавляла в эту смесь скипидара. Получалась багровая жидкость, едкая, как азотная кислота.
Этим «спиритусом» бабушка натирала мне грудь и спину. Она глубоко верила в его целебную силу. По флигелю распространялся щиплющий горло запах. Гаттенбергер тотчас закуривал толстую сигару. Голубоватый дым застилал его комнату приятным туманом.
Чаще всего бабушка засыпала в саду, когда в комнате Гаттенбергера начинала петь виолончель.
Гаттенбергер был красивый старик с волнистой седой бородой и серыми яростными глазами.
Он играл пьесу собственного сочинения. Она называлась «Смерть Гамлета».
Виолончель рыдала. Чередование звуков, таких гулких, будто они разносились под сводами Эльсинора, складывалось в торжественные слова: