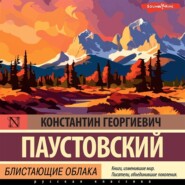По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга скитаний
Жанр
Серия
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Приезжать сюда не стоит. Петрозаводск, как и вся Карелия, объявлены пограничной зоной, и у меня была сложная история из-за того, что я не знал этого и не взял в Ленинграде особый пропуск. Пускают сюда только по вызову здешних организаций. Кроме того, здесь холодно, – после Ленинграда я еще не видел солнца – все уныло. Похоже на поздний ноябрь, страшная грязь.
Числа 15 – 17 я уже думаю быть в Москве. Архипов очень просит приехать второй раз осенью, – тогда он будет больше свободен и сможет поехать в северную, самую интересную часть Карелии. Сейчас там еще зима.
‹…› Я все же думаю, что было бы хорошо, если бы ты поехала в Коктебель – особенно я это чувствую сейчас, в этой слякоти и холоде. Подумай. И мальчишке было бы там хорошо. Деньги Марьямов, должно быть, уже перевел.
Как Дим-Передим? Я послал ему открытку с видом Кивача. Поцелуй его покрепче. Пиши – я успею еще получить твои письма. До отъезда в Олонец – напишу.
Целую. Кот
notes
ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ... Комментарии Вадима Паустовского
1
Второй том с повестями «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга скитаний» не выходил (ред.).
2
Мне хочется рассказать о главной фигуре своей рязанской родни по материнской линии – Петре Александровиче Загорском (1861 – 1938). Екатерине Степановне Загорской, моей маме, он приходится родным дядей.
Последние годы жизни Петр Александрович Загорский был протоиереем (главным священнослужителем) знаменитого Успенского собора в Рязани, что построен еще в XVII веке выдающимся русским зодчим того времени Бухвостовым. В более раннее время Петр Александрович имел приход в деревеньке Екимовке, куда в 1923 году после скитаний по югу, охваченному гражданской войной, приехали супруги Паустовские. Успенский храм в Екимовке, разрушенный в годы советской власти, недавно восстановлен и заново освящен в 1993 году.
Особо хочу остановиться на жене П. А. Загорского, так сказать, попадье – Анне Матвеевне Загорской, урожденной Зачатской (1868 – 1932). Высокая, красивая, властная, она, по сути, вела все семейство. Ее мы называли Бабуля.
Она была крестной матерью сестер Елены и Екатерины Загорских, а это в духовной среде означало очень многое. Фактически она взяла на себя все родительские функции по отношению к осиротевшим девочкам. Заботилась о них, содержала, отдавала в епархиальное училище, словом, растила и выводила в жизнь.
Бабулю мой отец ценил за многие свойства характера – незаурядный ум, настойчивость в сочетании с тактичностью, чувством юмора, которое она умело маскировала за внешней серьезностью. Отец считал ее воплощением типа рязанской женщины.
Теперь – о маме. Она также родилась на Рязанщине, в селе Подлесная Слобода, что находится между Луховицами и Зарайском. Отец ее Степан Александрович Загорский был здешним священником, мать Мария Яковлевна – сельской учительницей. И церковь и здание школы сохранились до наших дней, правда, церковь сильно обветшала.
Паустовский не застал в живых родителей невесты. Степан Александрович умер еще до рождения младшей дочери. Мария Яковлевна последовала за ним через считанные годы.
Фактически моя мать воспитывалась своей старшей сестрой Еленой Степановной Загорской, которую очень ценил мой отец.
Незамужняя Елена Степановна была «покровителем» брака моих родителей, и молодые супруги постоянно гостили у нее в городке Ефремове, где она преподавала в гимназии. Леля отличалась пытливым умом и, как говорил отец, «дисциплинированностью мысли». Это качество он также старался перенять у нее. Общим у него с ней была и любовь к странствиям. Леля, несмотря на свой скромный заработок, сумела объехать пол-Европы. Для любознательных учителей в ту пору это облегчалось существованием особых обществ, осуществлявших льготные поездки для педагогов. Впрочем, она больше любила ездить самостоятельно. После нее сохранилось много зарубежных проспектов и альбомов с открытками, которые я любил разглядывать в детстве.
Большим ударом для моих родителей, сказавшимся на их дальнейшей жизни, стала неожиданная смерть Лели от скоротечного сыпного тифа. Это случилось в разгар гражданской войны, когда отец и мама находились за линией фронта, в Киеве.
Мои родители после возвращения из Тифлиса почти сразу поехали в Екимовку. Но отец вскоре отправился в Москву искать работу, мама осталась в Екимовке.
3
К названию газеты автор «Книги скитаний» относился с иронией: «а почему не На стреме, не На цинке, не На подхвате?» Вместе с тем в этой же газете 3 декабря 1924 года сам помещает очерк под раскритикованным названием «На вахте».
4
В нашей домашней библиотеке есть тоненькая книжечка М. Ермолина с автографом автора К. Паустовскому. Книжечка выпущена в 1925 году, она открывает выпуски «Библиотеки газеты „На вахте“. Книге Ермолина предпослано предисловие Константина Паустовского, которое стало его первой книжной публикацией. В этом же 1925 году в восьмом выпуске той же библиотечки будет напечатана первая его книга „Морские наброски“.
Сохранилась запись отца о Ермолине: «M. H. Ермолин – капитан дальнего плаванья, пьяница, редактор газеты „На вахте“… Водил пароходы в Персидский залив. Кладезь морских анекдотов».
5
Одна из историй Зузенко легла, как мне кажется, в основу неопубликованной повести «Голубой песец». Во всяком случае в ней передан колорит ежедневных поездок в пригородных поездах. Кроме того, в этой повести отец впервые подходит к теме «Соранга». Как опыт прозы раннего К. Паустовского фрагмент из повести будет, надеюсь, интересен читателям.
ГОЛУБОЙ ПЕСЕЦ
Отрывок из повести
– С кем бежать в ветер, в весенний холод, в счастье?
Из забытой книги
Я люблю пустые дачные поезда. Пустыми они бывают в сентябре, когда лимонная листва прилипает к ботинкам и ветер пахнет горечью.
Ночь пролетает за открытыми окнами – назад, – к Сергиеву, к Пушкину, к Мытищам, – ночь, вздрагивающая от торопливых паровозных гудков. Свечи пляшут в фонарях, разбрасывая по вагону тени. В лицо бьют редкие и теплые капли дождя, но никто не закрывает окон, ни я, ни мой сосед, молодой ученый, исследователь полярных стран, ни мальчик, старающийся схватитъ рукой шумящие мимо ветки деревьев.
За Лосиноостровской над свежестью мокрых рощ, в густом и черном небе встает голубая и нежная заря. Она восходит над миром далеким дрожащим свечением, она изгибается куполом, разгораясь с каждым километром.
Поезд врывается в сложные карты огней, паровозный пар падает на землю, насыщенный белым светом, мосты гремят торжественно и коротко, как боевой сигнал. В ущелье из темных вагонов, столпившихся у вокзала, мы врываемся, как снаряд, пахнущий березами и болотным туманом. Паровоз радостно ревет, – мертвая луна над затишьем Клязьмы, тусклые дачные фонари, – все позади. Впереди – шары огней, гром, перроны, запах апельсинов и табака, хрустящие скатерти в вокзальных буфетах, торопливые улыбки женщин, площади, реки автомобильных лучей, – впереди столица, Москва!
Я люблю дачные поезда еще и за то, что в темноте, когда потухнет свеча, люди говорят необычайные вещи, надеясь, что за грохотом колес не все будет слышно.
Однажды, такой вот сентябрьской ночью ученый, мой сосед по даче – Именитое, рассказал мне в поезде историю о том, как он замерзал. Он не был похож на ученого. Прежде всего для ученого он был слишком весел и прост. Мне кажется, что он был больше авантюристом, чем ученым, но полярным исследователям это простительно.
В полярных широтах авантюра, смерть и наука неотделимы. Недаром к имени величайшего человека нашего времени, к незабываемому имени Роальда Амундсена люди, почтительно обнажая головы, прибавляют эпитет «великий путешественник и авантюрист».
Эпохи причудливо меняют свои вкусы. Вместо крестовых походов в Палестину, обожженную, как рыжий кирпич, мы стали свидетелями крестовых походов на север, где трупы погибших покрываются пушистым инеем и звенят, как серебро. Сотни серебряных трупов и полюс за ними, который теперь можно только закрыть. Над полюсом нет ничего, – там пусто и снежно, и только Полярная звезда дрожит, раздуваемая ветром. Понятна тоска Амундсена о том, что земля слишком изучена и нет сил от нее оторваться.
Именитое пронес через полярные страны не только науку, авантюризм и смерть, но и нечто новое – любовь. Я приведу ниже его рассказ, перебивая его, по своей скверной привычке, некоторыми отступлениями.
Быть может они не нужны, но я должен восстановить сейчас не только рассказ Именитова, но всё, всю обстановку, в которой я услышал его и все волнение мое после этого рассказа.
Волнение это заводило меня далеко в сторону от рассказа, в мое детство, в скитания, в мою жизнь, разобраться в которой может кто угодно, но только не я.
МЕЖДУ ПУШКИНОМ И МЫТИЩАМИ
Дождь медленно сбивал с деревьев сгнившую листву. Это было в тот вечер, когда Именитое начал мне свой рассказ. Чтобы окончить его, понадобилось несколько поездок из Пушкина в Москву, и каждая из них вонзилась в гущу холодной подмосковной ночи, врезалась в мою память, как глава, написанная ослепительными буквами. Первую главу я называю «Смерть Omca».
– Вам это покажется неправдоподобным, – сказал Именитое, – но в прошлом году в Ледовитом океане работало двенадцать экспедиций. О них почти никто не знал и не знает, кроме ученых учреждений, которые их послали, и кроме нас, участников этих экспедиций.
Мне трудно восстановить подлинные слова Именитова. Я запомнил только эту фразу. Поэтому дальше я буду говорить за него.
Наша экспедиция попала вблизи острова Диксона в тяжелые льды. Подходила поздняя осень. Судно – моторный бот «Индига» – было раздавлено льдами. Команда и участники экспедиции дошли пешком до острова к радиостанции, где нам пришлось зимовать.
Стояла полярная ночь, – ведь нельзя же было принимать за дни вялые проблески серого света, угрюмые сумерки, щемившие сердце запоздалым сожалением о солнце. Остров был черен, ночи безмолвны как отчаянье, пурга неслась с полюса, обещая похоронить в снегах Россию, весь
мир, дойти до экватора.
Числа 15 – 17 я уже думаю быть в Москве. Архипов очень просит приехать второй раз осенью, – тогда он будет больше свободен и сможет поехать в северную, самую интересную часть Карелии. Сейчас там еще зима.
‹…› Я все же думаю, что было бы хорошо, если бы ты поехала в Коктебель – особенно я это чувствую сейчас, в этой слякоти и холоде. Подумай. И мальчишке было бы там хорошо. Деньги Марьямов, должно быть, уже перевел.
Как Дим-Передим? Я послал ему открытку с видом Кивача. Поцелуй его покрепче. Пиши – я успею еще получить твои письма. До отъезда в Олонец – напишу.
Целую. Кот
notes
ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ... Комментарии Вадима Паустовского
1
Второй том с повестями «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга скитаний» не выходил (ред.).
2
Мне хочется рассказать о главной фигуре своей рязанской родни по материнской линии – Петре Александровиче Загорском (1861 – 1938). Екатерине Степановне Загорской, моей маме, он приходится родным дядей.
Последние годы жизни Петр Александрович Загорский был протоиереем (главным священнослужителем) знаменитого Успенского собора в Рязани, что построен еще в XVII веке выдающимся русским зодчим того времени Бухвостовым. В более раннее время Петр Александрович имел приход в деревеньке Екимовке, куда в 1923 году после скитаний по югу, охваченному гражданской войной, приехали супруги Паустовские. Успенский храм в Екимовке, разрушенный в годы советской власти, недавно восстановлен и заново освящен в 1993 году.
Особо хочу остановиться на жене П. А. Загорского, так сказать, попадье – Анне Матвеевне Загорской, урожденной Зачатской (1868 – 1932). Высокая, красивая, властная, она, по сути, вела все семейство. Ее мы называли Бабуля.
Она была крестной матерью сестер Елены и Екатерины Загорских, а это в духовной среде означало очень многое. Фактически она взяла на себя все родительские функции по отношению к осиротевшим девочкам. Заботилась о них, содержала, отдавала в епархиальное училище, словом, растила и выводила в жизнь.
Бабулю мой отец ценил за многие свойства характера – незаурядный ум, настойчивость в сочетании с тактичностью, чувством юмора, которое она умело маскировала за внешней серьезностью. Отец считал ее воплощением типа рязанской женщины.
Теперь – о маме. Она также родилась на Рязанщине, в селе Подлесная Слобода, что находится между Луховицами и Зарайском. Отец ее Степан Александрович Загорский был здешним священником, мать Мария Яковлевна – сельской учительницей. И церковь и здание школы сохранились до наших дней, правда, церковь сильно обветшала.
Паустовский не застал в живых родителей невесты. Степан Александрович умер еще до рождения младшей дочери. Мария Яковлевна последовала за ним через считанные годы.
Фактически моя мать воспитывалась своей старшей сестрой Еленой Степановной Загорской, которую очень ценил мой отец.
Незамужняя Елена Степановна была «покровителем» брака моих родителей, и молодые супруги постоянно гостили у нее в городке Ефремове, где она преподавала в гимназии. Леля отличалась пытливым умом и, как говорил отец, «дисциплинированностью мысли». Это качество он также старался перенять у нее. Общим у него с ней была и любовь к странствиям. Леля, несмотря на свой скромный заработок, сумела объехать пол-Европы. Для любознательных учителей в ту пору это облегчалось существованием особых обществ, осуществлявших льготные поездки для педагогов. Впрочем, она больше любила ездить самостоятельно. После нее сохранилось много зарубежных проспектов и альбомов с открытками, которые я любил разглядывать в детстве.
Большим ударом для моих родителей, сказавшимся на их дальнейшей жизни, стала неожиданная смерть Лели от скоротечного сыпного тифа. Это случилось в разгар гражданской войны, когда отец и мама находились за линией фронта, в Киеве.
Мои родители после возвращения из Тифлиса почти сразу поехали в Екимовку. Но отец вскоре отправился в Москву искать работу, мама осталась в Екимовке.
3
К названию газеты автор «Книги скитаний» относился с иронией: «а почему не На стреме, не На цинке, не На подхвате?» Вместе с тем в этой же газете 3 декабря 1924 года сам помещает очерк под раскритикованным названием «На вахте».
4
В нашей домашней библиотеке есть тоненькая книжечка М. Ермолина с автографом автора К. Паустовскому. Книжечка выпущена в 1925 году, она открывает выпуски «Библиотеки газеты „На вахте“. Книге Ермолина предпослано предисловие Константина Паустовского, которое стало его первой книжной публикацией. В этом же 1925 году в восьмом выпуске той же библиотечки будет напечатана первая его книга „Морские наброски“.
Сохранилась запись отца о Ермолине: «M. H. Ермолин – капитан дальнего плаванья, пьяница, редактор газеты „На вахте“… Водил пароходы в Персидский залив. Кладезь морских анекдотов».
5
Одна из историй Зузенко легла, как мне кажется, в основу неопубликованной повести «Голубой песец». Во всяком случае в ней передан колорит ежедневных поездок в пригородных поездах. Кроме того, в этой повести отец впервые подходит к теме «Соранга». Как опыт прозы раннего К. Паустовского фрагмент из повести будет, надеюсь, интересен читателям.
ГОЛУБОЙ ПЕСЕЦ
Отрывок из повести
– С кем бежать в ветер, в весенний холод, в счастье?
Из забытой книги
Я люблю пустые дачные поезда. Пустыми они бывают в сентябре, когда лимонная листва прилипает к ботинкам и ветер пахнет горечью.
Ночь пролетает за открытыми окнами – назад, – к Сергиеву, к Пушкину, к Мытищам, – ночь, вздрагивающая от торопливых паровозных гудков. Свечи пляшут в фонарях, разбрасывая по вагону тени. В лицо бьют редкие и теплые капли дождя, но никто не закрывает окон, ни я, ни мой сосед, молодой ученый, исследователь полярных стран, ни мальчик, старающийся схватитъ рукой шумящие мимо ветки деревьев.
За Лосиноостровской над свежестью мокрых рощ, в густом и черном небе встает голубая и нежная заря. Она восходит над миром далеким дрожащим свечением, она изгибается куполом, разгораясь с каждым километром.
Поезд врывается в сложные карты огней, паровозный пар падает на землю, насыщенный белым светом, мосты гремят торжественно и коротко, как боевой сигнал. В ущелье из темных вагонов, столпившихся у вокзала, мы врываемся, как снаряд, пахнущий березами и болотным туманом. Паровоз радостно ревет, – мертвая луна над затишьем Клязьмы, тусклые дачные фонари, – все позади. Впереди – шары огней, гром, перроны, запах апельсинов и табака, хрустящие скатерти в вокзальных буфетах, торопливые улыбки женщин, площади, реки автомобильных лучей, – впереди столица, Москва!
Я люблю дачные поезда еще и за то, что в темноте, когда потухнет свеча, люди говорят необычайные вещи, надеясь, что за грохотом колес не все будет слышно.
Однажды, такой вот сентябрьской ночью ученый, мой сосед по даче – Именитое, рассказал мне в поезде историю о том, как он замерзал. Он не был похож на ученого. Прежде всего для ученого он был слишком весел и прост. Мне кажется, что он был больше авантюристом, чем ученым, но полярным исследователям это простительно.
В полярных широтах авантюра, смерть и наука неотделимы. Недаром к имени величайшего человека нашего времени, к незабываемому имени Роальда Амундсена люди, почтительно обнажая головы, прибавляют эпитет «великий путешественник и авантюрист».
Эпохи причудливо меняют свои вкусы. Вместо крестовых походов в Палестину, обожженную, как рыжий кирпич, мы стали свидетелями крестовых походов на север, где трупы погибших покрываются пушистым инеем и звенят, как серебро. Сотни серебряных трупов и полюс за ними, который теперь можно только закрыть. Над полюсом нет ничего, – там пусто и снежно, и только Полярная звезда дрожит, раздуваемая ветром. Понятна тоска Амундсена о том, что земля слишком изучена и нет сил от нее оторваться.
Именитое пронес через полярные страны не только науку, авантюризм и смерть, но и нечто новое – любовь. Я приведу ниже его рассказ, перебивая его, по своей скверной привычке, некоторыми отступлениями.
Быть может они не нужны, но я должен восстановить сейчас не только рассказ Именитова, но всё, всю обстановку, в которой я услышал его и все волнение мое после этого рассказа.
Волнение это заводило меня далеко в сторону от рассказа, в мое детство, в скитания, в мою жизнь, разобраться в которой может кто угодно, но только не я.
МЕЖДУ ПУШКИНОМ И МЫТИЩАМИ
Дождь медленно сбивал с деревьев сгнившую листву. Это было в тот вечер, когда Именитое начал мне свой рассказ. Чтобы окончить его, понадобилось несколько поездок из Пушкина в Москву, и каждая из них вонзилась в гущу холодной подмосковной ночи, врезалась в мою память, как глава, написанная ослепительными буквами. Первую главу я называю «Смерть Omca».
– Вам это покажется неправдоподобным, – сказал Именитое, – но в прошлом году в Ледовитом океане работало двенадцать экспедиций. О них почти никто не знал и не знает, кроме ученых учреждений, которые их послали, и кроме нас, участников этих экспедиций.
Мне трудно восстановить подлинные слова Именитова. Я запомнил только эту фразу. Поэтому дальше я буду говорить за него.
Наша экспедиция попала вблизи острова Диксона в тяжелые льды. Подходила поздняя осень. Судно – моторный бот «Индига» – было раздавлено льдами. Команда и участники экспедиции дошли пешком до острова к радиостанции, где нам пришлось зимовать.
Стояла полярная ночь, – ведь нельзя же было принимать за дни вялые проблески серого света, угрюмые сумерки, щемившие сердце запоздалым сожалением о солнце. Остров был черен, ночи безмолвны как отчаянье, пурга неслась с полюса, обещая похоронить в снегах Россию, весь
мир, дойти до экватора.