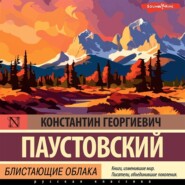По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга скитаний
Жанр
Серия
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Московские салопницы без всякой задней мысли называли Воспитательный дом «Вошпитательным». Таково было московское простонародное произношение.
Это был громадный, океанский дом с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами, сквозными чугунными лестницами, закоулками, подвалами, наводившими страх, парадными залами, домовой церковью и парикмахерской.
Чтобы обойти все это здание по коридорам, нужно было потратить почти час. Население Дворца Труда пользовалось коридорами, как дорожками для прогулок.
Во Дворце Труда мирно жили десятки всяких профессиональных газет и журналов, сейчас уже совершенно забытых.
Некоторые проворные молодые поэты обегали за день все этажи и редакции. Не выходя из Дворца Труда, они торопливо писали стихи и поэмы, прославлявшие людей всяких профессий, – работниц иглы, работников прилавка, пожарных, деревообделочников и служащих копиручета. Тут же они получали в редакциях гонорары и пропивали их в столовой на первом этаже. Там продавали пиво.
В столовой под низкими сводами всегда плавал слоистый табачный дым. Мы курили тогда дешевые папиросы «Червонец», – тонкие, как гвозди. Они были набиты по-разному – или так туго, что нужно было всасывать в себя воздух со страшной силой, почти до головокружения, чтобы добыть самую ничтожную порцию дыма, или, наоборот, так слабо, что при первой же затяжке папироса складывалась с противным щелканьем, как перочинный ножик. При этом пересохший табак высыпался в пиво или в тарелку с мутным супом.
На столиках в столовой стояли гортензии – шары водянисто-розовых цветов на голых длинных ножках. Эти цветы напоминали сухопарых немок с пышными бесцветными волосами. Вазоны с гортензиями были обернуты сиреневой папиросной бумагой и утыканы окурками.
Мы любили эту столовую. По нескольку раз в день мы собирались в ней, пили рыжий остывший кофе и много шумели.
По утрам в столовой было пусто, пахло только что вымытыми полами и паром. Окурки из вазонов были убраны. Шипело старое отопление. За окнами над Замоскворечьем наискось летел снег.
Как-то я сидел таким утром в столовой и дописывал рассказ «Этикетки для колониальных товаров». Неожиданно вошел Бабель. Я быстро прикрыл исписанные листки газетой, но Бабель подсел к моему столику, спокойно отодвинул газету и сказал:
– А ну, давайте! Я же любопытен до безобразия.
Он взял рукопись, близоруко поднес к глазам и прочел вслух первую фразу: «Вам, между прочим, не кажется, что этот закат освещает отдаленные горы, как лампа?»
Когда он читал, у меня от смущения похолодела голова.
– Это Батум? – спросил Бабель. – Да, конечно, милый Батум. Раздавленные мандарины на булыжнике и хриплое пение водосточных труб… Это у вас есть? Или будет?
Этого у меня в рассказе не было, но я от смущения сказал, что будет.
Бабель собрал в уголках глаз множество мелких морщинок и весело посмотрел на меня.
– Будет? – переспросил он. – Напрасно. Я растерялся.
– Напрасно! – повторил он. – По-моему, в таком деле не стоит доверять чужому глазу. У вас свой глаз. Я ему верю и потому не позаимствую у вас ни запятой. Зачем вам рассказы с чужим привкусом. Мы слишком любим привкусы, особенно западные. У вас привкус Конрада, у меня – Мопассана. Но мы ведь не Конрады и не Мопассаны. Да, кстати, в первой фразе у вас три лишних слова.
– Какие? – спросил я. – Покажите!
Бабель вынул карандаш и твердо вычеркнул слова: «между прочим», «этот» (закат) и «отдаленные» (горы). После этого он снова прочел исправленную первую фразу:
«Вам не кажется, что закат освещает горы, как лампа?»
– Так лучше?
– Лучше.
– Разные бывают лампы, – вскользь заметил Бабель. – А Батума нам не хватает. Помните тесный буфет в пассажирском пароходном агентстве? Когда запаздывал пароход из Одессы, мы приходили туда, сидели и ждали часами. Совершенно одни. А зачем – не знаю. На пристани были свалены сосновые доски. Скипидарные. По воде шлепал дождь. Мы пили потрясающий черный кофе. Щеки горели от морского зимнего воздуха. И на душе было грустно. Потому что красивые женщины остались на севере.
За нашей спиной прозвенела расшатанная стеклянная дверь. Бабель оглянулся и испуганно сказал:
– Спрячьте рассказ! Надвигается «могучая когорта».
Я успел спрятать рукопись. Вошли Гехт, Ильф, Олеша, Славин и Регинин.
Мы сдвинули столики, и начался разговор о том, что «Огонек» решил выпустить сборник рассказов молодых одесских писателей. В сборник включили Гехта, Славина, Ильфа, Багрицкого, Колычева, Гребнева и меня, хотя я не был одесситом и прожил в Одессе всего полтора года. Но все почему-то считали меня одесситом, очевидно, за мое пристрастие к одесским рассказам.
Бабель согласился написать для этого сборника предисловие.
Я знал еще по Одессе всех, кто сидел сейчас рядом за столиком. Но здесь они казались другими. Шум Черного моря отдалился на сотни километров, загар побледнел от зимних туманов. Кто знает, если бы все они не были пропитаны с детства морем, солнцем, причудливым бытом и южным весельем, то, может быть. из них не вышли бы писатели.
Особенно интересовал меня Ильф – спокойный, немногословный, со слегка угловатым, но привлекательным лицом. Большие губы делали его похожим на негра. Он был так же высок и тонок, как негры из Мали – самого изящного черного племени Африки.
Но больше всего поражала меня чистота его глаз, их блеск и пристальность. Блеск усиливался от толстых небольших стекол пенсне без оправы. Стекла были очень яркие, как будто сделанные из хрусталя.
Ильф был застенчив, прям, меток и порой насмешлив. Он ненавидел пренебрежительных людей и защищал от них людей робких и уступчивых. – тех, кого легко обидеть. Как-то при мне в большом обществе он холодно и презрительно срезал нескольких крупных актеров, которые подчеркнуто замечали только его, Ильфа, но не замечали остальных – простых и невидных людей. Они просто пренебрегали ими. Это было после головокружительного успеха «Двенадцати стульев». Ильф назвал поведение этих актеров подлостью.
У него был микроскопический глаз на пошлость. Поэтому он замечал и отрицал очень многое, чего другие не замечали или не хотели замечать. Он не любил слов:
«Что же тут такого?!» Это был щит, за которым прятались люди с уклончивой совестью.
Перед ним нельзя было лгать, ёрничать, легко осуждать людей и, кроме того, нельзя было быть невоспитанным и невежливым. При Ильфе невежи приходили в себя. Простое благородство его взглядов и поступков требовало от людей того же.
Ильф был человеком неожиданным. Иной раз его высказывания казались слишком резкими. Но почти всегда они были верными.
Однажды он вызвал сильное замешательство среди изощренных знатоков литературы, сказав, что Виктор Гюго по своей манере писать напоминает испорченную уборную. Бывают такие уборные, которые долго молчат, а потом вдруг сами по себе со страшным ревом спускают воду. Потом опять молчат и опять спускают воду все с тем же ревом.
– Вот точно так же, – сказал Ильф, – и Гюго с его неожиданными и гремящими отступлениями от прямого повествования. Идет оно неторопливо, читатель ничего не подозревает – и вдруг, как снег на голову, обрушивается длиннейшее отступление – о компрачикосах, бурях в океане или истории парижских клоак. О чем угодно.
Отступления эти с громом проносятся мимо ошеломленного читателя. Потом все стихает, и снова плавным потоком льется повествование.
Я спорил с Ильфом. Мне нравилась манера Гюго. Я думал тогда – и думаю это и сейчас, – что повествование должно быть совершенно свободным, дерзким, что единственный закон для него – это воля автора. Писатель может менять ритм, характер и окраску повествования как ему будет угодно. Об этом и о многом другом мы говорили в сумрачной столовой.
Пришла мохнатая и будто заспанная зима. В два часа уже зажигали электричество. Снег за окнами становился синим. Уличные фонари желтели, и гортензии на столиках оживали и покрывались слабым румянцем.
Регинин утверждал, что цветы, как и люди, стали теперь неврастениками. Всем известно, что неврастеники мутно и расслабленно проводят день, а к вечеру веселеют и расцветают.
Однажды в столовую вошел со значительным и таинственным видом Семен Гехт.
Я познакомился с ним в редакции «На вахте». Он приносил туда очерки о маленьких черноморских портах. Не об Одессах, Херсонах и Николаевах, а о таких приморских городах, как, скажем, Аккерман, Очаков, Алешки, Голая Пристань или Скадовск. Там пароходы подваливали к ветхим дощатым пристаням – скрипучим, шатким и облепленным рыбьей чешуей.
Очерки были лаконичные, сочные и живописные, как черноморские гамливые базары. Написаны они были просто, но, как говорил Евгений Иванов, «с непонятным секретом».
Секрет заключался в том, что очерки эти резко действовали на все пять человеческих чувств.
Они пахли морем, акацией, бахчами и нагретым инкерманским камнем.
Вы осязали на своем лице дыхание разнообразных морских ветров, а на руках – тяжесть смолистых канатов. В них между волокон пеньки поблескивали маленькие кристаллы соли.
Вы чувствовали вкус зеленоватой едкой брынзы и маленьких дынь канталуп.
Это был громадный, океанский дом с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами, сквозными чугунными лестницами, закоулками, подвалами, наводившими страх, парадными залами, домовой церковью и парикмахерской.
Чтобы обойти все это здание по коридорам, нужно было потратить почти час. Население Дворца Труда пользовалось коридорами, как дорожками для прогулок.
Во Дворце Труда мирно жили десятки всяких профессиональных газет и журналов, сейчас уже совершенно забытых.
Некоторые проворные молодые поэты обегали за день все этажи и редакции. Не выходя из Дворца Труда, они торопливо писали стихи и поэмы, прославлявшие людей всяких профессий, – работниц иглы, работников прилавка, пожарных, деревообделочников и служащих копиручета. Тут же они получали в редакциях гонорары и пропивали их в столовой на первом этаже. Там продавали пиво.
В столовой под низкими сводами всегда плавал слоистый табачный дым. Мы курили тогда дешевые папиросы «Червонец», – тонкие, как гвозди. Они были набиты по-разному – или так туго, что нужно было всасывать в себя воздух со страшной силой, почти до головокружения, чтобы добыть самую ничтожную порцию дыма, или, наоборот, так слабо, что при первой же затяжке папироса складывалась с противным щелканьем, как перочинный ножик. При этом пересохший табак высыпался в пиво или в тарелку с мутным супом.
На столиках в столовой стояли гортензии – шары водянисто-розовых цветов на голых длинных ножках. Эти цветы напоминали сухопарых немок с пышными бесцветными волосами. Вазоны с гортензиями были обернуты сиреневой папиросной бумагой и утыканы окурками.
Мы любили эту столовую. По нескольку раз в день мы собирались в ней, пили рыжий остывший кофе и много шумели.
По утрам в столовой было пусто, пахло только что вымытыми полами и паром. Окурки из вазонов были убраны. Шипело старое отопление. За окнами над Замоскворечьем наискось летел снег.
Как-то я сидел таким утром в столовой и дописывал рассказ «Этикетки для колониальных товаров». Неожиданно вошел Бабель. Я быстро прикрыл исписанные листки газетой, но Бабель подсел к моему столику, спокойно отодвинул газету и сказал:
– А ну, давайте! Я же любопытен до безобразия.
Он взял рукопись, близоруко поднес к глазам и прочел вслух первую фразу: «Вам, между прочим, не кажется, что этот закат освещает отдаленные горы, как лампа?»
Когда он читал, у меня от смущения похолодела голова.
– Это Батум? – спросил Бабель. – Да, конечно, милый Батум. Раздавленные мандарины на булыжнике и хриплое пение водосточных труб… Это у вас есть? Или будет?
Этого у меня в рассказе не было, но я от смущения сказал, что будет.
Бабель собрал в уголках глаз множество мелких морщинок и весело посмотрел на меня.
– Будет? – переспросил он. – Напрасно. Я растерялся.
– Напрасно! – повторил он. – По-моему, в таком деле не стоит доверять чужому глазу. У вас свой глаз. Я ему верю и потому не позаимствую у вас ни запятой. Зачем вам рассказы с чужим привкусом. Мы слишком любим привкусы, особенно западные. У вас привкус Конрада, у меня – Мопассана. Но мы ведь не Конрады и не Мопассаны. Да, кстати, в первой фразе у вас три лишних слова.
– Какие? – спросил я. – Покажите!
Бабель вынул карандаш и твердо вычеркнул слова: «между прочим», «этот» (закат) и «отдаленные» (горы). После этого он снова прочел исправленную первую фразу:
«Вам не кажется, что закат освещает горы, как лампа?»
– Так лучше?
– Лучше.
– Разные бывают лампы, – вскользь заметил Бабель. – А Батума нам не хватает. Помните тесный буфет в пассажирском пароходном агентстве? Когда запаздывал пароход из Одессы, мы приходили туда, сидели и ждали часами. Совершенно одни. А зачем – не знаю. На пристани были свалены сосновые доски. Скипидарные. По воде шлепал дождь. Мы пили потрясающий черный кофе. Щеки горели от морского зимнего воздуха. И на душе было грустно. Потому что красивые женщины остались на севере.
За нашей спиной прозвенела расшатанная стеклянная дверь. Бабель оглянулся и испуганно сказал:
– Спрячьте рассказ! Надвигается «могучая когорта».
Я успел спрятать рукопись. Вошли Гехт, Ильф, Олеша, Славин и Регинин.
Мы сдвинули столики, и начался разговор о том, что «Огонек» решил выпустить сборник рассказов молодых одесских писателей. В сборник включили Гехта, Славина, Ильфа, Багрицкого, Колычева, Гребнева и меня, хотя я не был одесситом и прожил в Одессе всего полтора года. Но все почему-то считали меня одесситом, очевидно, за мое пристрастие к одесским рассказам.
Бабель согласился написать для этого сборника предисловие.
Я знал еще по Одессе всех, кто сидел сейчас рядом за столиком. Но здесь они казались другими. Шум Черного моря отдалился на сотни километров, загар побледнел от зимних туманов. Кто знает, если бы все они не были пропитаны с детства морем, солнцем, причудливым бытом и южным весельем, то, может быть. из них не вышли бы писатели.
Особенно интересовал меня Ильф – спокойный, немногословный, со слегка угловатым, но привлекательным лицом. Большие губы делали его похожим на негра. Он был так же высок и тонок, как негры из Мали – самого изящного черного племени Африки.
Но больше всего поражала меня чистота его глаз, их блеск и пристальность. Блеск усиливался от толстых небольших стекол пенсне без оправы. Стекла были очень яркие, как будто сделанные из хрусталя.
Ильф был застенчив, прям, меток и порой насмешлив. Он ненавидел пренебрежительных людей и защищал от них людей робких и уступчивых. – тех, кого легко обидеть. Как-то при мне в большом обществе он холодно и презрительно срезал нескольких крупных актеров, которые подчеркнуто замечали только его, Ильфа, но не замечали остальных – простых и невидных людей. Они просто пренебрегали ими. Это было после головокружительного успеха «Двенадцати стульев». Ильф назвал поведение этих актеров подлостью.
У него был микроскопический глаз на пошлость. Поэтому он замечал и отрицал очень многое, чего другие не замечали или не хотели замечать. Он не любил слов:
«Что же тут такого?!» Это был щит, за которым прятались люди с уклончивой совестью.
Перед ним нельзя было лгать, ёрничать, легко осуждать людей и, кроме того, нельзя было быть невоспитанным и невежливым. При Ильфе невежи приходили в себя. Простое благородство его взглядов и поступков требовало от людей того же.
Ильф был человеком неожиданным. Иной раз его высказывания казались слишком резкими. Но почти всегда они были верными.
Однажды он вызвал сильное замешательство среди изощренных знатоков литературы, сказав, что Виктор Гюго по своей манере писать напоминает испорченную уборную. Бывают такие уборные, которые долго молчат, а потом вдруг сами по себе со страшным ревом спускают воду. Потом опять молчат и опять спускают воду все с тем же ревом.
– Вот точно так же, – сказал Ильф, – и Гюго с его неожиданными и гремящими отступлениями от прямого повествования. Идет оно неторопливо, читатель ничего не подозревает – и вдруг, как снег на голову, обрушивается длиннейшее отступление – о компрачикосах, бурях в океане или истории парижских клоак. О чем угодно.
Отступления эти с громом проносятся мимо ошеломленного читателя. Потом все стихает, и снова плавным потоком льется повествование.
Я спорил с Ильфом. Мне нравилась манера Гюго. Я думал тогда – и думаю это и сейчас, – что повествование должно быть совершенно свободным, дерзким, что единственный закон для него – это воля автора. Писатель может менять ритм, характер и окраску повествования как ему будет угодно. Об этом и о многом другом мы говорили в сумрачной столовой.
Пришла мохнатая и будто заспанная зима. В два часа уже зажигали электричество. Снег за окнами становился синим. Уличные фонари желтели, и гортензии на столиках оживали и покрывались слабым румянцем.
Регинин утверждал, что цветы, как и люди, стали теперь неврастениками. Всем известно, что неврастеники мутно и расслабленно проводят день, а к вечеру веселеют и расцветают.
Однажды в столовую вошел со значительным и таинственным видом Семен Гехт.
Я познакомился с ним в редакции «На вахте». Он приносил туда очерки о маленьких черноморских портах. Не об Одессах, Херсонах и Николаевах, а о таких приморских городах, как, скажем, Аккерман, Очаков, Алешки, Голая Пристань или Скадовск. Там пароходы подваливали к ветхим дощатым пристаням – скрипучим, шатким и облепленным рыбьей чешуей.
Очерки были лаконичные, сочные и живописные, как черноморские гамливые базары. Написаны они были просто, но, как говорил Евгений Иванов, «с непонятным секретом».
Секрет заключался в том, что очерки эти резко действовали на все пять человеческих чувств.
Они пахли морем, акацией, бахчами и нагретым инкерманским камнем.
Вы осязали на своем лице дыхание разнообразных морских ветров, а на руках – тяжесть смолистых канатов. В них между волокон пеньки поблескивали маленькие кристаллы соли.
Вы чувствовали вкус зеленоватой едкой брынзы и маленьких дынь канталуп.