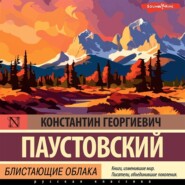По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книга скитаний
Жанр
Серия
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Второе зузенковское преимущество было связано с утренними поездками в Москву. Во время этих поездок я выслушал множество увлекательных историй из его жизни[5 - Одна из историй Зузенко легла, как мне кажется, в основу неопубликованной повести «Голубой песец». Во всяком случае в ней передан колорит ежедневных поездок в пригородных поездах. Кроме того, в этой повести отец впервые подходит к теме «Соранга». Как опыт прозы раннего К. Паустовского фрагмент из повести будет, надеюсь, интересен читателям.ГОЛУБОЙ ПЕСЕЦОтрывок из повести– С кем бежать в ветер, в весенний холод, в счастье?Из забытой книгиЯ люблю пустые дачные поезда. Пустыми они бывают в сентябре, когда лимонная листва прилипает к ботинкам и ветер пахнет горечью.Ночь пролетает за открытыми окнами – назад, – к Сергиеву, к Пушкину, к Мытищам, – ночь, вздрагивающая от торопливых паровозных гудков. Свечи пляшут в фонарях, разбрасывая по вагону тени. В лицо бьют редкие и теплые капли дождя, но никто не закрывает окон, ни я, ни мой сосед, молодой ученый, исследователь полярных стран, ни мальчик, старающийся схватитъ рукой шумящие мимо ветки деревьев.За Лосиноостровской над свежестью мокрых рощ, в густом и черном небе встает голубая и нежная заря. Она восходит над миром далеким дрожащим свечением, она изгибается куполом, разгораясь с каждым километром.Поезд врывается в сложные карты огней, паровозный пар падает на землю, насыщенный белым светом, мосты гремят торжественно и коротко, как боевой сигнал. В ущелье из темных вагонов, столпившихся у вокзала, мы врываемся, как снаряд, пахнущий березами и болотным туманом. Паровоз радостно ревет, – мертвая луна над затишьем Клязьмы, тусклые дачные фонари, – все позади. Впереди – шары огней, гром, перроны, запах апельсинов и табака, хрустящие скатерти в вокзальных буфетах, торопливые улыбки женщин, площади, реки автомобильных лучей, – впереди столица, Москва!Я люблю дачные поезда еще и за то, что в темноте, когда потухнет свеча, люди говорят необычайные вещи, надеясь, что за грохотом колес не все будет слышно.Однажды, такой вот сентябрьской ночью ученый, мой сосед по даче – Именитое, рассказал мне в поезде историю о том, как он замерзал. Он не был похож на ученого. Прежде всего для ученого он был слишком весел и прост. Мне кажется, что он был больше авантюристом, чем ученым, но полярным исследователям это простительно.В полярных широтах авантюра, смерть и наука неотделимы. Недаром к имени величайшего человека нашего времени, к незабываемому имени Роальда Амундсена люди, почтительно обнажая головы, прибавляют эпитет «великий путешественник и авантюрист».Эпохи причудливо меняют свои вкусы. Вместо крестовых походов в Палестину, обожженную, как рыжий кирпич, мы стали свидетелями крестовых походов на север, где трупы погибших покрываются пушистым инеем и звенят, как серебро. Сотни серебряных трупов и полюс за ними, который теперь можно только закрыть. Над полюсом нет ничего, – там пусто и снежно, и только Полярная звезда дрожит, раздуваемая ветром. Понятна тоска Амундсена о том, что земля слишком изучена и нет сил от нее оторваться.Именитое пронес через полярные страны не только науку, авантюризм и смерть, но и нечто новое – любовь. Я приведу ниже его рассказ, перебивая его, по своей скверной привычке, некоторыми отступлениями.Быть может они не нужны, но я должен восстановить сейчас не только рассказ Именитова, но всё, всю обстановку, в которой я услышал его и все волнение мое после этого рассказа.Волнение это заводило меня далеко в сторону от рассказа, в мое детство, в скитания, в мою жизнь, разобраться в которой может кто угодно, но только не я.МЕЖДУ ПУШКИНОМ И МЫТИЩАМИ Дождь медленно сбивал с деревьев сгнившую листву. Это было в тот вечер, когда Именитое начал мне свой рассказ. Чтобы окончить его, понадобилось несколько поездок из Пушкина в Москву, и каждая из них вонзилась в гущу холодной подмосковной ночи, врезалась в мою память, как глава, написанная ослепительными буквами. Первую главу я называю «Смерть Omca».– Вам это покажется неправдоподобным, – сказал Именитое, – но в прошлом году в Ледовитом океане работало двенадцать экспедиций. О них почти никто не знал и не знает, кроме ученых учреждений, которые их послали, и кроме нас, участников этих экспедиций.Мне трудно восстановить подлинные слова Именитова. Я запомнил только эту фразу. Поэтому дальше я буду говорить за него.Наша экспедиция попала вблизи острова Диксона в тяжелые льды. Подходила поздняя осень. Судно – моторный бот «Индига» – было раздавлено льдами. Команда и участники экспедиции дошли пешком до острова к радиостанции, где нам пришлось зимовать.Стояла полярная ночь, – ведь нельзя же было принимать за дни вялые проблески серого света, угрюмые сумерки, щемившие сердце запоздалым сожалением о солнце. Остров был черен, ночи безмолвны как отчаянье, пурга неслась с полюса, обещая похоронить в снегах Россию, весьмир, дойти до экватора.Мы попали в места, где рождались зимы, ветры и смертоносные морозы. От них дальше к югу тайга трещит и сверкает и воздух становится куском льда, преломляющим жесткие звезды.На радиостанции я перечитал несколько раз книгу «Дневник капитана Скотта». Других книг не было. Вся литература показалась мне праздной болтовней перед этим дневником смерти, дневником людей, безропотно гибнущих от гангрены, голода и потрясающей стужи в ледяных пустынях Антарктики, где даже названия нависают черной и непоправимой угрозой. Особенно запомнилось название одной из гор – «Ужас».К Южному полюсу экспедиция Скотта шла на лыжах. Их было пять человек. Один шел с сотрясением мозга (он несколько раз падал в глубокие трещины во льду). Вблизи полюса шедший впереди остановился, – на снежной белизне что-то чернело. Сердце у Скотта упало, – он понял, в чем дело. Два часа они стояли, не двигаясь, боясь подойти, боясь увериться в том, во что они не хотели верить. Но Скотт знал, черное на снегу – была палатка, брошенная Амундсеном. Норвежец их обогнал. Это был конец. С этой минуты Скотт понял, что им не осилить обратного пути, не проволочить за сотни миль по обледенелым снегам кровоточащие распухшие ноги. Тогда всем поровну был роздан яд.Все знают имена Нансена, Амундсена, Шекльтона и Беринга, но никто не знает имени лейтенанта Omca.Лейтенант Отс шел обратно с полюса в жару, в гангрене, с помутившимся сознанием. Он задерживал экспедицию. Он понимал, что из-за него погибнут все. Нужен был выход. И Отс его нашел. Капитан Скотт пишет:«17 марта 1911 года. Третьего дня Отс сказал, что дальше идти не может, и попросил нас оставить его, уложив в спальный мешок. Этого мы сделать не могли и уговорили его идти с нами. Несмотря на нечеловеческую боль, он крепился, и мы сделали еще несколько миль. К ночи ему стало хуже. Мы знали, что это конец.Он до самого конца не терял, не позволял себе терять надежду. Конец же был вот какой: он уснул предыдущей ночью, надеясь не проснуться, однако утром проснулся. Это было вчера. Была метель. Он оказал: «Пойду пройдусь. Может быть, вернусь нескоро». Он ушел в метель, и мы его больше не видели. Он поступил как благородный человек».Имя самоубийцы Omca должно быть вписано в историю человечества рядом с именами Нансена и Галлилея, Пушкина и Леонардо да Винчи. Экспедиция погибла. Вот последняя запись Скотта: «Топлива нет… Пищи осталось на раз. Должно быть, конец близок. Девять дней свирепствует непрерывный шторм. Нет возможности выйти из палатки, – так снег несет и крутит. Не думаю, чтобы мы могли еще на что-то надеяться. Мы выдержим до конца, но мы все слабеем и смерть недалеко.Мы рисковали, рисковали сознательно. Нам была во всем неудача. Если бы мы остались живы, я бы такие вещи рассказал о мужестве, выносливости и отваге моих товарищей, которые потрясли бы каждого человека. Повесть эту пусть расскажут мои записки и наши мертвые тела. Но не может быть, чтобы такая богатая страна, как Англия, не позаботилась о наших близких».Трупы Скотта и его спутников нашли через восемь месяцев. Не знаю, услышала ли Англия последний отчаянный вопль гибнущего капитана Скотта о близких? Этот свой вопль Скотт бросил всему человечеству, как бы призывая его в свидетели, – должно быть, у него были основания сомневаться в том, что богатая Англия поможет его крошечным детям.Когда Именитое рассказывал об этом, я вспомнил, что имущество Амундсена было продано после его смерти с молотка. Значит, вопль Скотта не был напрасен.«СО-РАНГ»За Мытищами над ночными поездами восходит нежная и неподвижная заря. В свете этой зари я услышал еще одно отступление от темы, новый рассказ о ветре со странным названием «со-ранг».Отс замерз. Очевидно, это вызвало у Именитова мысль о ветре «со-ранг». А может быть, наоборот. Я не охотник рыться в закономерности настроений. Мне трудно подымать пласты уничтожающих друг друга причин людских поступков и слов. Я верю, что люди, роющиеся в архивах человеческих душ, преждевременно стареют и теряют порывк творчеству.Синий цвет я воспринимаю как глубокий неутомительный блеск (ему нет подобного в мире), воспринимаю просто, вне зависимости от того, из каких частей он состоит. Так же я воспринял и слова Именитова о «со-ранге».С острова Диксона Именитое с двумя матросами ушел на материк к устью Енисея. Шли в феврале, когда кончалась полярная ночь. Больное солнце показывалось в полдень на несколько минут над горизонтом. Стояла стужа, острая как осколки стекла. Она царапала легкие, иголками покалывала сердце, вымораживала все мысли, кроме одной, – до первого поселения надо дойти во что бы то ни стало. У каждого были свои причины, у матросов – тоска по дому, у Именитова – тоска по человеку.В устье Енисея, в нескольких часах пути от первого поселка Голь-чихи, Именитое замерзал. Матросы его спасли. Замерзая, он видел сон, и сон этот он назвал «со-ранг». Сон был такой:«Россия, засыпанная легким снегом. Мягкая, будто приморская зима, когда спички в руках курильщиков не гаснут и пламя их не колеблется от ветра. В такие зимы кажется, что мощные и свежие пласты морского воздуха легли на землю. Поэтому, должно быть, снег пахнет морской водой.В такую зиму к Именитову в Москве пришел Отс. Синий свет блестел в его зрачках – цвет моря, цвет его молодых глаз. (Отсу было 25 лет.)– Я воскрес, – сказал Отс Именитову, засмеялся и показал свои сильные пальцы. – Через час я покажу вам то, что спасло меня. А теперь – едем. Я привез вам пригласительный билет.– Куда?– На праздник «со-ранга».Именитое прочел приглашение. На куске белого картона было напечатано:«Вы приглашаетесь прибыть в Архангельское, в бывший дворец Юсупова на праздник „со-ранга“, сегодня к полночи. „Co-ранг“ начнетсяв два часа ночи и будет продолжаться, по вычислениям метеорологов,до шести часов утра.Примечание. «Co-ранг» – короткий южный ветер среди зимы, впервые дующий в этом году в России. Он насыщен запахом тропических плодов и трав. Действие его на человеческий организм вы испытаете сами».Отс распахнул окно и выглянул на улицу…»].
Как только Зузенко входил в вагон в Пушкине, он тотчас начинал рассказывать мне эти истории. Любопытные пассажиры подсаживались поближе.
Вскоре слух об этих рассказах прошел по всему Пушкину. В вагон, куда садился Зузенко, набивалось столько народу, что негде было присесть. Чтобы лучше слышать, пассажиры тесно сбивались вокруг капитана и наваливались мне на спину. Я долго потом не мог отдышаться.
Приходил кондуктор и начинал речь о неправильной нагрузке поезда. Все вагоны пустые, а в этот не втиснешься. Да он и не рассчитан на такую уйму пассажиров. Беспорядок! Наверняка загорятся буксы.
Каждый раз Зузенко и пассажиры вступали с кондуктором в беспорядочный технический спор и доказывали ему, что вагон «не просядет и буксы никак не сгорят».
Зузенко приносил в редакцию «На вахте» свои воспоминания о плаваниях. Воспоминания эти он печатал на старой машинке с латинским шрифтом. В тех местах, где латинские буквы не совпадали с русскими, Зузенко вписывал русские буквы от руки. Это была каторжная работа.
Мне нравился у Зузенко насмешливый взгляд, взвешивающий собеседника, тяжелая и осторожная поступь, будто по палубе в шторм, грубоватый юмор и склонность к сложным и наивным предприятиям ради сомнительного заработка.
В то время в России было много безработных морских капитанов по той причине, что совсем не было морских кораблей. Поэтому Зузенко числился в резерве советского торгового флота. Он дожидался, когда наконец появится подходящее, по его словам, «корыто», на котором он будет плавать если не капитаном, то хотя бы третьим помощником. За пребывание в резерве Зузенко получал ничтожную ставку и потому постоянно изыскивал способы перехватить деньжат.
Был нэп. Нэпманов и так называемых «частников» Зузенко ненавидел люто и необратимо.
То было племя барышников и комбинаторов. Те из них, кто был повыше рангом и побогаче, пытались придать себе вид промышленников, крупных торговцев и дельцов. Но дальше этого внешнего вида дело, обычно, не шло, и все знали, что это – «липа».
В общем, мы относились к нэпу скептически. Все знали, что нэп – явление временное, что с первых же дней своего рождения он дышит на ладан и, совершив свое дело, будет выброшен на свалку истории. Так оно и случилось.
Но нэпманы всех раздражали. Они дико торопились обогащаться. Они задыхались от спешки и шалели от всяческих комбинаций и неизбежного страха. Пределы дозволенного были не особенно ясны. Любой шаг мог оказаться роковым. Все это сообщало характеру нэпманов истеричность. Их существование с судорожным и кургузым размахом, облезлыми автомобилями, увядшими красавицами и ресторанной цыганщиной напоминало плохо сыгранный спектакль.
Где-то в Сибири и на Дальнем Востоке сдавались в концессии рудники и золотые прииски, но это было так далеко от Москвы, что казалось нереальным, и, может быть, поэтому не вызывало тревоги. Мы же сталкивались только с нэпмановской «плотвой». Нас, конечно, не могли смутить кислые дамы и старушенции, торговавшие пончиками и самодельными тянучками из окон своих комнат в первых этажах домов.
Соблазнительные свои товары они раскладывали на подоконниках. Там, кроме пирожков и печенья, можно было увидеть горки пиленого сахара на облезлом фарфоровом блюде (настоящий «сакс»), вязаные галстуки, зажигалки, китовый ус для корсетов и нарядные – розовые и голубые – резинки для дамских подвязок, негодные к употреблению, так как резина давно пересохла. Мы воспринимали нэп главным образом с бытовой и комической стороны.
Особенно славился в то время в Москве «король древесного угля» Яков Рацер. Предприятие его помещалось в Марьиной Роще против дома, где жил Гехт. Каждое утро, чуть начинало светать, Яков Рацер выходил на балкон своего дома и пропускал мимо себя весь длинный обоз угольщиков на колченогих конях. Рацер стоял, как полководец, принимающий парад своих «войск».
После парада угольщики расползались по всем закоулкам Москвы, оглашая дворы унылыми криками: «Вот уголек, кому надо!» Все в угольной пыли, они походили на негритосов. Они удивляли москвичей эмалевой белизной глазных яблок под сизыми веками.
Время от времени Яков Рацер печатал в «Известиях» объявление: «Бывали случаи, что уголь у Якова Рацера оказывался неполновесным, но не было случаев, чтобы уголь у Якова Рацера оказывался сырым». На кульках с самоварным углем Яков Рацер печатал несколько иные и довольно изысканные рекламные стихи:
Так говорит Заратустра:
«Кто рекламирует шустро,
Но не пленяет товаром,
Тот рекламирует даром».
Уголь ли нужен, дрова ли,
Рацера фирма едва ли
Будет Москвою забота, —
Слава недаром добыта!
Широко известен был еще один частник по фамилии Функ. Он открыл в Москве производство сапожного крема. Функ тоже понимал толк в рекламе. На всех улицах висели на фонарях веселые человечки, вырезанные из жести. Они танцевали чечетку, приподняв над головой желтые щегольские канотье, сверкая зубами и сияющими ботинками, только что начищенными пастой Функ.
Человечки восторженно призывали чистить обувь только пастой Функ. Этот призыв выглядел в то время нелепо. По всем улицам шлепали заскорузлыми босыми ногами беспризорники, а обуви, требующей столь идеальной чистки, в Москве вообще не было.
Москва была полна беспризорными. Их вылавливали, увозили в колонии, но они снова возникали на улицах и рынках, ходили стаями, играли в карты в глухих закоулках, спали в подъездах и в пустых асфальтовых котлах, воровали, выпрашивали папиросы и пели по трамваям блатные песни, отбивая такт деревянными ложками.
Вплотную с беспризорными я встретился в ночном пригородном поезде. Это случилось поздней осенью перед жестокими морозами 1924 года.
Однажды мы с Зузенко вошли в плохо освещенный вагон. Ярко светили только фонари на платформе. Их свет проникал внутрь вагона сквозь забрызганные дождем окна. Дождь лил холодный, упорный, с ознобом. В углу вагона шевелилась груда серого тряпья.
– Нетопыри! – сказал Зузенко.
Это были беспризорные. Они лежали вповалку на полу, прижавшись друг к другу, прикрывая собой самого маленького мальчика лет восьми. Свет фонаря падал на него, и первое, что я заметил, это его большие глаза без слез, а потом – дрожь, ужасную неудержимую дрожь его высохшего маленького тела. Он дрожал так, что в ответ на его дрожь позванивало расшатанное стекло в окне вагона. Лежавшие по сторонам мальчишки натягивали на него полы своих рваных «клифтов».
«Клифтами» или «жакетами» называлась одежда беспризорных – кофты или пиджаки с чужого, взрослого плеча, – длинные, ниже колен, с болтающимися рукавами. От времени, пыли и грязи «клифты» приобрели одинаковый мышино-серый цвет и блестели, будто смазанные маслом.
В рваных, обвисших карманах этих «клифтов» хранилось все имущество беспризорников – «марафет», ножи, папиросы, корки хлеба, спички, засаленные карты и обрывки грязных бинтов. Под «клифтами» даже не было истлевших рубах, а желтело озябшее зеленоватое тело, расчесанное в кровавые полосы.
– Не трусись, Царевич, – проговорил осипшим голосом мальчик постарше. – В Мытищах отогреемся.
Вошел кондуктор, посветил на беспризорников фонарем, выругался и прошел мимо.
Мы сели поодаль. В вагоне, кроме нас, почти не было пассажиров. А те немногие, что вошли, сидели тихо и будто ничего не замечали.
– А ну, пацаны! – вдруг сказал Зузенко. – Желающие покурить – вали сюда!
– Встал и подошел только мальчик постарше. Остальные – их было трое – продолжали лежать.
Мальчик сел на скамью против нас, поджал босые ноги, жадно закурил, длинно сплюнул и сказал, поглядывая на слабо блестевший морской герб (так называемый «краб») на фуражке Зузенко:
– Ты, моряк, красивый сам собою…
– Заткнись, пацан! – оборвал его Зузенко. Но мальчик, глядя в сторону, вдруг запел во весь хриплый детский голос:
Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет.
Я остался сиротою,
Счастья, доли мне нет!
– Ты это брось! – повторил Зузенко. – Не до шуточек. Дружок твой пропадает вконец.
– Это Шурка-Царевич, – объяснил беспризорник. – А я зовусь Летчик.
– Есть предложение, – так же спокойно сказал Зузенко. – Нельзя его так оставлять.
– Ага! – равнодушно ответил Летчик и высморкался в длинный, как труба, черный рукав. – Второй день горит, аж светится.
– Так вот! Айда к нам в Пушкино. У нас дача. Одну комнату протопим, переживете несколько дней, а там видно будет. Дальше будете действовать по своему усмотрению. Нельзя такого пацанчика загубить.
– А вы нас не зацапаете?
– Балда! – сказал, всерьез обидевшись, Зузенко. – Я капитан дальнего плавания. Понял? А это писатель.
– Шамовку дадите? – спросил Летчик. – На всех, на четверых?
– А ты, видно, и вправду дурак!
Как только Зузенко входил в вагон в Пушкине, он тотчас начинал рассказывать мне эти истории. Любопытные пассажиры подсаживались поближе.
Вскоре слух об этих рассказах прошел по всему Пушкину. В вагон, куда садился Зузенко, набивалось столько народу, что негде было присесть. Чтобы лучше слышать, пассажиры тесно сбивались вокруг капитана и наваливались мне на спину. Я долго потом не мог отдышаться.
Приходил кондуктор и начинал речь о неправильной нагрузке поезда. Все вагоны пустые, а в этот не втиснешься. Да он и не рассчитан на такую уйму пассажиров. Беспорядок! Наверняка загорятся буксы.
Каждый раз Зузенко и пассажиры вступали с кондуктором в беспорядочный технический спор и доказывали ему, что вагон «не просядет и буксы никак не сгорят».
Зузенко приносил в редакцию «На вахте» свои воспоминания о плаваниях. Воспоминания эти он печатал на старой машинке с латинским шрифтом. В тех местах, где латинские буквы не совпадали с русскими, Зузенко вписывал русские буквы от руки. Это была каторжная работа.
Мне нравился у Зузенко насмешливый взгляд, взвешивающий собеседника, тяжелая и осторожная поступь, будто по палубе в шторм, грубоватый юмор и склонность к сложным и наивным предприятиям ради сомнительного заработка.
В то время в России было много безработных морских капитанов по той причине, что совсем не было морских кораблей. Поэтому Зузенко числился в резерве советского торгового флота. Он дожидался, когда наконец появится подходящее, по его словам, «корыто», на котором он будет плавать если не капитаном, то хотя бы третьим помощником. За пребывание в резерве Зузенко получал ничтожную ставку и потому постоянно изыскивал способы перехватить деньжат.
Был нэп. Нэпманов и так называемых «частников» Зузенко ненавидел люто и необратимо.
То было племя барышников и комбинаторов. Те из них, кто был повыше рангом и побогаче, пытались придать себе вид промышленников, крупных торговцев и дельцов. Но дальше этого внешнего вида дело, обычно, не шло, и все знали, что это – «липа».
В общем, мы относились к нэпу скептически. Все знали, что нэп – явление временное, что с первых же дней своего рождения он дышит на ладан и, совершив свое дело, будет выброшен на свалку истории. Так оно и случилось.
Но нэпманы всех раздражали. Они дико торопились обогащаться. Они задыхались от спешки и шалели от всяческих комбинаций и неизбежного страха. Пределы дозволенного были не особенно ясны. Любой шаг мог оказаться роковым. Все это сообщало характеру нэпманов истеричность. Их существование с судорожным и кургузым размахом, облезлыми автомобилями, увядшими красавицами и ресторанной цыганщиной напоминало плохо сыгранный спектакль.
Где-то в Сибири и на Дальнем Востоке сдавались в концессии рудники и золотые прииски, но это было так далеко от Москвы, что казалось нереальным, и, может быть, поэтому не вызывало тревоги. Мы же сталкивались только с нэпмановской «плотвой». Нас, конечно, не могли смутить кислые дамы и старушенции, торговавшие пончиками и самодельными тянучками из окон своих комнат в первых этажах домов.
Соблазнительные свои товары они раскладывали на подоконниках. Там, кроме пирожков и печенья, можно было увидеть горки пиленого сахара на облезлом фарфоровом блюде (настоящий «сакс»), вязаные галстуки, зажигалки, китовый ус для корсетов и нарядные – розовые и голубые – резинки для дамских подвязок, негодные к употреблению, так как резина давно пересохла. Мы воспринимали нэп главным образом с бытовой и комической стороны.
Особенно славился в то время в Москве «король древесного угля» Яков Рацер. Предприятие его помещалось в Марьиной Роще против дома, где жил Гехт. Каждое утро, чуть начинало светать, Яков Рацер выходил на балкон своего дома и пропускал мимо себя весь длинный обоз угольщиков на колченогих конях. Рацер стоял, как полководец, принимающий парад своих «войск».
После парада угольщики расползались по всем закоулкам Москвы, оглашая дворы унылыми криками: «Вот уголек, кому надо!» Все в угольной пыли, они походили на негритосов. Они удивляли москвичей эмалевой белизной глазных яблок под сизыми веками.
Время от времени Яков Рацер печатал в «Известиях» объявление: «Бывали случаи, что уголь у Якова Рацера оказывался неполновесным, но не было случаев, чтобы уголь у Якова Рацера оказывался сырым». На кульках с самоварным углем Яков Рацер печатал несколько иные и довольно изысканные рекламные стихи:
Так говорит Заратустра:
«Кто рекламирует шустро,
Но не пленяет товаром,
Тот рекламирует даром».
Уголь ли нужен, дрова ли,
Рацера фирма едва ли
Будет Москвою забота, —
Слава недаром добыта!
Широко известен был еще один частник по фамилии Функ. Он открыл в Москве производство сапожного крема. Функ тоже понимал толк в рекламе. На всех улицах висели на фонарях веселые человечки, вырезанные из жести. Они танцевали чечетку, приподняв над головой желтые щегольские канотье, сверкая зубами и сияющими ботинками, только что начищенными пастой Функ.
Человечки восторженно призывали чистить обувь только пастой Функ. Этот призыв выглядел в то время нелепо. По всем улицам шлепали заскорузлыми босыми ногами беспризорники, а обуви, требующей столь идеальной чистки, в Москве вообще не было.
Москва была полна беспризорными. Их вылавливали, увозили в колонии, но они снова возникали на улицах и рынках, ходили стаями, играли в карты в глухих закоулках, спали в подъездах и в пустых асфальтовых котлах, воровали, выпрашивали папиросы и пели по трамваям блатные песни, отбивая такт деревянными ложками.
Вплотную с беспризорными я встретился в ночном пригородном поезде. Это случилось поздней осенью перед жестокими морозами 1924 года.
Однажды мы с Зузенко вошли в плохо освещенный вагон. Ярко светили только фонари на платформе. Их свет проникал внутрь вагона сквозь забрызганные дождем окна. Дождь лил холодный, упорный, с ознобом. В углу вагона шевелилась груда серого тряпья.
– Нетопыри! – сказал Зузенко.
Это были беспризорные. Они лежали вповалку на полу, прижавшись друг к другу, прикрывая собой самого маленького мальчика лет восьми. Свет фонаря падал на него, и первое, что я заметил, это его большие глаза без слез, а потом – дрожь, ужасную неудержимую дрожь его высохшего маленького тела. Он дрожал так, что в ответ на его дрожь позванивало расшатанное стекло в окне вагона. Лежавшие по сторонам мальчишки натягивали на него полы своих рваных «клифтов».
«Клифтами» или «жакетами» называлась одежда беспризорных – кофты или пиджаки с чужого, взрослого плеча, – длинные, ниже колен, с болтающимися рукавами. От времени, пыли и грязи «клифты» приобрели одинаковый мышино-серый цвет и блестели, будто смазанные маслом.
В рваных, обвисших карманах этих «клифтов» хранилось все имущество беспризорников – «марафет», ножи, папиросы, корки хлеба, спички, засаленные карты и обрывки грязных бинтов. Под «клифтами» даже не было истлевших рубах, а желтело озябшее зеленоватое тело, расчесанное в кровавые полосы.
– Не трусись, Царевич, – проговорил осипшим голосом мальчик постарше. – В Мытищах отогреемся.
Вошел кондуктор, посветил на беспризорников фонарем, выругался и прошел мимо.
Мы сели поодаль. В вагоне, кроме нас, почти не было пассажиров. А те немногие, что вошли, сидели тихо и будто ничего не замечали.
– А ну, пацаны! – вдруг сказал Зузенко. – Желающие покурить – вали сюда!
– Встал и подошел только мальчик постарше. Остальные – их было трое – продолжали лежать.
Мальчик сел на скамью против нас, поджал босые ноги, жадно закурил, длинно сплюнул и сказал, поглядывая на слабо блестевший морской герб (так называемый «краб») на фуражке Зузенко:
– Ты, моряк, красивый сам собою…
– Заткнись, пацан! – оборвал его Зузенко. Но мальчик, глядя в сторону, вдруг запел во весь хриплый детский голос:
Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет.
Я остался сиротою,
Счастья, доли мне нет!
– Ты это брось! – повторил Зузенко. – Не до шуточек. Дружок твой пропадает вконец.
– Это Шурка-Царевич, – объяснил беспризорник. – А я зовусь Летчик.
– Есть предложение, – так же спокойно сказал Зузенко. – Нельзя его так оставлять.
– Ага! – равнодушно ответил Летчик и высморкался в длинный, как труба, черный рукав. – Второй день горит, аж светится.
– Так вот! Айда к нам в Пушкино. У нас дача. Одну комнату протопим, переживете несколько дней, а там видно будет. Дальше будете действовать по своему усмотрению. Нельзя такого пацанчика загубить.
– А вы нас не зацапаете?
– Балда! – сказал, всерьез обидевшись, Зузенко. – Я капитан дальнего плавания. Понял? А это писатель.
– Шамовку дадите? – спросил Летчик. – На всех, на четверых?
– А ты, видно, и вправду дурак!