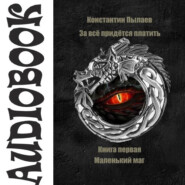По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трон Персии. Книга первая. Наставник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, нужен. – царь сразу стал серьёзен. – Вчера, – он нервно постучал пальцами по маленькому столику, на котором стояла вазочка со сладостями, – прибыл гонец из Экбатан. Мандана должна вернуться домой. Причины гонец не сообщил, но намекнул – Иштумегу хочет быть уверен, что это его внук. Боится, что если вновь родится девочка, я способен подсунуть ему в качестве внука другого ребёнка. Думаю, враньё, и мне не это не нравится. Через три месяца ей рожать, и судя по тому, что говорит повитуха, будет мальчик. У меня две дочери, а наследника нет. Я не могу отказать тестю, но и отдавать сына в заложники не хочу. Ты должен поехать с моей женой и оставаться там, оберегая моего сына, как оберегал меня, а до этого моего отца. Согласен?
– Надо так надо. – пожал плечами Тарш, небрежно закидывая в рот сушёный абрикос. – Ты же знаешь, я сделаю всё, что изволишь приказать.
– Я не хочу тебе приказывать. – в голосе Камбиза звучала неподдельная тревога. – Я прошу.
Его гость, телохранитель и друг ощутил это беспокойство. Он проглотил, даже толком не успев пережевать, сладкую курагу и тут же утёр рот.
– Я слушаю тебя. – отбросив свойственную ему бесшабашность, тоже став серьёзен, сказал Тарш. – Говори, чего ты опасаешься?
Камбиз принялся прохаживаться по залу, изредка поглядывая на двери, небезосновательно полагая, что их могут подслушивать. Вернувшись к столику, взял финик, повертел его в руках и положил обратно.
– Он что-то задумал. – стараясь говорить тихо, начал он. – Клянусь предками, задумал. Вот только что. Мандана меня не любит, впрочем, как и наших детей, и спит и видит, как бы вернуться к отцу.
– Ну, правильно, ведь ты делишь с ней ложе, только когда велит тебе твой прорицатель. – перебил Тарш. – Попробуй делать это чаще. – рассмеялся он. – Поможет.
– Не поможет. – не обратил внимание на бестактность Камбиз. – Она так же холодна, как и стены моего дворца во время зимних ветров. – здесь он сильно кривил против истины – в те редкие моменты, когда делил с ней ложе, она была страстна, но он сильно подозревал, что Мандана в мечтах представляет не его. В этом было что-то унизительное. Настолько, что Камбиз даже себе не мог признаться в этом. – И проводи я с ней все ночи, она все равно будет считать меня дикарём и презирать. А отпустив её, мне на троне долго не продержаться. У меня не больше трёх тысяч всадников, на которых я могу положиться, а на князей, как ты понимаешь, надежды нет. Мне нужен сын.
– Я предупреждал твоего отца, что так и будет, – сумрачно заметил Тарш, – когда он соглашался на этот брак.
– Ты, кажется, забыл – он уже лежал на смертном одре. Даже до свадьбы не дожил. Я не мог отказаться.
– А зачем отдал воинов?
– Послушай, меня и без того всё время подталкивают к войне с тестем, надеясь, что когда Иштумегу меня уберёт, на моё место он посадит кого-нибудь из них. К примеру, моего дядю или его сына. Бараны. После того как нас разобьют, а даже этого скорей всего не будет, поскольку никто из них не придёт на битву, здесь будет сидеть его наместник, и тогда, клянусь Огнём, они все взвоют, подобно шакалам, у которых волки отобрали добычу.
– И что ты намерен делать?
Камбиз, глубоко дыша носом, закусил губу.
– Уже делаю.
В этот момент он впервые напомнил Таршу его отца, Куруша, едва не одолевшего Увах¬шат¬ру. Лишь троекратное превосходство мидян позволило им победить. Теперь сын, похоже, собирается продолжить его дело.
– И что же? – не удержался спросить Тарш, с потаённой надеждой на возвращение славных времён.
– Некоторые из мидийских князей, предпочтут увидеть на троне Мидии если не меня, то внука Иштумегу, а не полоумного мужа его младшей дочери. И если у меня родится сын…
Камбиз умолк, предоставляя собеседнику самому додумать недосказанное.
*
Щёлкнула тетива, и лёгкая стрела вонзилась в край мишени. Женщина поджала с досады губы и потянулась в колчан за другой. Следующий выстрел был намного удачливей.
– Мой муж поручил меня заботам своего любимчика. – скорей утверждая, чем спрашивая, сказала Мандана. – Мне повезло. – она исподволь глянула на подошедшего – оценит ли он выстрел.
Выстрел был действительно хорош; с расстояния в пятьдесят шагов, попасть почти в центр плетёной мишени, для женщины, да ещё беременной было совсем недурственно. Камбиз совершенно напрасно не баловал супругу охотой – быть может, отчасти из-за этого меж ними и возникла стойкая неприязнь, но муж упорно считал, что удел женщины – это сидеть дома и заниматься детьми, а не бить дичь. И единственное, что могло их объединить…
Тарш самым почтительным образом поклонился, в очередной раз удивляясь, как любовь к такому мужскому занятию, как стрельба из лука, сочетается в этой девице со взбалмошностью и чисто женскими капризами. Он ухмыльнулся своим мыслям и сделал это напрасно – Мандана, как всегда расценила это по-своему. Она решила доказать, что попадание было неслучайным и … промахнулась.
– Только ахуры знают, как я счастлива, что именно ты будешь меня сопровождать. – ласковым голосом произнесла женщина.
Знай Тарш её чуть меньше, мог бы поверить. На самом деле она была вне себя от гнева. Оттого и промахнулась. А ведь три года назад…
Куруш умер. Любивший и почитавший царя как отца, Тарш сильно переживал утрату. О своём будущем он не думал – умирая, Куруш взял с них клятву – ему быть верным сыну, а с Камбиза – принять эту её и быть ей преданным. Недолюбливавший сына своего благодетеля за мягкотелость и изнеженность, Тарш неоднократно смог доказать верность этой клятве. Сам он был обласкан вниманием нового царя Аншана, ко всеобщему разочарованию уже начинавшей разлагаться касте сановников Куруша. Их отцы по большей части погибли в двухлетней войне с Мидией, а эти были жиже – наживаясь на торговле, и получив возможность с поощрения Увах-шт¬ры скупать за бесценок земли, пригодные к земледелию, здорово попортили жизнь простого народа, ещё помнящего обычаи и нравы кочевников. Присутствие чужестранных воинов и вовсе развязало им руки, поскольку их собственные были как раз из числа притесняемых ими персов.
Тарш во главе трёхсот всадников был послан в Эктобаны за невестой царя. Номинально главой посольства Камбиз назначил Дагоша – князя одного из кланов маспиев, поскольку отправить с визитом человека низкого происхождения было бы оскорблением величия. Тарш терпеть не мог этого заносчивого представителя новоперсидской знати, но был вынужден согласовывать с ним все действия. Он даже засунул куда подальше свой скорый на остроты язык и был предельно вежлив. Слишком важна была эта миссия для его повелителя.
Экбатаны впечатляли. Уже подъезжая, Тарш, взглядом воина оценил высоту городских стен, прочность врат и башен, глубину рва и общее расположение крепости. Это невольно вызывало в нём уважение к бывшим врагам. При этом он мысленно представил, как бы он, будучи во главе войска, стал штурмовать эту твердыню. По правде, ему ещё не представлялась возможность не то что командовать штурмом, но и просто участвовать в нём – до сих пор он ратоборствовал на равнинах, да в горных ущельях. Впрочем, при таком властителе вряд ли и придётся.
А вот всевозможные барельефы и прочие украшения на него не произвели ровным счётом никакого эффекта. Красиво – да, но практичный ум Тарша не придавал значения подобной мишуре.
Но большинство персов, пришедших вместе с ним, с удивлением и благоговением глядели на дивные краски орнаментов зданий, на пёстрые одеяния горожан, вышедших встречать посольство дикарей, к которым причисляли персов жители Экбатаны. Храм Огня с изображением крылатого Фраваши казался воинам Куруша, пять лет назад сражавшимся с Увах-шатрой, воплощением могущества Ахура-Мазды. Это было ещё одним поражением персов в их противостоянии с мидянами. А уж когда посольство прибыло, во дворец царя разгром был довершён.
Ряды высоких колонн, несущих на себе тяжесть каменных перекрытий, возле которых простой смертный испытывал своё ничтожество, цветная мозаика стен с изображением побед прежних царей Мидии, довершали картину. Смирение перед силой Экбатан было на лицо – Персида в виде её представителей покорилась окончательно.
Иштумегу принял их с подобающим для властителя высокомерием. Внешне сохраняя достоинство, персы, особенно те, что познатней, чувствовали себя дикими и неотёсанными, по сравнению с царской свитой. Жадные до удовольствий и роскоши они уже мысленно надевали на себя дорогие, с золотой вышивкой длинные халаты, бесполезные в бою, но такие изящные среди блеска и великолепия дворца.
Иштумегу всё видел. И это его радовало. На это он и рассчитывал. С гордым, хотя и побеждённым, но всё ещё опасным Курушем, его отцу пришлось договариваться о мире прямо посреди поля битвы, рядом с трупами павших. С тех пор, мало кто из персов бывал в Эктабанах, а уж во дворец и подавно никого из них не пускали.
Это было упущением. Глядя на то, какими глазами смотрели прибывшие на эту роскошь, Иштумегу жалел, что ни он, ни его отец не додумались совратить персов таким образом раньше. Но теперь они его с потрохами. Те, кто хочет жить в роскоши, будут скорей выжимать последнее из своего народа, чем воевать с Мидией, рискуя потерять всё.
Невесту в тот день им не показали – не сочли их достойными. Иштумегу безошибочно угадал, что вся эта свора сегодня же кинется на базар покупать себе обновки. И разрешил местным торговцам взвинтить цены.
Персов обобрали до нитки, но при появлении дочери царя они выглядели более чем представительно. Лишь Тарш не сменил костюма. Впрочем, он и не лез в первые ряды, оставаясь простым воином среди разноцветной толпы вельмож. Но острый глаз Манданы смог вырвать его из этой пёстрой массы.
И она влюбилась. В нём семнадцатилетняя девица увидела нечто животно-привлекательное, подобное её отцу – сильному и жестокому. Сны, которые снятся девушкам в её возрасте, рисовали ей именно такого, как он.
Тарш знал, что нравиться женщинам. Даже тем, чью любовь покупал. И конечно заметил, как на него посмотрела невеста его господина. Он был единственным, кто не согнулся пополам при её появлении, лишь слегка склонил голову. Иштумегу и вся свита сочла это за незнанием протокола поведения при выходе царственной особы. Но Мандана была уверена – виной тому был её взгляд. Во всяком случае, так ей хотелось думать.
Только вот Таршу она не понравилась, даже несмотря на, как и положено всякому персу после смерти родителя, обет вынужденного, полугодового воздержания, который он дал после кончины Куруша. Ему нравились другие женщины – тёплые и нежные. Да и заигрывать с будущей женой Камбиза…
Через шесть дней они выехали обратно. Иштумегу добавил к их трём сотням ещё тысячу своих воинов, дав понять – персы столь слабы, что не смогут обеспечить неприкосновенность его дочери в дальней дороге. Помимо других вельмож, царь послал в Пасаргады Арбаку – одного из самых преданных сановников и лучшего полководца. Арбаку должен был представлять на свадьбе царя Мидии.
Путешествие длилось сорок пять дней. При наличии сменных лошадей, Тарш покрыл бы это расстояние вчетверо, но носилки принцессы были не в состоянии двигаться быстрее. Двадцать сильных рабов, мерно ступая, тащили на себе маленький домик, в котором помимо Манданы ехали две её служанки. Ещё три поменьше и попроще качались следом, со скучающими четырнадцатью вышколенными рабынями, взятыми с собой хозяйкой, не надеявшейся получить в Пасаргадах надлежащий уход и комфорт.
Далее, лениво передвигая ноги и покачивая горбами, вяло плелись верблюды, гружёные всем необходимым для приемлемого существования в варварской столице капризной дочери великого царя Мидии. Среди них было и несколько, принадлежащих Дагошу и другим вельможам, забиравшим Мандану к жениху.
А Тарш пел. Находясь во главе персидской части делегации, он при любом удобном случае развлекал соплеменников то грустными историями несчастной любви, подавая их так жалостливо, что у многих на глазах наворачивались слёзы, то залихватски рассказывал о привольной жизни разбойников, грабивших караваны и не о чём не жалевших, со смехом встречавших смерть, когда их за эти проделки казнили. Пел о похождениях юноши, соблазнявшего жён высокопоставленных особ, умудрявшегося самым невероятным образом ускользнуть из лап обманутых мужей.
Причём так умело расставлял окончания и вовремя замолкал, давая возможность слушателям, самим догадаться, кого он имеет в виду. Мишенями его на грани приличия куплетов, становились в основном мидяне, но так ловко, что бесившимся сопровождающим принцессы не в чём было его упрекнуть. Персы покатывались со смеху, держась за животы. Любимец двух царей был любим и простыми воинами, уважавших его за воинскую доблесть, весёлый нрав и находчивость. А ещё за то, что выбившись из простолюдинов и сумев подняться столь высоко, не чурался их общества и вёл себя с ними, как с равными.
Дело дошло до того, что Арбаку попросил у Манданы разрешения угомонить зарвавшегося певца, но та заметила, что лучше слушать дикарские песни, чем ехать в тишине и скуке, под фырканье верблюдов и кряхтение носильщиков. По правде, она более предпочитала слушать этого варвара, а не своих рабынь. Не привыкшая к подобному, она была очарована этим голосом, когда нужно мощным, как камнепад, при необходимости становившимся томным и нежным. Когда же он исполнял свои возмутительные вирши, пение уподоблялось серебряному журчанию горного ручья.
В эти моменты Мандана приказывала служанкам отворачиваться, чтобы те не видели, как она сама прячет улыбку и как у неё краснеют уши. Надменная гордячка представляла Тарша героем его же песен – то изнывающим от тоски любовником, то грабителем, ожидающим казни, то развратным юнцом, вылезающим из чужой спальни. И хотя она и в мыслях не допускала какой-либо связи между ними, но ей очень хотелось, чтобы этот грязный варвар, незнающий манер, возжелал её. Хотела видеть его мучения от невозможности заполучить желаемое. А верхом её мечтаний было знать, что он покончил с собой, бросившись на меч, от неразделённой любви. Или хотя бы отрубили ему голову у неё на глазах, за попытку обесчестить царскую дочь.
Несколько раз она с ним разговаривала, используя малейшую возможность высунуть из паланкина свою обнажённую руку и даже пару раз позволяла себе отдёрнуть занавесь, встречаясь с ним взглядом. При этом Тарш, неторопливо закрывая глаза и кланяясь, неизменно очаровательно улыбался.
На свадьбе он тоже пел – много и красиво. И содержание песен стало более приличным. Даже оделся на праздник изысканно, обрядившись знатным скифом, с единственным отличием – наголо сбрил, подобно египтянину, свою роскошную бородку, уподобившись юноше. Будь Мандана посообразительней, могла догадаться – этим он хотел сказать, что ещё слишком молод. Для неё.