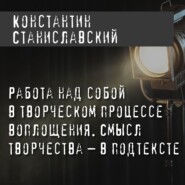По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моя жизнь в искусстве. В спорах о Станиславском
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот мы и надоумили Цукки якобы затеять благотворительный спектакль на нашей сцене – сыграть балет «Эсмеральду», а горбуна просить играть Квазимодо. Тогда, под видом репетиций и повторения отдельных частей балета, она свободно может обнимать и целовать его столько, сколько того требует итальянское счастье. Я взялся вести счет ее объятиям и поцелуям.
Начались репетиции, в которых Цукки была и режиссером, и исполнительницей главной роли Эсмеральды. Тут мы имели возможность видеть ее и танцующей, и режиссирующей, и играющей. Только этого нам и нужно было. Цукки, благодаря суеверию, отнеслась к своей работе серьезно. Ей приходилось вести репетиции так, чтобы горбун верил в их серьезность и необходимость нашей театральной затеи. Во время этих репетиций мы могли близко наблюдать работу великой артистки, и это было тем более интересно для нас, что Цукки была прежде всего драматической артисткой, а уж потом танцовщицей, хотя и эта сторона была на высоте. Я видел на этих полушуточных репетициях ее неиссякаемую фантазию, быструю сообразительность, находчивость, оригинальность, вкус при выборе творческих задач и составлении мизансцены, необыкновенную приспособляемость и, главное, наивную, детскую веру в то, что она в каждую данную секунду делала на сцене и что вокруг нее происходило. Она отдавала сцене все свое внимание, без остатка.
Еще меня поражала свобода и ненапряженность ее мышц в моменты сильного душевного подъема – как в драме, так и во время танца, когда я прикасался к ней, чтобы поддерживать ее в качестве балетного кавалера. А я, как раз наоборот, – всегда был напряжен на сцене а фантазия моя всегда дремала, так как я пользовался чужими образцами. Моя сценическая находчивость, приспособляемость, вкус к задачам и прочее заключались только в том, чтобы сделать себя похожим на копируемых актеров. Собственного вкуса и оригинальности мне даже негде было применить – опять-таки потому, что я пользовался чужими, готовыми образцами. Свое внимание я отдавал не тому, что происходит на сцене в данный момент, а тому, что происходило когда-то на других сценах, откуда я брал свои образцы. Я делал не то, что чувствовал сам, а повторял то, что чувствовал другой. Но жить чужим чувством нельзя, раз что оно не превратилось в мое собственное. Поэтому я лишь внешне копировал результаты чужого переживания; пыжился и физически напрягался. Цукки заставила меня, быть может впервые, задуматься над своей ошибкой, с которой я не знал еще, как бороться.
После балета в моей артистической жизни, под влиянием Мамонтова, наступила полоса оперного увлечения. В семидесятых годах в области русской национальной оперы началось оживление. Чайковский и другие светила музыкального мира стали писать для театра. Я поддался общему увлечению, возомнил себя певцом и стал готовиться к оперной карьере.
В то время в преподавательском мире имел успех знаменитый певец – тенор Федор Петрович Комиссаровой, отец знаменитой артистки Веры Федоровны Комиссаржевской и Федора Федоровича Комиссаржевского, известного в наше время режиссера. Я стал брать у него уроки пения. Ежедневно, по окончании занятий в конторе, часто не успев пообедать, я летел в другом конец города, на урок к своему новому другу. Не знаю, что принесло мне больше пользы: самые ли уроки или разговоры после них.
Когда мне показалось, что мои вокальные занятия подвинулись настолько, что я могу уже выступить в какой-нибудь партии, было решено ставить спектакль. Сам Ф.П. Комиссаржевский, соскучившись по сцене, захотел поиграть вместе со мной. Наш театр-столовая пустовал, и потому было решено воспользоваться им. Я готовил две сцены – дуэт с Мефистофелем из «Фауста» (Комиссаржевский и я) и первый акт из оперы Даргомыжского «Русалка», в которой я пел Мельника, а Комиссаржевский – Князя. Кроме того, для остальных учеников были приготовлены другие отрывки, в которых участвовали настоящие певцы с голосами не чета моему. Со второй репетиции я охрип, и чем дальше пел, тем было хуже.
А жаль! Приятно и необычайно легко играть в опере. Именно – играть, не петь (особенно когда нет голоса). Все уже сделано композитором, только передавай толково то, что создано им, – и успех обеспечен. И я не понимаю, как можно не увлечься тем, что написал талантливый композитор. Его музыка, оркестровка, лейтмотивы так убедительны, ясны и красноречивы, что, казалось бы, и мертвый заиграет. Надо только не мешать самому себе отдаваться волшебной силе звука. К тому же оперные шаблоны Мефистофеля, Мельника в «Русалке» так определенны, ясны, однажды и навсегда заштампованы, что не требуют никакой предварительной работы: выходи и играй как полагается. Словом – копируй, и только! Мои же тогдашние идеалы не шли дальше этого, тем более что мне хотелось быть похожим на настоящих актеров вообще. А в частности – на дежурного любимца, которым я увлекался в данное время.
К счастью для меня, спектакль дальше генеральной репетиции не пошел, так как стало ясно, что он не может меня прославить. Кроме того, от большой и каждодневной работы мой голос садился все более и более, и наконец, совсем сел, так что, кроме сипа, я ничего не мог извлечь из моего горла.
Встав на одни подмостки с хорошими певцами, я понял непригодность своего голосового материала для оперы, недостаточность музыкальной подготовки. Мне стало ясно, что из меня никогда не выйдет певца и что мне нужно навсегда расстаться с мечтами об оперной карьере.
Уроки пения прекратились, но я не переставал, чуть ли не каждый день, ездить к своему бывшему учителю, Ф.П. Комиссаржевскому, для того чтобы говорить с ним об искусстве и встречаться у него с людьми, причастными к музыке, пению, с профессорами Консерватории, где Комиссаржевский заведовал оперным классом, а я еще продолжал быть в числе директоров. Скалку по секрету, что втайне у меня была дерзкая мысль сделаться помощником Комиссаржевского по классу ритма, который я измышлял для себя. Дело в том, что я не мог забыть очаровательного впечатления, которое осталось во мне, при оперных пробах, от ритмического лицедейства под музыку. Я не мог не заметить, что певцы ухитряются соединять несколько совершенно разных ритмов в одно время: оркестр и композитор держатся своего ритма, пение идет неизбежно параллельно с ним, но хор автоматически подымает и опускает руки в другом ритме, ходит в третьем; каждый из певцов, смотря по настроению, действует или, скорее, бездействует в своем ритме или, вернее, без всякого ритма.
Я доказывал Комиссаржевскому необходимость культивирования физического ритма для певца. Он увлекся моей мыслью. Мы уже нашли аккомпаниатора-импровизатора и по целым вечерам жили, двигались, сидели, молчали в ритме.
К сожалению, Консерватория отказала Комиссаржевскому в устройстве проектируемого класса, и наши пробы прекратились. Но с тех пор стоит мне услышать музыку – и у меня невольно прорываются ритмические движения и мимика на тех основах, которые мне мерещились в то время.
Эти неясные тогда основы пробились во мне и на драматической сцене, но я не мог понять, чем я руководился, попадая в ту или другую ритмическую волну.
Ощупав, но не осознав до конца область ритма, я до времени забыл о ней. Но, по-видимому, работа моего подсознания не прекращалась. Однако… об этом в свое время.
Итак, пение не было моим призванием. Что делать? Возвращаться в оперетку, к домашним спектаклям? Но я уже не мог этого сделать. Слишком многое я узнал от Комиссаржевского о высших целях и задачах искусства.
Кроме того, наша домашняя труппа распалась, как я уже упоминал.
Оставалась драма. Но я понимал, что это самый трудный для изучения вид сценического искусства. Я очутился на распутье, метался, не находя себе применения. В этот период все еще длившегося «междуцарствия» судьба дала мне урок, очень полезный для моего артистического развития.
Дело в том, что в нашем театральном помещении состоялся спектакль с благотворительной целью. Приманкой для публики было то, что с нами, любителями Алексеевского драматического кружка, играли некоторые артисты Малого театра. Ставился «Счастливец» – пьеса В.И. Немировича-Данченко, в то время наиболее талантливого и популярного драматурга. Среди участвующих были знаменитая Гликерия Николаевна Федотова, Ольга Осиповна Садовская и другие артисты нашего славного Малого театра, которому я был столько обязан. Неожиданная и незаслуженная нами честь! Я чувствовал свое ничтожество перед великими артистами, которые волновали и трогали меня своим отношением к нам.
Пьеса «Счастливец» была репертуарной в Малом театре, где она прошла в сезоне много десятков раз. Для нас же она была совсем новой. Понятно, что репетиции делались не для артистов Малого театра, а для любителей Алексеевского кружка. И, несмотря на это, знаменитые артистки, игравшие пьесу десятки раз, приезжали за полчаса до начала, готовились к репетиции, в назначенный час выходили на сцену и ждали там, а любители (конечно, не я) – опаздывали.
Знаменитые артистки репетировали в полный тон, а любители шептали роли и считывали текст по тетрадкам. Правда, это все были люди крайне занятые, не располагавшие свободным временем. Но какое до этого дело искусству, артистам, театру!
Впервые я стоял на подмостках рядом с подлинными артистами большого таланта. Важный момент в моей жизни! Но я робел, конфузился, злился на себя, из застенчивости говорил, что понимаю, когда на самом деле не схватывал того, что мне объясняли. Моей главной заботой было не рассердить, не задержать, запомнить, скопировать, что мне показывали. Все это как раз обратно тому, что было нужно для подлинного творчества. Но я не умел иначе; не учить же было меня. Нельзя делать из репетиций уроки драматического искусства, тем более что еще так недавно я ушел из Театрального училища, от той же Гликерии Николаевны Федотовой, с которой теперь я встретился в качестве готового артиста.
Из-за любительской неопытности, «мои колки», как говорят актеры, не держали. Загоришься – и сейчас же опять потухнешь. От этого и речь и действия на сцене то становились энергичнее – и тогда голос звучал, слова произносились ясно и долетали до зрителя, то опять все блекло – и тогда я вянул, начинал шептать, слова комкались, и из зрительного зала мне кричали во время репетиции: «Громче!»
Конечно, я мог заставить себя говорить громко, действовать энергично, но когда насилуешь себя, усиливая громкость ради громкости, бодрость ради бодрости, без внутреннего смысла и побуждения, – становится еще стыднее на сцене. Такое состояние не может создать творческого настроения. А рядом со мной – я видел – подлинные артисты всегда были чем-то изнутри заряжены; что-то их держало неизменно на определенном градусе повышенной энергии и не позволяло ей падать. Они не могут не говорить громко на сцене, они не могут не быть бодрыми. Пусть у них скребет на сердце или болит голова, горло – они все-таки будут действовать энергично и говорить громко. Совсем не то у нас – тогдашних любителей. Нам нужно было, чтобы кто-то извне нас разгорячил, ободрил, развеселил. Не мы держали публику в руках, – напротив, мы сами ждали, что она возьмет нас в руки, ободрит, приласкает, и тогда, быть может, нам самим захочется играть.
– В чем же дело? – спрашивал я у Федотовой.
– Не знаете, батюшка, с какого конца начинать. А учиться не хочется, – кольнула меня Федотова, смягчая колкость своим певучим голосом и ласкающей интонацией. – Нет тренировки, выдержки, дисциплины. А без этого артисту невозможно.
– А как же вырабатывать в себе дисциплину? – допытывался я.
– Поиграйте почаще с нами, батюшка, – мы вас и вымуштруем. Мы ведь не всегда такие, как сегодня. Мы бываем и строгие. Ох, батюшка, достается, ах как от нас достается! А нынешние артисты все больше сложа руки сидят и ждут вдохновения от Аполлона. Напрасно, батюшка! У него своих дел достаточно.
И действительно, когда начался спектакль, поднялся занавес и тренированные актеры заговорили в тоне, они потянули нас за собой, точно на аркане. С ними не задремлешь, не опустишь тона. Мне даже казалось, что и я играл с вдохновением. Но – увы! – это только казалось. Роль была далеко не сделана.
Тренировка и дисциплина подлинных артистов сказались еще ярче при повторении «Счастливца» в другом городе – Рязани, почти в том же составе, то есть с артистами Малого театра и со мной. Вот как было дело.
Я был за границей и вернулся в Москву. На перроне среди встречающих я увидел моего товарища, Федотова, сына артистки Федотовой, одного из участников спектакля. Он приехал по поручению всего состава играющих в пьесе «Счастливец» с огромной просьбой выручить их из беды. Надо было тотчас же ехать с ними в Рязань и там играть мою роль вместо заболевшего артиста Малого театра А.И. Южина. Отказать было нельзя, и я поехал, несмотря на утомление после долгого заграничного путешествия, не повидавшись даже с родными, которые ждали меня дома. Нас везли в Рязань во втором классе. Мне дали книжку, чтобы повторить роль, которую я наполовину забыл, так как никогда ее хорошо не знал и играл всего раз. От вагонного шума, ходьбы, болтовни, суеты голова становилась еще тяжелее, и читаемое воспринималось плохо. Я не мог вспомнить текста, волновался, минутами доходил до отчаяния, так как больше всего боялся на сцене незнания слов роли.
«Ну, – думаю, – приедем на место, Бог даст, там найдется свободная комната, где можно будет уединиться, чтобы хоть раз с большим вниманием прочитать роль».
Но оказалось иначе. Спектакль шел не в театре, а в каком-то полковом клубе. Маленькая любительская сценка, а рядом – единственная комната, разгороженная ширмами. В ней всё: мужские и дамские уборные и актерское фойе, где был для нас накрыт чай с самоваром. Сюда же втиснули и военный оркестр, чтобы освободить побольше места в зрительном зале. Когда весь оркестр затрубил во все трубы, забил в барабаны, а мы, тут же, одевались и гримировались, я не взвидел света. Каждая нота марша точно била меня по больному месту головы. Пришлось оставить повторение роли и положиться на суфлера, который, к счастью, был превосходен.
Когда я вышел на сцену, мне показалось, что кто-то свистнул… Опять… еще… сильней… Не могу понять, в чем дело! Остановился, посмотрел в публику и вижу, что некоторые зрители наклонились в мою сторону и со злобой мне свистят.
«За что? Что же я сделал?»
Оказывается, мне свистели за то, что приехал я, а не обещанный Южин. Я так сконфузился, что ушел за кулисы. «Сподобился! Окрестили! Дожил до свиста!» Не могу сказать, чтобы это было приятно. Но по правде, и особенно плохого я в этом не нашел! Я был даже рад, так как это дало мне право на плохую игру. Ее можно было истолковать обидой, оскорблением или просто нежеланием играть как следует. Это право меня ободрило, и я снова вышел на сцену; на этот раз меня встретили аплодисментами, но понятно, что я из самолюбия отнесся к ним презрительно, то есть не обратил на них внимания, стоял точно окаменелый, как будто аплодисменты относились не ко мне. Само собой понятно, что хорошо играть неготовую роль я не мог. К тому же я впервые шел по суфлеру. Какой ужас быть на сцене без наговоренного текста! Кошмар!
Наконец спектакль кончился. Не успели мы разгримироваться, как нас повезли на станцию, чтобы ехать обратно в Москву. Но мы опоздали к поезду, и нам пришлось ночевать в Рязани. Пока искали комнаты для ночлега, поклонники Федотовой и Садовской экспромтом устроили ужин. Боже! Какую жалкую фигуру я представлял из себя тогда – бледный от головной боли, с согнутой спиной, с ослабевшими ногами, которые отказывались служить. Среди ужина я заснул, а в это время Федотова, которая по возрасту годилась мне в матери, была свежа, молода, весела, кокетлива, подтянута, разговорчива. Ее можно было принять за мою сестру. Садовская – тоже немолодая женщина – не уступала подруге.
«Но я же прямо из-за границы», – оправдывал я себя. «Ты из-за границы, а мама больна, у нее тридцать восемь градусов температуры», – объяснил мне ее сын. «Вот она – тренировка и дисциплина!» – подумал я.
Благодаря частым выступлениям в любительских спектаклях я стал довольно известным среди московских дилетантов. Меня охотно приглашали как в отдельные спектакли, так и в кружки, где я перезнакомился почти со всеми артистами-любителями того времени, поработал у многих режиссеров. При этом я имел возможность выбирать и играть те пьесы и роли, которые мне хотелось, что позволило мне испробовать себя в разных ролях, особенно в драматических, о которых всегда мечтает молодежь. Когда в человеке много юных сил и он не знает, куда их девать, приходится «рвать страсть в клочки». Но… как я уже не раз говорил, подобно тому как опасно с непоставленным голосом петь сильные партии, например вагнеровского репертуара, так точно опасно и вредно для молодого человека без надлежащей техники и подготовки браться за непосильные ему роли. Когда приходится делать непосильное, естественно, прибегаешь ко всяким уловкам, то есть уклоняешься от главного, основного пути. Именно это еще раз и в сильнейшей степени повторилось со мной во время моих любительских мытарств – в период все еще длившегося «междуцарствия».
Я играл в разных случайных спектаклях, в быстро возникающих и кончающихся любительских кружках, в грязных, холодных, маленьких любительских помещениях, в ужасной обстановке. Постоянная отмена репетиций, манкировки, флирт вместо работы, болтовня, наскоро слепленные спектакли, на которые публика ходила, только чтобы потанцевать после спектакля. Приходилось играть в неотопленных помещениях. В большие холода я устраивал свою театральную уборную в квартире сестры, которая жила неподалеку от того театра, где я часто играл. В каждом антракте надо было ездить на извозчике в свою уборную, к сестре, для переодевания, а вернувшись – до своего выхода на сцену кутаться в шубу.
Какой ужас эти халтурные любительские спектакли! Чего только я не нагляделся! Вот, например, на один из спектаклей в водевиле, в котором участвовало до пятнадцати человек, не собралось и половины исполнителей, и нас, участвовавших в другой пьесе, заставили играть и в водевиле. Но мы не имели о нем никакого представления.
– Что же мы будем играть? – недоумевая, спрашивали мы.
– Что! Что! Да выходите и говорите что попало. Надо же кончить спектакль, раз публика заплатила деньги!
И мы действительно выходили и черт знает что говорили. Потом уходили, когда нечего было говорить. Выходили другие и делали то же самое. И когда сцена пустела, нас снова выталкивали. И мы, и публика хохотали от бессмысленности того, что происходило на сцене. По окончании спектакля нас вызвали всем театром, кричали «бис», а главный устроитель спектакля торжествовал.
– Видите? Видите? – говорил он. – А вы еще отказывались!
Приходилось участвовать нередко в компании каких-то подозрительных лиц. Что делать? Играть было негде, а играть до смерти хотелось. Тут бывали и шулера, и кокотки. И мне, человеку «с положением», директору Русского музыкального общества, выступать в такой обстановке было далеко не безопасно с точки зрения моей «репутации». Приходилось скрыться за какой-нибудь выдуманной фамилией. И я искал ее в надежде, что она действительно меня скроет. В то время я увлекался одним любителем, доктором М., игравшим под фамилией Станиславского. Он сошел со сцены, перестал играть, и я решил стать его преемником, тем более что польская фамилия, как мне тогда казалось, лучше укрывала меня. Однако я ошибся. Вот что случилось.
Я играл какой-то французский трехактный водевиль, действие которого происходило в уборной актрисы, за кулисами. Завитой, расфранченный, я влетел на сцену с громадным букетом. Влетел… и остолбенел. Передо мной в центральной главной ложе сидели отец, мать, старушки-гувернантки. А в последующих актах мне предстояли такие сцены, которые не могли бы быть пропущены строгой семейной цензурой. Я сразу одеревенел от конфуза и смущения. Вместо бойкого разбитного молодого человека у меня получился скромный, воспитанный мальчик. Вернувшись домой, я не смел показаться на глаза домашним. На следующий день отец сказал мне только одну фразу:
– Если ты непременно хочешь играть на стороне, то создай себе приличный кружок и репертуар, но только не играй всякую гадость бог знает с кем.
Старая гувернантка, помнившая меня еще в колыбели, воскликнула:
– Никогда, никогда я не думала, что наш Костя, такой чистый молодой человек, способен публично… Ужасно! Ужасно! Зачем глаза мои видели это?!
Однако нет худа без добра: во время этих скитаний по любительским спектаклям я узнал некоторых лиц, которые впоследствии стали видными членами нашего любительского кружка Общество искусства и литературы, а потом перешли и в Художественный театр.
Начались репетиции, в которых Цукки была и режиссером, и исполнительницей главной роли Эсмеральды. Тут мы имели возможность видеть ее и танцующей, и режиссирующей, и играющей. Только этого нам и нужно было. Цукки, благодаря суеверию, отнеслась к своей работе серьезно. Ей приходилось вести репетиции так, чтобы горбун верил в их серьезность и необходимость нашей театральной затеи. Во время этих репетиций мы могли близко наблюдать работу великой артистки, и это было тем более интересно для нас, что Цукки была прежде всего драматической артисткой, а уж потом танцовщицей, хотя и эта сторона была на высоте. Я видел на этих полушуточных репетициях ее неиссякаемую фантазию, быструю сообразительность, находчивость, оригинальность, вкус при выборе творческих задач и составлении мизансцены, необыкновенную приспособляемость и, главное, наивную, детскую веру в то, что она в каждую данную секунду делала на сцене и что вокруг нее происходило. Она отдавала сцене все свое внимание, без остатка.
Еще меня поражала свобода и ненапряженность ее мышц в моменты сильного душевного подъема – как в драме, так и во время танца, когда я прикасался к ней, чтобы поддерживать ее в качестве балетного кавалера. А я, как раз наоборот, – всегда был напряжен на сцене а фантазия моя всегда дремала, так как я пользовался чужими образцами. Моя сценическая находчивость, приспособляемость, вкус к задачам и прочее заключались только в том, чтобы сделать себя похожим на копируемых актеров. Собственного вкуса и оригинальности мне даже негде было применить – опять-таки потому, что я пользовался чужими, готовыми образцами. Свое внимание я отдавал не тому, что происходит на сцене в данный момент, а тому, что происходило когда-то на других сценах, откуда я брал свои образцы. Я делал не то, что чувствовал сам, а повторял то, что чувствовал другой. Но жить чужим чувством нельзя, раз что оно не превратилось в мое собственное. Поэтому я лишь внешне копировал результаты чужого переживания; пыжился и физически напрягался. Цукки заставила меня, быть может впервые, задуматься над своей ошибкой, с которой я не знал еще, как бороться.
После балета в моей артистической жизни, под влиянием Мамонтова, наступила полоса оперного увлечения. В семидесятых годах в области русской национальной оперы началось оживление. Чайковский и другие светила музыкального мира стали писать для театра. Я поддался общему увлечению, возомнил себя певцом и стал готовиться к оперной карьере.
В то время в преподавательском мире имел успех знаменитый певец – тенор Федор Петрович Комиссаровой, отец знаменитой артистки Веры Федоровны Комиссаржевской и Федора Федоровича Комиссаржевского, известного в наше время режиссера. Я стал брать у него уроки пения. Ежедневно, по окончании занятий в конторе, часто не успев пообедать, я летел в другом конец города, на урок к своему новому другу. Не знаю, что принесло мне больше пользы: самые ли уроки или разговоры после них.
Когда мне показалось, что мои вокальные занятия подвинулись настолько, что я могу уже выступить в какой-нибудь партии, было решено ставить спектакль. Сам Ф.П. Комиссаржевский, соскучившись по сцене, захотел поиграть вместе со мной. Наш театр-столовая пустовал, и потому было решено воспользоваться им. Я готовил две сцены – дуэт с Мефистофелем из «Фауста» (Комиссаржевский и я) и первый акт из оперы Даргомыжского «Русалка», в которой я пел Мельника, а Комиссаржевский – Князя. Кроме того, для остальных учеников были приготовлены другие отрывки, в которых участвовали настоящие певцы с голосами не чета моему. Со второй репетиции я охрип, и чем дальше пел, тем было хуже.
А жаль! Приятно и необычайно легко играть в опере. Именно – играть, не петь (особенно когда нет голоса). Все уже сделано композитором, только передавай толково то, что создано им, – и успех обеспечен. И я не понимаю, как можно не увлечься тем, что написал талантливый композитор. Его музыка, оркестровка, лейтмотивы так убедительны, ясны и красноречивы, что, казалось бы, и мертвый заиграет. Надо только не мешать самому себе отдаваться волшебной силе звука. К тому же оперные шаблоны Мефистофеля, Мельника в «Русалке» так определенны, ясны, однажды и навсегда заштампованы, что не требуют никакой предварительной работы: выходи и играй как полагается. Словом – копируй, и только! Мои же тогдашние идеалы не шли дальше этого, тем более что мне хотелось быть похожим на настоящих актеров вообще. А в частности – на дежурного любимца, которым я увлекался в данное время.
К счастью для меня, спектакль дальше генеральной репетиции не пошел, так как стало ясно, что он не может меня прославить. Кроме того, от большой и каждодневной работы мой голос садился все более и более, и наконец, совсем сел, так что, кроме сипа, я ничего не мог извлечь из моего горла.
Встав на одни подмостки с хорошими певцами, я понял непригодность своего голосового материала для оперы, недостаточность музыкальной подготовки. Мне стало ясно, что из меня никогда не выйдет певца и что мне нужно навсегда расстаться с мечтами об оперной карьере.
Уроки пения прекратились, но я не переставал, чуть ли не каждый день, ездить к своему бывшему учителю, Ф.П. Комиссаржевскому, для того чтобы говорить с ним об искусстве и встречаться у него с людьми, причастными к музыке, пению, с профессорами Консерватории, где Комиссаржевский заведовал оперным классом, а я еще продолжал быть в числе директоров. Скалку по секрету, что втайне у меня была дерзкая мысль сделаться помощником Комиссаржевского по классу ритма, который я измышлял для себя. Дело в том, что я не мог забыть очаровательного впечатления, которое осталось во мне, при оперных пробах, от ритмического лицедейства под музыку. Я не мог не заметить, что певцы ухитряются соединять несколько совершенно разных ритмов в одно время: оркестр и композитор держатся своего ритма, пение идет неизбежно параллельно с ним, но хор автоматически подымает и опускает руки в другом ритме, ходит в третьем; каждый из певцов, смотря по настроению, действует или, скорее, бездействует в своем ритме или, вернее, без всякого ритма.
Я доказывал Комиссаржевскому необходимость культивирования физического ритма для певца. Он увлекся моей мыслью. Мы уже нашли аккомпаниатора-импровизатора и по целым вечерам жили, двигались, сидели, молчали в ритме.
К сожалению, Консерватория отказала Комиссаржевскому в устройстве проектируемого класса, и наши пробы прекратились. Но с тех пор стоит мне услышать музыку – и у меня невольно прорываются ритмические движения и мимика на тех основах, которые мне мерещились в то время.
Эти неясные тогда основы пробились во мне и на драматической сцене, но я не мог понять, чем я руководился, попадая в ту или другую ритмическую волну.
Ощупав, но не осознав до конца область ритма, я до времени забыл о ней. Но, по-видимому, работа моего подсознания не прекращалась. Однако… об этом в свое время.
Итак, пение не было моим призванием. Что делать? Возвращаться в оперетку, к домашним спектаклям? Но я уже не мог этого сделать. Слишком многое я узнал от Комиссаржевского о высших целях и задачах искусства.
Кроме того, наша домашняя труппа распалась, как я уже упоминал.
Оставалась драма. Но я понимал, что это самый трудный для изучения вид сценического искусства. Я очутился на распутье, метался, не находя себе применения. В этот период все еще длившегося «междуцарствия» судьба дала мне урок, очень полезный для моего артистического развития.
Дело в том, что в нашем театральном помещении состоялся спектакль с благотворительной целью. Приманкой для публики было то, что с нами, любителями Алексеевского драматического кружка, играли некоторые артисты Малого театра. Ставился «Счастливец» – пьеса В.И. Немировича-Данченко, в то время наиболее талантливого и популярного драматурга. Среди участвующих были знаменитая Гликерия Николаевна Федотова, Ольга Осиповна Садовская и другие артисты нашего славного Малого театра, которому я был столько обязан. Неожиданная и незаслуженная нами честь! Я чувствовал свое ничтожество перед великими артистами, которые волновали и трогали меня своим отношением к нам.
Пьеса «Счастливец» была репертуарной в Малом театре, где она прошла в сезоне много десятков раз. Для нас же она была совсем новой. Понятно, что репетиции делались не для артистов Малого театра, а для любителей Алексеевского кружка. И, несмотря на это, знаменитые артистки, игравшие пьесу десятки раз, приезжали за полчаса до начала, готовились к репетиции, в назначенный час выходили на сцену и ждали там, а любители (конечно, не я) – опаздывали.
Знаменитые артистки репетировали в полный тон, а любители шептали роли и считывали текст по тетрадкам. Правда, это все были люди крайне занятые, не располагавшие свободным временем. Но какое до этого дело искусству, артистам, театру!
Впервые я стоял на подмостках рядом с подлинными артистами большого таланта. Важный момент в моей жизни! Но я робел, конфузился, злился на себя, из застенчивости говорил, что понимаю, когда на самом деле не схватывал того, что мне объясняли. Моей главной заботой было не рассердить, не задержать, запомнить, скопировать, что мне показывали. Все это как раз обратно тому, что было нужно для подлинного творчества. Но я не умел иначе; не учить же было меня. Нельзя делать из репетиций уроки драматического искусства, тем более что еще так недавно я ушел из Театрального училища, от той же Гликерии Николаевны Федотовой, с которой теперь я встретился в качестве готового артиста.
Из-за любительской неопытности, «мои колки», как говорят актеры, не держали. Загоришься – и сейчас же опять потухнешь. От этого и речь и действия на сцене то становились энергичнее – и тогда голос звучал, слова произносились ясно и долетали до зрителя, то опять все блекло – и тогда я вянул, начинал шептать, слова комкались, и из зрительного зала мне кричали во время репетиции: «Громче!»
Конечно, я мог заставить себя говорить громко, действовать энергично, но когда насилуешь себя, усиливая громкость ради громкости, бодрость ради бодрости, без внутреннего смысла и побуждения, – становится еще стыднее на сцене. Такое состояние не может создать творческого настроения. А рядом со мной – я видел – подлинные артисты всегда были чем-то изнутри заряжены; что-то их держало неизменно на определенном градусе повышенной энергии и не позволяло ей падать. Они не могут не говорить громко на сцене, они не могут не быть бодрыми. Пусть у них скребет на сердце или болит голова, горло – они все-таки будут действовать энергично и говорить громко. Совсем не то у нас – тогдашних любителей. Нам нужно было, чтобы кто-то извне нас разгорячил, ободрил, развеселил. Не мы держали публику в руках, – напротив, мы сами ждали, что она возьмет нас в руки, ободрит, приласкает, и тогда, быть может, нам самим захочется играть.
– В чем же дело? – спрашивал я у Федотовой.
– Не знаете, батюшка, с какого конца начинать. А учиться не хочется, – кольнула меня Федотова, смягчая колкость своим певучим голосом и ласкающей интонацией. – Нет тренировки, выдержки, дисциплины. А без этого артисту невозможно.
– А как же вырабатывать в себе дисциплину? – допытывался я.
– Поиграйте почаще с нами, батюшка, – мы вас и вымуштруем. Мы ведь не всегда такие, как сегодня. Мы бываем и строгие. Ох, батюшка, достается, ах как от нас достается! А нынешние артисты все больше сложа руки сидят и ждут вдохновения от Аполлона. Напрасно, батюшка! У него своих дел достаточно.
И действительно, когда начался спектакль, поднялся занавес и тренированные актеры заговорили в тоне, они потянули нас за собой, точно на аркане. С ними не задремлешь, не опустишь тона. Мне даже казалось, что и я играл с вдохновением. Но – увы! – это только казалось. Роль была далеко не сделана.
Тренировка и дисциплина подлинных артистов сказались еще ярче при повторении «Счастливца» в другом городе – Рязани, почти в том же составе, то есть с артистами Малого театра и со мной. Вот как было дело.
Я был за границей и вернулся в Москву. На перроне среди встречающих я увидел моего товарища, Федотова, сына артистки Федотовой, одного из участников спектакля. Он приехал по поручению всего состава играющих в пьесе «Счастливец» с огромной просьбой выручить их из беды. Надо было тотчас же ехать с ними в Рязань и там играть мою роль вместо заболевшего артиста Малого театра А.И. Южина. Отказать было нельзя, и я поехал, несмотря на утомление после долгого заграничного путешествия, не повидавшись даже с родными, которые ждали меня дома. Нас везли в Рязань во втором классе. Мне дали книжку, чтобы повторить роль, которую я наполовину забыл, так как никогда ее хорошо не знал и играл всего раз. От вагонного шума, ходьбы, болтовни, суеты голова становилась еще тяжелее, и читаемое воспринималось плохо. Я не мог вспомнить текста, волновался, минутами доходил до отчаяния, так как больше всего боялся на сцене незнания слов роли.
«Ну, – думаю, – приедем на место, Бог даст, там найдется свободная комната, где можно будет уединиться, чтобы хоть раз с большим вниманием прочитать роль».
Но оказалось иначе. Спектакль шел не в театре, а в каком-то полковом клубе. Маленькая любительская сценка, а рядом – единственная комната, разгороженная ширмами. В ней всё: мужские и дамские уборные и актерское фойе, где был для нас накрыт чай с самоваром. Сюда же втиснули и военный оркестр, чтобы освободить побольше места в зрительном зале. Когда весь оркестр затрубил во все трубы, забил в барабаны, а мы, тут же, одевались и гримировались, я не взвидел света. Каждая нота марша точно била меня по больному месту головы. Пришлось оставить повторение роли и положиться на суфлера, который, к счастью, был превосходен.
Когда я вышел на сцену, мне показалось, что кто-то свистнул… Опять… еще… сильней… Не могу понять, в чем дело! Остановился, посмотрел в публику и вижу, что некоторые зрители наклонились в мою сторону и со злобой мне свистят.
«За что? Что же я сделал?»
Оказывается, мне свистели за то, что приехал я, а не обещанный Южин. Я так сконфузился, что ушел за кулисы. «Сподобился! Окрестили! Дожил до свиста!» Не могу сказать, чтобы это было приятно. Но по правде, и особенно плохого я в этом не нашел! Я был даже рад, так как это дало мне право на плохую игру. Ее можно было истолковать обидой, оскорблением или просто нежеланием играть как следует. Это право меня ободрило, и я снова вышел на сцену; на этот раз меня встретили аплодисментами, но понятно, что я из самолюбия отнесся к ним презрительно, то есть не обратил на них внимания, стоял точно окаменелый, как будто аплодисменты относились не ко мне. Само собой понятно, что хорошо играть неготовую роль я не мог. К тому же я впервые шел по суфлеру. Какой ужас быть на сцене без наговоренного текста! Кошмар!
Наконец спектакль кончился. Не успели мы разгримироваться, как нас повезли на станцию, чтобы ехать обратно в Москву. Но мы опоздали к поезду, и нам пришлось ночевать в Рязани. Пока искали комнаты для ночлега, поклонники Федотовой и Садовской экспромтом устроили ужин. Боже! Какую жалкую фигуру я представлял из себя тогда – бледный от головной боли, с согнутой спиной, с ослабевшими ногами, которые отказывались служить. Среди ужина я заснул, а в это время Федотова, которая по возрасту годилась мне в матери, была свежа, молода, весела, кокетлива, подтянута, разговорчива. Ее можно было принять за мою сестру. Садовская – тоже немолодая женщина – не уступала подруге.
«Но я же прямо из-за границы», – оправдывал я себя. «Ты из-за границы, а мама больна, у нее тридцать восемь градусов температуры», – объяснил мне ее сын. «Вот она – тренировка и дисциплина!» – подумал я.
Благодаря частым выступлениям в любительских спектаклях я стал довольно известным среди московских дилетантов. Меня охотно приглашали как в отдельные спектакли, так и в кружки, где я перезнакомился почти со всеми артистами-любителями того времени, поработал у многих режиссеров. При этом я имел возможность выбирать и играть те пьесы и роли, которые мне хотелось, что позволило мне испробовать себя в разных ролях, особенно в драматических, о которых всегда мечтает молодежь. Когда в человеке много юных сил и он не знает, куда их девать, приходится «рвать страсть в клочки». Но… как я уже не раз говорил, подобно тому как опасно с непоставленным голосом петь сильные партии, например вагнеровского репертуара, так точно опасно и вредно для молодого человека без надлежащей техники и подготовки браться за непосильные ему роли. Когда приходится делать непосильное, естественно, прибегаешь ко всяким уловкам, то есть уклоняешься от главного, основного пути. Именно это еще раз и в сильнейшей степени повторилось со мной во время моих любительских мытарств – в период все еще длившегося «междуцарствия».
Я играл в разных случайных спектаклях, в быстро возникающих и кончающихся любительских кружках, в грязных, холодных, маленьких любительских помещениях, в ужасной обстановке. Постоянная отмена репетиций, манкировки, флирт вместо работы, болтовня, наскоро слепленные спектакли, на которые публика ходила, только чтобы потанцевать после спектакля. Приходилось играть в неотопленных помещениях. В большие холода я устраивал свою театральную уборную в квартире сестры, которая жила неподалеку от того театра, где я часто играл. В каждом антракте надо было ездить на извозчике в свою уборную, к сестре, для переодевания, а вернувшись – до своего выхода на сцену кутаться в шубу.
Какой ужас эти халтурные любительские спектакли! Чего только я не нагляделся! Вот, например, на один из спектаклей в водевиле, в котором участвовало до пятнадцати человек, не собралось и половины исполнителей, и нас, участвовавших в другой пьесе, заставили играть и в водевиле. Но мы не имели о нем никакого представления.
– Что же мы будем играть? – недоумевая, спрашивали мы.
– Что! Что! Да выходите и говорите что попало. Надо же кончить спектакль, раз публика заплатила деньги!
И мы действительно выходили и черт знает что говорили. Потом уходили, когда нечего было говорить. Выходили другие и делали то же самое. И когда сцена пустела, нас снова выталкивали. И мы, и публика хохотали от бессмысленности того, что происходило на сцене. По окончании спектакля нас вызвали всем театром, кричали «бис», а главный устроитель спектакля торжествовал.
– Видите? Видите? – говорил он. – А вы еще отказывались!
Приходилось участвовать нередко в компании каких-то подозрительных лиц. Что делать? Играть было негде, а играть до смерти хотелось. Тут бывали и шулера, и кокотки. И мне, человеку «с положением», директору Русского музыкального общества, выступать в такой обстановке было далеко не безопасно с точки зрения моей «репутации». Приходилось скрыться за какой-нибудь выдуманной фамилией. И я искал ее в надежде, что она действительно меня скроет. В то время я увлекался одним любителем, доктором М., игравшим под фамилией Станиславского. Он сошел со сцены, перестал играть, и я решил стать его преемником, тем более что польская фамилия, как мне тогда казалось, лучше укрывала меня. Однако я ошибся. Вот что случилось.
Я играл какой-то французский трехактный водевиль, действие которого происходило в уборной актрисы, за кулисами. Завитой, расфранченный, я влетел на сцену с громадным букетом. Влетел… и остолбенел. Передо мной в центральной главной ложе сидели отец, мать, старушки-гувернантки. А в последующих актах мне предстояли такие сцены, которые не могли бы быть пропущены строгой семейной цензурой. Я сразу одеревенел от конфуза и смущения. Вместо бойкого разбитного молодого человека у меня получился скромный, воспитанный мальчик. Вернувшись домой, я не смел показаться на глаза домашним. На следующий день отец сказал мне только одну фразу:
– Если ты непременно хочешь играть на стороне, то создай себе приличный кружок и репертуар, но только не играй всякую гадость бог знает с кем.
Старая гувернантка, помнившая меня еще в колыбели, воскликнула:
– Никогда, никогда я не думала, что наш Костя, такой чистый молодой человек, способен публично… Ужасно! Ужасно! Зачем глаза мои видели это?!
Однако нет худа без добра: во время этих скитаний по любительским спектаклям я узнал некоторых лиц, которые впоследствии стали видными членами нашего любительского кружка Общество искусства и литературы, а потом перешли и в Художественный театр.
Другие электронные книги автора Константин Сергеевич Станиславский
Другие аудиокниги автора Константин Сергеевич Станиславский
Этика




 0
0