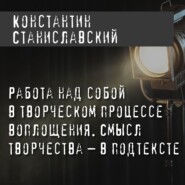По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моя жизнь в искусстве. В спорах о Станиславском
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Смотри мне в рот. Видишь, что делает язык – ложится к корням верхних зубов. И ты сделай так же. Говори! Повтори десять раз! Открой рот сильнее – теперь я буду тебе в рот смотреть!
Я убедился на собственном опыте, что через неделю или две упорных занятий можно исправить неверно поставленные согласные и знать, что нужно делать для того, чтобы они произносились правильно.
Учителя пения из оперных артистов ставили голоса избранным ученикам драматического отдела.
В классах дикции выучивались стихи и учили декламировать их. Тут многое зависело от самого преподавателя. Те, кто любил ложный пафос, якобы необходимый для трагедии, учили распевать слова; другие, предпочитавшие внутренний пафос показному, внешнему, добивались простоты и силы проникновением в суть того, что читалось. Конечно, это было несравненно труднее, но и несравненно вернее. Параллельно с этим изучалась какая-нибудь роль или для сцены и публичного спектакля, или для упражнения на вечерах школьных отрывков.
Михаил Семенович Щепкин, как говорят, так умел подойти к своим ученикам, так умел заглянуть к ним в душу и завладеть их чувством, что они тотчас понимали его. Как он это делал – тайна, о которой не осталось никаких следов, если не считать нескольких его писем к Шуйскому, к Александре Ивановне Шуберт, к Гоголю, к Анненкову.
Когда роль была сыграна, каждый новый спектакль являлся как бы репетицией, после которой ученика хвалили или бранили с необходимыми пояснениями. Если учениц проваливался, ему рассказывали, почему, чего ему не хватает, над чем нужно работать и что было хорошо. Хорошее его, конечно, ободряло, а остальные замечания направляли. Но если он зазнавался, тогда не церемонились. Так учили в старину.
Потомки и последователи этих великих артистов донесли до нас остатки этих простых, незаписанных мудрых традиций и педагогических приемов. Они старались идти по намеченному их учителями пути. Одним, как, например, Федотовой, ее мужу Федотову, Надежде Михайловне Медведевой, В.Н. Давыдову и прочим талантливым людям, удавалось передать духовную сущность традиций. Другие же, менее талантливые, понимали ее поверхностно и говорили больше о внешней форме, чем о внутреннем ее содержании. Третьи говорили о приемах игры вообще, а не о самой сущности искусства. Эти малодаровитые люди внешне копировали Щепкина и воображали, что они преподают ? la Щепкин, но на самом деле просто показывали целый ряд штампов и учили, как «играется» такая-то роль, или рассказывали, что должно в конце концов, в конечном результате получаться при изображении такой-то роли.
За столом, покрытым зеленым сукном, сидело несколько артистов и очень много не артистов, а разных педагогов и чиновников, никакого отношения к искусству не имевших. Они, как кажется, по большинству голосов решали после одного неполного чтения какого-нибудь стихотворения судьбу экзаменующихся талантов и бездарностей. Я знаю по своему личному опыту в течение многих лет, что те экзаменующиеся, которые проходят первыми номерами, редко оправдывают возлагаемые на них надежды. Человеку с хорошими внешними данными, немного набившему себе руку на любительских спектаклях и концертах, нетрудно обмануть на экзамене даже опытного преподавателя, который притом настроен так, что сам хочет и ищет видеть в каждом экзаменующемся ученике новоявленный талант. Очень лестно открыть нового гения. Приятно гордиться талантливым учеником. Но истинные таланты нередко глубоко скрыты в душах. Их нелегко вызвать наружу. Вот почему, по моим воспоминаниям, многие из артистов, которые стали теперь известными, на вступительном экзамене прошли далеко не первыми номерами. А многие из них, как, например, Орленев, Книппер, были забракованы в одном из лучших театральных училищ. Сравните такой способ приема в школу с тем, который практиковался в старом театре, и вы поймете разницу.
Я, поигравший уже много на любительских спектаклях, взял опытом.
Каждый из экзаменующих сказал, вероятно, про меня: «Конечно, это не то! Все это никуда не годится. Но рост, голос, фигура редки на сцене».
Кроме того, меня знала лично Гликерия Николаевна Федотова, так как я постоянно бывал у нее в доме и дружил с ее сыном – моим сверстником, студентом и большим любителем театра и драматического искусства, впоследствии актером Малого театра. Несмотря на плохое чтение, я был принят.
В описываемое время от учеников требовался довольно большой общеобразовательный ценз, было введено очень много научных предметов. Ученые профессора набивали ученикам голову всякими сведениями о пьесе, которую репетировали. Все это возбуждало мышление, но чувство оставалось спокойным. Нам говорили очень образно и талантливо, какой должна быть роль и пьеса, то есть о конечных результатах творчества, но как сделать, чтоб этого добиться, каким творческим путем и методом подходить к этому желаемому результату – об этом умалчивали. Нас учили играть вообще или в частности данную роль, но нас не учили нашему искусству. Была беспочвенность и бессистемность. Практические приемы не проверялись научным исследованием. Я чувствовал себя каким-то тестом, из которого пекут булку определенного вкуса и вида.
Учеников учили читать почти с голоса, играть с помощью показывания, отчего каждый из нас прежде всего копировал своих учителей. Ученики читали необыкновенно правильно, по запятым и точкам, по всем грамматическим законам, и все были похожи друг на друга по внешней форме, которая, точно мундир, скрывала внутреннюю суть человека. Не для того писал поэт свои стихотворения, баллады, совсем не о том он говорил в них своим чувством и совсем не то важно было для него, о чем нам говорили чтецы с концертной эстрады. Я знал преподавателей, которые учили своих учеников так:
– Поставь голос на колок и жарь! Напрягись, сгусти голос! Читай как выйдет!
Другой преподаватель, после просмотра отрывка на показном спектакле, пришел за кулисы и возмущался:
– Вы совсем не качаете головой! Когда человек говорит, он непременно качает головой.
Это качание имеет свою маленькую историю. В то время был прекрасный артист, имевший большой успех и вызвавший много подражателей своей игре. К сожалению, у него был один досадный недостаток: он имел привычку качать головой. И все его последователи, забыв совершенно о том, что их оригинал прежде всего талант с прекрасными данными и блестящей техникой, взяли у него не те качества его, которые нельзя заимствовать у другого, а лишь его недостатки, то есть качание головой, которое нетрудно перенять. Целые выпуски учеников выходили из школы с качающимися головами.
Словом, от учеников требовали, чтобы они повторяли то, что было у их учителей. И они делали то же самое, но, конечно, значительно хуже, так как не могли за неимением достаточного таланта и техники сделать то же самое хорошо, как подлинные артисты. Но они могли бы сделать это хорошо по-своему. Пусть это будет хуже, но зато это будет искренно, правдиво и естественно, так, что им можно будет поверить. В искусстве можно делать многое – лишь бы это было художественно убедительно.
И все-таки, несмотря на все недостатки преподавания драматического искусства, благодаря отдельным талантливым педагогам, о которых я уже говорил, дух Щепкина еще держался в школах и театрах и дошел до нас, хотя, конечно, уже в вырождающемся виде.
Поступив в театральную школу, я попал в компанию учеников, которые были намного моложе меня. Там были школьники и школьницы, начиная с пятнадцати лет, а я уже был одним из директоров Музыкального общества, председателем разных благотворительных учреждений. Разница между нами и нашими воззрениями была слишком разительна, для того чтобы я мог чувствовать себя как дома среди школьного режима и заправских учеников. Кроме того, невозможность быть аккуратным в школе при моих фабричных и конторских неотложных обязанностях, намеки на мое вечное опаздывание, колкости товарищей насчет поблажек, которые мне делались, а им – нет, в смысле манкировок, – все это мне надоело, и я ушел из школы, пробыв там не более трех недель. К тому же вскоре покинула школу и Гликерия Николаевна, ради которой стоило оставаться там.
Артистическое отрочество
Алексеевский кружок
Оперетка
В то время, о котором идет речь, была в большой моде оперетка. Известный антрепренер Лентовский собрал прекрасные артистические силы, среди которых были подлинные таланты, певцы и артисты всех амплуа. Энергией этого исключительного человека было создано летнее театральное предприятие, невиданное нигде в мире по разнообразию, богатству и широте. Целый квартал среди города был занят густым парком с холмами, дорожками по склону гор, площадками, прудами с проточной водой. Сад назывался «Эрмитажем» (не теперешний, новый, а прежний, старый). Теперь от него не осталось и помину, так как вся площадь сада застроена домами. Чего только не было в этом саду! Катание на лодках по пруду и невероятный по богатству и разнообразию водяной фейерверк со сражениями броненосцев и потоплением их, хождение по канату через пруд, водяные праздники с гондолами, иллюминованными лодками, купающиеся нимфы в пруду, балет на берегу и в воде. Много прогулок, таинственных беседок, дорожек с поэтическими скамейками на берегу пруда. Весь сад залит десятками, а может быть, и сотнями тысяч огней рефлекторов, щитов и иллюминационных шкаликов. Два театра – один огромный, на несколько тысяч человек, для оперетки, другой – на открытом воздухе, для мелодрамы и феерии, называемый «Антей», устроенный в виде греческих развалин. В обоих театрах были великолепные по тому времени постановки, с несколькими оркестрами, балетом, хорами и прекрасными артистическими силами, рядом с театром – две большие площадки со сценой для воздушных представлений, с огромным партером для публики, расположенным под открытым небом. Все, что было известно в Европе в области садовой эстрады, начиная с кафешантанных див и кончая эксцентриками и гипнотизерами, – все перебывало в «Эрмитаже». Те, кого приглашали в Москву, котировались выше на всемирной актерской бирже. Другая, еще большая площадка была отдана цирку, акробатике, укротителям зверей, воздушным полетам, бегам, ристалищам, борьбе.
Шествия, военные оркестры, хоры цыган, русских песенников и проч. Вся Москва и приезжающие в нее иностранцы посещали знаменитый сад. Буфеты торговали беспрерывно. Семейная публика, простой народ, аристократы, кокотки, кутящая молодежь, деловые люди – все по вечерам бежали в «Эрмитаж», особенно в летний жаркий день, когда в Москве было трудно дышать от зноя. Антрепренер Лентовский больше всего заботился о том, чтобы сад его посещался семейной публикой, и был чрезвычайно строг ко всему, что портило добрую репутацию его учреждения. Чтоб поддержать ее, он терроризировал публику, распуская про себя самые невероятные слухи: такого-то скандалиста он будто бы схватил за шиворот и перебросил через забор к соседу; чтоб охладить разбушевавшегося пьяницу, он будто бы выкупал его в пруду. Кокотки боялись его как огня и потому держали себя в саду не хуже барышень в великосветском пансионе. А если кто-нибудь из них нарушал порядок, прекращалось навсегда право ее входа в сад, а с ним кончался и заработок.
Всему этому можно было верить, так как строгий антрепренер был внушительного вида. Он обладал огромной силой, импозантной фигурой с широкими плечами, с красивой черной окладистой бородой немного восточного типа и с длинными русскими волосами под старинного боярина. Громкий голос, энергичная уверенная походка, русская поддевка из тонкого черного сукна, высокие лаковые сапоги придавали всей его фигуре молодцеватую стройность. Большая золотая цепь, увешанная всевозможными брелоками и подношениями от публики и именитых лиц, не исключая и коронованных. Русский картуз с большим козырьком и огромная палка, почти дубина, устрашавшая всех скандалистов. Лентовский неожиданно появлялся во всех углах своего огромного сада, не упуская из виду ничего в нем происходившего. Вот этот-то любимый тогдашней молодежью «Эрмитаж» и стал мечтой наших театральных достижений.
Летом 1884 года мы решили взяться за оперетку. При этом не только актеры Лентовского, не только то, что происходило в его театре, но и то, что было снаружи, сделалось образцом для нашей копировки.
Нам хотелось устроить на большой площадке перед театром в Любимовке эстраду для музыки, иллюминацию из плошек и шкаликов, поставить много столиков для желающих пить чай, прохладительные напитки и дать воздушную программу, с блестящим фейерверком на реке. Как в «Эрмитаже», все удовольствия должны были протекать беспрерывно. Не успеют кончить в театре, как музыка играет снаружи и призывает гостей для ряда новых удовольствий. Не успеют они окончиться, уже звонят в театре к началу следующего акта. Легко себе представить, каких хлопот стоило нам устроить такой вечер всего на один раз, без повторения, за неимением достаточного количества публики. Большую часть работ по иллюминации и убранству сада мы исполняли за недостатком средств собственными руками. А параллельно с этой работой шли репетиции оперетки с большими хорами и ансамблем. Ставили первый акт «Маскотты», в которой я, конечно, пел партию красавца-пастуха Пипо. Стыдно теперь смотреть на свою фотографию в этой роли. Все пошлое, что есть в конфетной или парикмахерской красоте, взято было для грима. Закрученные усики, завитые волосы, обтянутые ноги. И это для простого, близкого к природе пастуха! До какого абсурда доходит актер, когда он пользуется театром для самопоказывания! На этот раз я увлекался оперными жестами и мертвым, отжившим шаблоном. Пел я, конечно, по-любительски.
Кроме меня, все остальные актеры были довольно милы в своих ролях. Хоры были составлены из домашних и знакомых, у которых был хоть малейший намек на голос. Все они несли огромный труд. Многим – и мне со старшим братом в том числе – приходилось почти ежедневно приезжать в деревню, к семи часам вечера, после конторской работы, и после обеда, часов с девяти, до двух-трех ночи репетировать, а на следующий день вставать в шесть часов и ехать в Москву, чтоб снова возвращаться к вечерней репетиции. Не понимаю, как мы только выдерживали такую работу. Это было тем более удивительно, что и ночью мы далеко не всегда спали, потому что после репетиций отправлялись в одну общую, большую, отведенную для нас и для хористов-гостей комнату, и там почти всю ночь веселились. Вся площадь отведенной нам комнаты была уставлена постелями, оставлен лишь один небольшой коридорчик для прохода. Можете себе представить, что в нашем дортуаре происходило! Остроты, анекдоты, болтовня, смех до упаду, до колик, изображение зверей, обезьян, которых мы представляли, спрыгивая в костюме Адама со шкафа. Ночное купание в реке, представление цирка, гимнастика, прогулки по крыше дома.
Дело дошло до того, что потолок нашего дортуара треснул. Пришлось разгружать нашу комнату и расселять хористов по разным другим помещениям. Но и тут мы не унимались и бегали партиями друг к другу в гости.
И внутри, в театре, и снаружи, на площадке, спектакль и гулянье прошли с успехом, но пользы нам, артистам, от этого было мало. Напротив, был вред, так как к прежним драматическим штампам я прибавил еще новые, оперные и опереточные.
Тем не менее оперетка, водевиль – хорошая школа для артистов. Старики, наши предшественники, недаром начинали с них свою карьеру, на них учились драматическому искусству, на них вырабатывали артистическую технику. Голос, дикция, жест, движения, легкий ритм, бодрый темп, искреннее веселье – необходимы в легком жанре. Мало того – нужно изящество и шик, которые дают произведению пикантность вроде того газа, без которого шампанское становится кислой водицей. Преимущество этого жанра еще в том, что он, требуя большой внешней техники и тем вырабатывая ее, не перегружает и не насилует души сильными и сложными чувствами, не задает непосильных для молодых актеров внутренних творческих задач. Все эти большие артистические требования оперетки мы понимали тогда и с меньшим мириться не могли, так как уже изощрившийся вкус требовал для искусства именно такой утонченности. Но я, как назло, был высок, неуклюж, неграциозен и косноязычен на многих буквах. Я отличался исключительной неловкостью: когда я входил в маленькую комнату, спешили убирать статуэтки, вазы, которые я задевал и разбивал. Однажды на большом балу я уронил пальму в кадке. Другой раз, ухаживая за барышней и танцуя с ней, я споткнулся, схватился за рояль, у которого была подломана ножка, и вместе с роялем упал на пол.
Все эти комические случаи прославили мою неловкость. Я не смел даже заикаться о том, что хочу быть актером, так как это вызывало только насмешки и остроты товарищей.
Приходилось бороться со своими данными, работать над голосом, дикцией, жестом, приходилось искать и мучиться творческими муками. Работа над собой доходила у меня до мании.
Было жаркое лето, я решился отказаться от деревенского воздуха, от летней природы и удобств семейной жизни. Все эти жертвы приносились ради занятий в опустевшем городском доме. Там, в большой передней, перед огромным зеркалом, было хорошо работать над жестом и пластикой, а мраморные стены и лестница давали хороший резонанс для голоса. В течение всего лета и осени, по окончании конторских занятий, с семи часов вечера и до трех-четырех ночи, я без перерыва работал по составленной для себя программе.
Нельзя перечесть всего, что делалось в это время: что бы ни попалось под руки – плед, кусок материи, часть одежды, мужская или женская шляпа, – применялось для создания внешнего образа, который я сам для себя воображал. Просматривая себя, как собственный зритель, в зеркало, я знакомился с телом, пластикой. Я был тогда неопытен и не подозревал того вреда, который таит в себе работа перед зеркалом. Тем не менее была и доля пользы от такой работы. Я познал свое тело, его недостатки и внешние средства борьбы с ними. И в смысле общетеатральной пластики были сделаны большие успехи, что помогло мне в следующем же году взяться за новый жанр и попробовать французскую комедию с пением, которую в то время ввела в моду замечательная французская артистка Анна Жюдик – кумир Москвы, Петербурга, Парижа и всей Франции. С этого момента я на один шаг приблизился к драме.
Сестры вернулись из Парижа, восхищенные Жюдик. Они видели ее в «Лили» – комедии с пением в четырех действиях. В ней очень немного действующих лиц и много музыкальных и драматических достоинств. Сестры не только рассказали нам сюжет пьесы по порядку, почти дословно, но и пропели нам все музыкальные номера. Только острая молодая память способна запомнить с такой точностью раз или два виденный на сцене спектакль.
Тотчас же приступили к записи текста со слов сестер и составлению самой пьесы. Обыкновенно французский язык при переводе на русский дает очень длинные фразы и сложные периоды. Мы же решили писать текст только короткими фразами, не длиннее французских.
Каждая переводимая фраза проверялась тем исполнителем, который будет ее произносить. Каждая фраза должна была хорошо ложиться на язык, давать возможность актеру интонировать и акцентировать ее на французский лад. К счастью, почти все исполнители пьесы не только хорошо знали французский язык, но даже понимали его аромат и музыку. Недаром в нашей семье текла французская актерская кровь. Некоторые же из исполнителей, особенно старшая сестра З.С. Алексеева (Соколова), достигли в этом смысле совершенства. Невозможно было отличить у нее, на каком языке она говорит – на русском или на французском.
Правда, она, как и мы, пренебрегала смыслом и сутью фразы, а пользовалась ею больше для звука и французской интонации. И потому зритель, смотря русский спектакль, минутами думал, что он исполняется на иностранном языке. И в области движения и действия был найден ритм и темп, типичные для французов. Мы знали и чувствовали приемы говора и манер французов.
Мизансцена, постановка, конечно, была рабски скопирована с Парижа – со слов сестер.
Я очень скоро усвоил приемы речи и движений французской роли, и это сразу дало мне какую-то самостоятельность на сцене. Быть может, я не играл образа, созданного автором, но несомненно, что мне удалось дать образ подлинного француза. И это уже успех, так как если я и копировал, то не готовый мертвый театральный шаблон, а то живое, что сам подметил в жизни. С той минуты как я почувствовал национальную характерность роли, мне было легко оправдывать и темп и ритм моих движений и речи. Это уже не было темпом ради темпа, ритмом ради ритма, это был внутренний ритм, хотя и общего характера, свойственный вообще всем французам, а не одному индивидуальному лицу, которое я изображал.
Спектакль имел шумный успех и был повторен много раз, при переполненном зале, – конечно, бесплатно. Возможность повторять многократно наши спектакли делала нас гордыми. Значит, мы становились популярны. Героиней вечера была сестра З.С. Алексеева (Соколова), а я имел приличный успех.
Но была ли артистическая польза от этого спектакля? Я думаю, что да, и даже двойная. Во-первых, подражание французскому языку облегчило нашу тяжелую речь и придало ей некоторую остроту, смягчив национальную русскую расплывчатость. А во-вторых, благодаря самому содержанию пьесы и характеру ролей, от нас, естественно, потребовался новый подход к роли: от характерности. В самом деле, в первом акте я являлся совсем молодым солдатом – трубачом «piou-piou», во втором акте – ловким офицером лет двадцати пяти, а в последнем акте – древним генералом-подагриком в отставке. Пусть характерность, которую я тогда искал, была внешняя. Но ведь иногда от внешнего можно прийти к внутреннему. Это, конечно, не лучший, но тем не менее иногда возможный ход в творчестве. И он мне помог местами зажить ролью, как это случилось раньше, при постановке пьесы «Практический господин», в роли студента.
На следующий зимний сезон в городском театре-столовой домашний Алексеевский кружок готовил, под режиссерством моего брата, В.С. Алексеева, большую и трудную постановку – японскую оперетку «Микадо» с музыкой английского композитора Сюлливана и с декорациями К.А. Коровина.
На всю эту зиму наш дом превратился в уголок Японии. Целая японская семья акробатов, работавших в местном цирке, дневала и ночевала у нас. Они оказались очень порядочными людьми и, как говорится, пришлись к дому. Японцы научили нас всем их обычаям: манере ходить, держаться, кланяться, танцевать, жестикулировать веером и владеть им. Это хорошее упражнение для тела. По их указаниям были сшиты для всех участвующих и даже неучаствующих японские ситцевые репетиционные костюмы с кушаками, которые мы сами практиковались надевать и завязывать. Женщины ходили по целым дням со связанными в коленях ногами; веер стал необходимым, привычным для рук предметом. У нас уже явилась потребность, согласно японскому обычаю, при разговоре помогать себе объясняться веером.
Возвращаясь домой после дневных занятий, мы облачались в наши японские репетиционные костюмы и ходили в них весь вечер до ночи, а в праздник – и целый день. За семейным обеденным или чайным столом восседали японцы с веерами, которые все время как бы фыркали или трещали при резком открывании или закрывании их.
У нас были японские танцклассы, и женщины изучили все обольстительные приемы гейш. Мы умели в ритм поворачиваться на каблуках, показывая то правый, то левый профиль, падать на пол, складываясь пополам, как гимнасты, бегать в такт мелкой походкой, прыгать, кокетливо семенить ножками. Некоторые дамы, наконец, научились в ритм танца бросать веер вперед так, чтобы он, летя, сделал полукруг и попал в руки других – танцора или певца. Мы научились жонглировать веером, перебрасывать его через плечо, через ногу и, главное, усвоили все без исключения японские позы с веером, из которых была составлена целая скала жестов по номерам и зафиксирована по всей партитуре, точно ноты в музыке. Таким образом, на каждый пассаж, такт, сильную ноту был определен свой жест, движение, действие с веером. В массовых сценах, то есть в хорах, каждому из поющих была дана своя скала жестов и движений с веером на каждую акцентируемую музыкальную ноту, такт, пассаж. Позы с веером намечались в связи с задуманной общей группой или, вернее, целым калейдоскопом непрерывно менявшихся и переливавшихся групп: в то время как одни взметывали веера вверх, другие опускали их, раскрывая их внизу, у самых ног, третьи делали то же вправо, четвертые – влево и т. д.
Когда в больших ансамбльных сценах приводился в движение весь этот калейдоскоп и по воздуху летели по всей сцене огромные, средние и малые красные, зеленые, желтые веера – захватывало дух от этой эффектной театральности. Было нагорожено много всяких площадок, для того чтобы можно было – от первого плана, где актеры с веерами лежали на полу, до последнего, где они стояли на самых высоких местах, – заполнять веерами всю арку невысокой сцены; они застилали ее, точно занавес. Сценические площадки – старый, но удобный для режиссера прием для театральных группировок. Прибавьте к описанию спектакля красочные костюмы, из которых многие были подлинные японские, старинные латы самураев, знамена, подлинную японщину, оригинальную пластику, актерскую ловкость, жонглирование, акробатику, ритм, танцы, хорошенькие молодые лица барышень и юношей, азарт и темперамент – и успех станет понятен.
Один лишь я был пятном в спектакле.
Я убедился на собственном опыте, что через неделю или две упорных занятий можно исправить неверно поставленные согласные и знать, что нужно делать для того, чтобы они произносились правильно.
Учителя пения из оперных артистов ставили голоса избранным ученикам драматического отдела.
В классах дикции выучивались стихи и учили декламировать их. Тут многое зависело от самого преподавателя. Те, кто любил ложный пафос, якобы необходимый для трагедии, учили распевать слова; другие, предпочитавшие внутренний пафос показному, внешнему, добивались простоты и силы проникновением в суть того, что читалось. Конечно, это было несравненно труднее, но и несравненно вернее. Параллельно с этим изучалась какая-нибудь роль или для сцены и публичного спектакля, или для упражнения на вечерах школьных отрывков.
Михаил Семенович Щепкин, как говорят, так умел подойти к своим ученикам, так умел заглянуть к ним в душу и завладеть их чувством, что они тотчас понимали его. Как он это делал – тайна, о которой не осталось никаких следов, если не считать нескольких его писем к Шуйскому, к Александре Ивановне Шуберт, к Гоголю, к Анненкову.
Когда роль была сыграна, каждый новый спектакль являлся как бы репетицией, после которой ученика хвалили или бранили с необходимыми пояснениями. Если учениц проваливался, ему рассказывали, почему, чего ему не хватает, над чем нужно работать и что было хорошо. Хорошее его, конечно, ободряло, а остальные замечания направляли. Но если он зазнавался, тогда не церемонились. Так учили в старину.
Потомки и последователи этих великих артистов донесли до нас остатки этих простых, незаписанных мудрых традиций и педагогических приемов. Они старались идти по намеченному их учителями пути. Одним, как, например, Федотовой, ее мужу Федотову, Надежде Михайловне Медведевой, В.Н. Давыдову и прочим талантливым людям, удавалось передать духовную сущность традиций. Другие же, менее талантливые, понимали ее поверхностно и говорили больше о внешней форме, чем о внутреннем ее содержании. Третьи говорили о приемах игры вообще, а не о самой сущности искусства. Эти малодаровитые люди внешне копировали Щепкина и воображали, что они преподают ? la Щепкин, но на самом деле просто показывали целый ряд штампов и учили, как «играется» такая-то роль, или рассказывали, что должно в конце концов, в конечном результате получаться при изображении такой-то роли.
За столом, покрытым зеленым сукном, сидело несколько артистов и очень много не артистов, а разных педагогов и чиновников, никакого отношения к искусству не имевших. Они, как кажется, по большинству голосов решали после одного неполного чтения какого-нибудь стихотворения судьбу экзаменующихся талантов и бездарностей. Я знаю по своему личному опыту в течение многих лет, что те экзаменующиеся, которые проходят первыми номерами, редко оправдывают возлагаемые на них надежды. Человеку с хорошими внешними данными, немного набившему себе руку на любительских спектаклях и концертах, нетрудно обмануть на экзамене даже опытного преподавателя, который притом настроен так, что сам хочет и ищет видеть в каждом экзаменующемся ученике новоявленный талант. Очень лестно открыть нового гения. Приятно гордиться талантливым учеником. Но истинные таланты нередко глубоко скрыты в душах. Их нелегко вызвать наружу. Вот почему, по моим воспоминаниям, многие из артистов, которые стали теперь известными, на вступительном экзамене прошли далеко не первыми номерами. А многие из них, как, например, Орленев, Книппер, были забракованы в одном из лучших театральных училищ. Сравните такой способ приема в школу с тем, который практиковался в старом театре, и вы поймете разницу.
Я, поигравший уже много на любительских спектаклях, взял опытом.
Каждый из экзаменующих сказал, вероятно, про меня: «Конечно, это не то! Все это никуда не годится. Но рост, голос, фигура редки на сцене».
Кроме того, меня знала лично Гликерия Николаевна Федотова, так как я постоянно бывал у нее в доме и дружил с ее сыном – моим сверстником, студентом и большим любителем театра и драматического искусства, впоследствии актером Малого театра. Несмотря на плохое чтение, я был принят.
В описываемое время от учеников требовался довольно большой общеобразовательный ценз, было введено очень много научных предметов. Ученые профессора набивали ученикам голову всякими сведениями о пьесе, которую репетировали. Все это возбуждало мышление, но чувство оставалось спокойным. Нам говорили очень образно и талантливо, какой должна быть роль и пьеса, то есть о конечных результатах творчества, но как сделать, чтоб этого добиться, каким творческим путем и методом подходить к этому желаемому результату – об этом умалчивали. Нас учили играть вообще или в частности данную роль, но нас не учили нашему искусству. Была беспочвенность и бессистемность. Практические приемы не проверялись научным исследованием. Я чувствовал себя каким-то тестом, из которого пекут булку определенного вкуса и вида.
Учеников учили читать почти с голоса, играть с помощью показывания, отчего каждый из нас прежде всего копировал своих учителей. Ученики читали необыкновенно правильно, по запятым и точкам, по всем грамматическим законам, и все были похожи друг на друга по внешней форме, которая, точно мундир, скрывала внутреннюю суть человека. Не для того писал поэт свои стихотворения, баллады, совсем не о том он говорил в них своим чувством и совсем не то важно было для него, о чем нам говорили чтецы с концертной эстрады. Я знал преподавателей, которые учили своих учеников так:
– Поставь голос на колок и жарь! Напрягись, сгусти голос! Читай как выйдет!
Другой преподаватель, после просмотра отрывка на показном спектакле, пришел за кулисы и возмущался:
– Вы совсем не качаете головой! Когда человек говорит, он непременно качает головой.
Это качание имеет свою маленькую историю. В то время был прекрасный артист, имевший большой успех и вызвавший много подражателей своей игре. К сожалению, у него был один досадный недостаток: он имел привычку качать головой. И все его последователи, забыв совершенно о том, что их оригинал прежде всего талант с прекрасными данными и блестящей техникой, взяли у него не те качества его, которые нельзя заимствовать у другого, а лишь его недостатки, то есть качание головой, которое нетрудно перенять. Целые выпуски учеников выходили из школы с качающимися головами.
Словом, от учеников требовали, чтобы они повторяли то, что было у их учителей. И они делали то же самое, но, конечно, значительно хуже, так как не могли за неимением достаточного таланта и техники сделать то же самое хорошо, как подлинные артисты. Но они могли бы сделать это хорошо по-своему. Пусть это будет хуже, но зато это будет искренно, правдиво и естественно, так, что им можно будет поверить. В искусстве можно делать многое – лишь бы это было художественно убедительно.
И все-таки, несмотря на все недостатки преподавания драматического искусства, благодаря отдельным талантливым педагогам, о которых я уже говорил, дух Щепкина еще держался в школах и театрах и дошел до нас, хотя, конечно, уже в вырождающемся виде.
Поступив в театральную школу, я попал в компанию учеников, которые были намного моложе меня. Там были школьники и школьницы, начиная с пятнадцати лет, а я уже был одним из директоров Музыкального общества, председателем разных благотворительных учреждений. Разница между нами и нашими воззрениями была слишком разительна, для того чтобы я мог чувствовать себя как дома среди школьного режима и заправских учеников. Кроме того, невозможность быть аккуратным в школе при моих фабричных и конторских неотложных обязанностях, намеки на мое вечное опаздывание, колкости товарищей насчет поблажек, которые мне делались, а им – нет, в смысле манкировок, – все это мне надоело, и я ушел из школы, пробыв там не более трех недель. К тому же вскоре покинула школу и Гликерия Николаевна, ради которой стоило оставаться там.
Артистическое отрочество
Алексеевский кружок
Оперетка
В то время, о котором идет речь, была в большой моде оперетка. Известный антрепренер Лентовский собрал прекрасные артистические силы, среди которых были подлинные таланты, певцы и артисты всех амплуа. Энергией этого исключительного человека было создано летнее театральное предприятие, невиданное нигде в мире по разнообразию, богатству и широте. Целый квартал среди города был занят густым парком с холмами, дорожками по склону гор, площадками, прудами с проточной водой. Сад назывался «Эрмитажем» (не теперешний, новый, а прежний, старый). Теперь от него не осталось и помину, так как вся площадь сада застроена домами. Чего только не было в этом саду! Катание на лодках по пруду и невероятный по богатству и разнообразию водяной фейерверк со сражениями броненосцев и потоплением их, хождение по канату через пруд, водяные праздники с гондолами, иллюминованными лодками, купающиеся нимфы в пруду, балет на берегу и в воде. Много прогулок, таинственных беседок, дорожек с поэтическими скамейками на берегу пруда. Весь сад залит десятками, а может быть, и сотнями тысяч огней рефлекторов, щитов и иллюминационных шкаликов. Два театра – один огромный, на несколько тысяч человек, для оперетки, другой – на открытом воздухе, для мелодрамы и феерии, называемый «Антей», устроенный в виде греческих развалин. В обоих театрах были великолепные по тому времени постановки, с несколькими оркестрами, балетом, хорами и прекрасными артистическими силами, рядом с театром – две большие площадки со сценой для воздушных представлений, с огромным партером для публики, расположенным под открытым небом. Все, что было известно в Европе в области садовой эстрады, начиная с кафешантанных див и кончая эксцентриками и гипнотизерами, – все перебывало в «Эрмитаже». Те, кого приглашали в Москву, котировались выше на всемирной актерской бирже. Другая, еще большая площадка была отдана цирку, акробатике, укротителям зверей, воздушным полетам, бегам, ристалищам, борьбе.
Шествия, военные оркестры, хоры цыган, русских песенников и проч. Вся Москва и приезжающие в нее иностранцы посещали знаменитый сад. Буфеты торговали беспрерывно. Семейная публика, простой народ, аристократы, кокотки, кутящая молодежь, деловые люди – все по вечерам бежали в «Эрмитаж», особенно в летний жаркий день, когда в Москве было трудно дышать от зноя. Антрепренер Лентовский больше всего заботился о том, чтобы сад его посещался семейной публикой, и был чрезвычайно строг ко всему, что портило добрую репутацию его учреждения. Чтоб поддержать ее, он терроризировал публику, распуская про себя самые невероятные слухи: такого-то скандалиста он будто бы схватил за шиворот и перебросил через забор к соседу; чтоб охладить разбушевавшегося пьяницу, он будто бы выкупал его в пруду. Кокотки боялись его как огня и потому держали себя в саду не хуже барышень в великосветском пансионе. А если кто-нибудь из них нарушал порядок, прекращалось навсегда право ее входа в сад, а с ним кончался и заработок.
Всему этому можно было верить, так как строгий антрепренер был внушительного вида. Он обладал огромной силой, импозантной фигурой с широкими плечами, с красивой черной окладистой бородой немного восточного типа и с длинными русскими волосами под старинного боярина. Громкий голос, энергичная уверенная походка, русская поддевка из тонкого черного сукна, высокие лаковые сапоги придавали всей его фигуре молодцеватую стройность. Большая золотая цепь, увешанная всевозможными брелоками и подношениями от публики и именитых лиц, не исключая и коронованных. Русский картуз с большим козырьком и огромная палка, почти дубина, устрашавшая всех скандалистов. Лентовский неожиданно появлялся во всех углах своего огромного сада, не упуская из виду ничего в нем происходившего. Вот этот-то любимый тогдашней молодежью «Эрмитаж» и стал мечтой наших театральных достижений.
Летом 1884 года мы решили взяться за оперетку. При этом не только актеры Лентовского, не только то, что происходило в его театре, но и то, что было снаружи, сделалось образцом для нашей копировки.
Нам хотелось устроить на большой площадке перед театром в Любимовке эстраду для музыки, иллюминацию из плошек и шкаликов, поставить много столиков для желающих пить чай, прохладительные напитки и дать воздушную программу, с блестящим фейерверком на реке. Как в «Эрмитаже», все удовольствия должны были протекать беспрерывно. Не успеют кончить в театре, как музыка играет снаружи и призывает гостей для ряда новых удовольствий. Не успеют они окончиться, уже звонят в театре к началу следующего акта. Легко себе представить, каких хлопот стоило нам устроить такой вечер всего на один раз, без повторения, за неимением достаточного количества публики. Большую часть работ по иллюминации и убранству сада мы исполняли за недостатком средств собственными руками. А параллельно с этой работой шли репетиции оперетки с большими хорами и ансамблем. Ставили первый акт «Маскотты», в которой я, конечно, пел партию красавца-пастуха Пипо. Стыдно теперь смотреть на свою фотографию в этой роли. Все пошлое, что есть в конфетной или парикмахерской красоте, взято было для грима. Закрученные усики, завитые волосы, обтянутые ноги. И это для простого, близкого к природе пастуха! До какого абсурда доходит актер, когда он пользуется театром для самопоказывания! На этот раз я увлекался оперными жестами и мертвым, отжившим шаблоном. Пел я, конечно, по-любительски.
Кроме меня, все остальные актеры были довольно милы в своих ролях. Хоры были составлены из домашних и знакомых, у которых был хоть малейший намек на голос. Все они несли огромный труд. Многим – и мне со старшим братом в том числе – приходилось почти ежедневно приезжать в деревню, к семи часам вечера, после конторской работы, и после обеда, часов с девяти, до двух-трех ночи репетировать, а на следующий день вставать в шесть часов и ехать в Москву, чтоб снова возвращаться к вечерней репетиции. Не понимаю, как мы только выдерживали такую работу. Это было тем более удивительно, что и ночью мы далеко не всегда спали, потому что после репетиций отправлялись в одну общую, большую, отведенную для нас и для хористов-гостей комнату, и там почти всю ночь веселились. Вся площадь отведенной нам комнаты была уставлена постелями, оставлен лишь один небольшой коридорчик для прохода. Можете себе представить, что в нашем дортуаре происходило! Остроты, анекдоты, болтовня, смех до упаду, до колик, изображение зверей, обезьян, которых мы представляли, спрыгивая в костюме Адама со шкафа. Ночное купание в реке, представление цирка, гимнастика, прогулки по крыше дома.
Дело дошло до того, что потолок нашего дортуара треснул. Пришлось разгружать нашу комнату и расселять хористов по разным другим помещениям. Но и тут мы не унимались и бегали партиями друг к другу в гости.
И внутри, в театре, и снаружи, на площадке, спектакль и гулянье прошли с успехом, но пользы нам, артистам, от этого было мало. Напротив, был вред, так как к прежним драматическим штампам я прибавил еще новые, оперные и опереточные.
Тем не менее оперетка, водевиль – хорошая школа для артистов. Старики, наши предшественники, недаром начинали с них свою карьеру, на них учились драматическому искусству, на них вырабатывали артистическую технику. Голос, дикция, жест, движения, легкий ритм, бодрый темп, искреннее веселье – необходимы в легком жанре. Мало того – нужно изящество и шик, которые дают произведению пикантность вроде того газа, без которого шампанское становится кислой водицей. Преимущество этого жанра еще в том, что он, требуя большой внешней техники и тем вырабатывая ее, не перегружает и не насилует души сильными и сложными чувствами, не задает непосильных для молодых актеров внутренних творческих задач. Все эти большие артистические требования оперетки мы понимали тогда и с меньшим мириться не могли, так как уже изощрившийся вкус требовал для искусства именно такой утонченности. Но я, как назло, был высок, неуклюж, неграциозен и косноязычен на многих буквах. Я отличался исключительной неловкостью: когда я входил в маленькую комнату, спешили убирать статуэтки, вазы, которые я задевал и разбивал. Однажды на большом балу я уронил пальму в кадке. Другой раз, ухаживая за барышней и танцуя с ней, я споткнулся, схватился за рояль, у которого была подломана ножка, и вместе с роялем упал на пол.
Все эти комические случаи прославили мою неловкость. Я не смел даже заикаться о том, что хочу быть актером, так как это вызывало только насмешки и остроты товарищей.
Приходилось бороться со своими данными, работать над голосом, дикцией, жестом, приходилось искать и мучиться творческими муками. Работа над собой доходила у меня до мании.
Было жаркое лето, я решился отказаться от деревенского воздуха, от летней природы и удобств семейной жизни. Все эти жертвы приносились ради занятий в опустевшем городском доме. Там, в большой передней, перед огромным зеркалом, было хорошо работать над жестом и пластикой, а мраморные стены и лестница давали хороший резонанс для голоса. В течение всего лета и осени, по окончании конторских занятий, с семи часов вечера и до трех-четырех ночи, я без перерыва работал по составленной для себя программе.
Нельзя перечесть всего, что делалось в это время: что бы ни попалось под руки – плед, кусок материи, часть одежды, мужская или женская шляпа, – применялось для создания внешнего образа, который я сам для себя воображал. Просматривая себя, как собственный зритель, в зеркало, я знакомился с телом, пластикой. Я был тогда неопытен и не подозревал того вреда, который таит в себе работа перед зеркалом. Тем не менее была и доля пользы от такой работы. Я познал свое тело, его недостатки и внешние средства борьбы с ними. И в смысле общетеатральной пластики были сделаны большие успехи, что помогло мне в следующем же году взяться за новый жанр и попробовать французскую комедию с пением, которую в то время ввела в моду замечательная французская артистка Анна Жюдик – кумир Москвы, Петербурга, Парижа и всей Франции. С этого момента я на один шаг приблизился к драме.
Сестры вернулись из Парижа, восхищенные Жюдик. Они видели ее в «Лили» – комедии с пением в четырех действиях. В ней очень немного действующих лиц и много музыкальных и драматических достоинств. Сестры не только рассказали нам сюжет пьесы по порядку, почти дословно, но и пропели нам все музыкальные номера. Только острая молодая память способна запомнить с такой точностью раз или два виденный на сцене спектакль.
Тотчас же приступили к записи текста со слов сестер и составлению самой пьесы. Обыкновенно французский язык при переводе на русский дает очень длинные фразы и сложные периоды. Мы же решили писать текст только короткими фразами, не длиннее французских.
Каждая переводимая фраза проверялась тем исполнителем, который будет ее произносить. Каждая фраза должна была хорошо ложиться на язык, давать возможность актеру интонировать и акцентировать ее на французский лад. К счастью, почти все исполнители пьесы не только хорошо знали французский язык, но даже понимали его аромат и музыку. Недаром в нашей семье текла французская актерская кровь. Некоторые же из исполнителей, особенно старшая сестра З.С. Алексеева (Соколова), достигли в этом смысле совершенства. Невозможно было отличить у нее, на каком языке она говорит – на русском или на французском.
Правда, она, как и мы, пренебрегала смыслом и сутью фразы, а пользовалась ею больше для звука и французской интонации. И потому зритель, смотря русский спектакль, минутами думал, что он исполняется на иностранном языке. И в области движения и действия был найден ритм и темп, типичные для французов. Мы знали и чувствовали приемы говора и манер французов.
Мизансцена, постановка, конечно, была рабски скопирована с Парижа – со слов сестер.
Я очень скоро усвоил приемы речи и движений французской роли, и это сразу дало мне какую-то самостоятельность на сцене. Быть может, я не играл образа, созданного автором, но несомненно, что мне удалось дать образ подлинного француза. И это уже успех, так как если я и копировал, то не готовый мертвый театральный шаблон, а то живое, что сам подметил в жизни. С той минуты как я почувствовал национальную характерность роли, мне было легко оправдывать и темп и ритм моих движений и речи. Это уже не было темпом ради темпа, ритмом ради ритма, это был внутренний ритм, хотя и общего характера, свойственный вообще всем французам, а не одному индивидуальному лицу, которое я изображал.
Спектакль имел шумный успех и был повторен много раз, при переполненном зале, – конечно, бесплатно. Возможность повторять многократно наши спектакли делала нас гордыми. Значит, мы становились популярны. Героиней вечера была сестра З.С. Алексеева (Соколова), а я имел приличный успех.
Но была ли артистическая польза от этого спектакля? Я думаю, что да, и даже двойная. Во-первых, подражание французскому языку облегчило нашу тяжелую речь и придало ей некоторую остроту, смягчив национальную русскую расплывчатость. А во-вторых, благодаря самому содержанию пьесы и характеру ролей, от нас, естественно, потребовался новый подход к роли: от характерности. В самом деле, в первом акте я являлся совсем молодым солдатом – трубачом «piou-piou», во втором акте – ловким офицером лет двадцати пяти, а в последнем акте – древним генералом-подагриком в отставке. Пусть характерность, которую я тогда искал, была внешняя. Но ведь иногда от внешнего можно прийти к внутреннему. Это, конечно, не лучший, но тем не менее иногда возможный ход в творчестве. И он мне помог местами зажить ролью, как это случилось раньше, при постановке пьесы «Практический господин», в роли студента.
На следующий зимний сезон в городском театре-столовой домашний Алексеевский кружок готовил, под режиссерством моего брата, В.С. Алексеева, большую и трудную постановку – японскую оперетку «Микадо» с музыкой английского композитора Сюлливана и с декорациями К.А. Коровина.
На всю эту зиму наш дом превратился в уголок Японии. Целая японская семья акробатов, работавших в местном цирке, дневала и ночевала у нас. Они оказались очень порядочными людьми и, как говорится, пришлись к дому. Японцы научили нас всем их обычаям: манере ходить, держаться, кланяться, танцевать, жестикулировать веером и владеть им. Это хорошее упражнение для тела. По их указаниям были сшиты для всех участвующих и даже неучаствующих японские ситцевые репетиционные костюмы с кушаками, которые мы сами практиковались надевать и завязывать. Женщины ходили по целым дням со связанными в коленях ногами; веер стал необходимым, привычным для рук предметом. У нас уже явилась потребность, согласно японскому обычаю, при разговоре помогать себе объясняться веером.
Возвращаясь домой после дневных занятий, мы облачались в наши японские репетиционные костюмы и ходили в них весь вечер до ночи, а в праздник – и целый день. За семейным обеденным или чайным столом восседали японцы с веерами, которые все время как бы фыркали или трещали при резком открывании или закрывании их.
У нас были японские танцклассы, и женщины изучили все обольстительные приемы гейш. Мы умели в ритм поворачиваться на каблуках, показывая то правый, то левый профиль, падать на пол, складываясь пополам, как гимнасты, бегать в такт мелкой походкой, прыгать, кокетливо семенить ножками. Некоторые дамы, наконец, научились в ритм танца бросать веер вперед так, чтобы он, летя, сделал полукруг и попал в руки других – танцора или певца. Мы научились жонглировать веером, перебрасывать его через плечо, через ногу и, главное, усвоили все без исключения японские позы с веером, из которых была составлена целая скала жестов по номерам и зафиксирована по всей партитуре, точно ноты в музыке. Таким образом, на каждый пассаж, такт, сильную ноту был определен свой жест, движение, действие с веером. В массовых сценах, то есть в хорах, каждому из поющих была дана своя скала жестов и движений с веером на каждую акцентируемую музыкальную ноту, такт, пассаж. Позы с веером намечались в связи с задуманной общей группой или, вернее, целым калейдоскопом непрерывно менявшихся и переливавшихся групп: в то время как одни взметывали веера вверх, другие опускали их, раскрывая их внизу, у самых ног, третьи делали то же вправо, четвертые – влево и т. д.
Когда в больших ансамбльных сценах приводился в движение весь этот калейдоскоп и по воздуху летели по всей сцене огромные, средние и малые красные, зеленые, желтые веера – захватывало дух от этой эффектной театральности. Было нагорожено много всяких площадок, для того чтобы можно было – от первого плана, где актеры с веерами лежали на полу, до последнего, где они стояли на самых высоких местах, – заполнять веерами всю арку невысокой сцены; они застилали ее, точно занавес. Сценические площадки – старый, но удобный для режиссера прием для театральных группировок. Прибавьте к описанию спектакля красочные костюмы, из которых многие были подлинные японские, старинные латы самураев, знамена, подлинную японщину, оригинальную пластику, актерскую ловкость, жонглирование, акробатику, ритм, танцы, хорошенькие молодые лица барышень и юношей, азарт и темперамент – и успех станет понятен.
Один лишь я был пятном в спектакле.
Другие электронные книги автора Константин Сергеевич Станиславский
Другие аудиокниги автора Константин Сергеевич Станиславский
Этика




 0
0