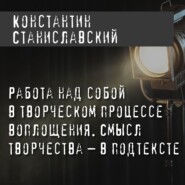По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моя жизнь в искусстве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Якову Ивановичу Гремиславскому[30 - Гремиславский Яков Иванович (1864–1941) – художник-гример. Работал в Алексеевском кружке, в Обществе искусства и литературы, а затем в Московском Художественном театре со дня его основания и до конца жизни. К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко высоко ценили искусство Я. И. Гремиславского, помогавшее актеру в создании образа. В 1933 году Я. И. Гремиславский был удостоен звания Героя труда. В 1937 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.] суждено было сыграть большую роль в театре и поставить свое искусство на ту высоту, которая заставила удивляться его работе Европу и Америку.
К зеркалу Яши по порядку присаживались действующие лица: отец, братья, репетитор и другие исполнители, – и отходили от стола преобразившимися в других людей.
Одни старели, другие молодели и хорошели, третьи лысели, четвертые становились неузнаваемыми.
«Неужели это вы?! Ха-ха-ха… Удивительно! Невозможно узнать. Смотрите, смотрите, какой он стал! Нельзя поверить! Браво!» Восклицания, столь обычные в любительских спектаклях, слышались во всех углах уборной, где толклись люди, ища кто потерянный галстук, кто – запонки от воротника, кто – жилетку. Лишние люди, любопытные, мешали, дымили папиросами, шумели, и не было средств их выгнать из маленькой уборной.
Но вот вдали грянул военный марш. С фонарями уже шли гости по всем дорожкам сада, чтобы торжественно войти в театральный флигель. Звуки музыки слышались все ближе и, наконец, заглушили и наши голоса. Нельзя было говорить. Потом звуки марша стали удаляться, затихать. Их заменил гул толпы, топанье ног и шум стульев. За кулисами актеры стали смирнее; в уборных заговорили тише; на лицах появилась виноватая улыбка, смущение. А у меня внутри все радовалось, кипело. Я не мог ни сидеть, ни стоять на месте. Метался, всем мешал. Сердце билось и минутами подкатывало внутри. Но вот – поднялся занавес, и пошел спектакль.
Наконец и я вышел на сцену, где почувствовал себя превосходно. Что-то внутри толкало, горячило, вдохновляло, и я летел, закусив удила, вперед, – через всю пьесу. Я творил не роль, не пьесу, – стоит ли говорить об этом пустом водевиле, – я творил свое искусство, артистическое действо. Я дарил свой гений смотрящим, я сознавал себя великим артистом, выставленным напоказ для восхищения толпы.
Меня волновало бешенство внутреннего моего темпа и ритма, от которого «в зобу дыхание спиралось». Слова и жесты вылетали с неуловимой быстротой. Я запыхивался, одышка мешала мне говорить, и эта повышенная нервность и несдержанность принимались мной за подлинное вдохновение. Играя, я был уверен, что держу зрителей в своей полной власти.
Пьеса кончилась, и я ждал одобрения, похвал, восторгов. Но все молчали и точно избегали меня. Пришлось подойти к режиссеру и унизиться до напрашивания на комплимент.
«Ничего, все-таки очень мило», – сказал мне режиссер.
Что же значит это «все-таки»?!..
С этого момента я начал познавать, что такое артистические сомнения.
После второй пьесы, «Старый математик», в которой я чувствовал себя не очень хорошо, режиссер сказал мне радостно, с искренним желанием меня ободрить:
«Вот это значительно лучше!» Как? Когда чувствуешь себя на сцене хорошо, – не хвалят, а при плохом самочувствии – одобряют! В чем же дело? Что же это за несоответствие между собственным самочувствием на сцене и впечатлениями смотрящих в зале?!
Я узнал в тот вечер и другое: что не так-то просто понять свои артистические ошибки. Оказывается, что это целая наука, как со сцены понять то, что получается от твоей игры по ту сторону рампы. Сколько надо было расспрашивать, хитрить, подлизываться, чтобы понять, что, во-первых, я просто, несмотря на свое «вдохновение», слишком тихо говорил, так тихо, что всем зрителям хотелось мне крикнуть: «Громче!»; во-вторых, я так скоро болтал слова, что всем хотелось крикнуть: «Медленнее!» Оказывается, что мои руки мелькали в воздухе с такой быстротой, а ноги так бросали меня из одного угла сцены в другой, что никто не понимал того, что происходит за рампой. В этот вечер я узнал еще, что значат актерские уколы мелкого самолюбия, от которых рождаются злоба, сплетни и зависть.
Вместо радости первый мой дебют принес недоумение, которое я всячески старался рассеять. Так, при первом же представившемся случае, – в одном из домашних спектаклей, в котором мне пришлось играть, – я задался целью говорить громко и не махать руками.
И что же? Меня стали упрекать за крики и за гримасничанье вместо мимики, за утрировку и отсутствие чувства меры. По-видимому, нервозность рук перешла на лицо, – отсюда утрированная гримаса. А чувство меры? Конечно, на словах я понимал, что это значит, но на деле…
Спектакли бывали редко, а в промежутках между ними мы томились без артистической работы. С одной стороны, чтобы облегчить актерский голод, а с другой – чтобы дать велю шалости и шутке, которой мы были заражены смолоду, было придумано следующее: однажды в сумерки мы с товарищем оделись и загримировались нищими-пропойцами и пошли на станцию. Там мы пугали чужих и знакомых. Нам подавали копеечку, на нас бросались собаки, а сторожа выгоняли нас с перрона станции. И чем хуже с нами обращались, тем более было удовлетворено актерское чувство. В жизни пришлось играть правдоподобнее, чем на сцене, где всему верят. Иначе можно было нарваться на скандал. Но раз что нас вывели, выгнали, – значит, мы хорошо играли. Вот когда я практически оценил «чувство меры».
Еще больший успех мы имели в ролях цыган. Как раз их табор расположился недалеко от нашего дома, и по всем дачам шныряли гадающие цыганки с маленькими цыганятами.
В этот вечер мы ждали двоюродную сестру, которая должна была приехать с поездом.
Она была влюблена в нашего соседа и потому при каждом удобном случае гадала, чтобы знать свою судьбу. Вот мы и решили сыграть с ней шутку. Я и только что поступившая к сестрам гувернантка, которая умела превосходно гадать, и с нами мальчик, сын горничной, переоделись, загримировались цыганами и пошли, ко времени прихода поезда, по направлению станции. По пути я объяснил моей спутнице все, что ей надо было нагадать моей кузине. Поровнявшись с экипажем, который вез двоюродную сестру, мы побежали за ней, крича что-то на якобы цыганском языке.
Молодая девушка испугалась, велела кучеру ударить по лошадям и лететь во-всю. По уговору с братом, – нам надо было ждать у ворот. Скоро вся домашняя компания с приехавшей девушкой, взволнованной таинственностью, пришла к садовой ограде, и началось гадание. Эффект получился больший, чем мы ожидали. И снова я был горд тем, что чувство меры не было нарушено.
Для иллюстрации той кривой линии, по которой идет работа любителя без руководства специалиста, я опишу несколько спектаклей, наиболее характерных для моей дальнейшей деятельности. При этом я не буду придерживаться хронологического их порядка, так как не это интересует меня. Важны самые этапы и ступени, по которым проходит актер при своем творческом росте, важна «кривая» этого роста, отклонение от кривой и возвращение к ней.
Актерство в жизни
Спектакль не клеился, так как не было возможности составить труппу. Тогда мы, т. е. две сестры, я и товарищ, решили репетировать что-нибудь ради практики, для самих себя. Выбор пал на два французских переводных водевиля: первый – «Слабая струна», второй – «Тайна женщины».[31 - В водевиле «Слабая струна» К. С. Станиславский исполнял роль философа Калифуршона, в «Тайне женщины» – роль парижского студента Мегрио. Сохранилась программа первого представления этих водевилей, написанная рукой К. С. Станиславского и датированная: «Любимовка. 1881, летом».]
Навидавшись всевозможных европейских див, мы обострили свой вкус и стали требовательны в своих художественных стремлениях. Режиссерские и актерские планы были шире наших возможностей и средств. В самом деле, что можно сделать без настоящей артистической техники, без настоящих знаний и даже без материалов для декораций и костюмов? Ведь кроме старых платьев родителей, сестер, знакомых, выпрашиваемых ненужных украшений, лент, пуговиц, бантиков и других побрякушек у нас ничего не было. Волей-неволей приходилось заменять роскошь костюмов и постановки художественной выдумкой, оригинальностью и непривычностью трактовки.
Необходим был и режиссер, но так как его не было, а играть хотелось страшно, приходилось самому стать режиссером. Сама жизнь заставляла нас учиться и устраивала нам практическую школу.
Вот, например, и в данном случае. Как сделать из простых водевилей исключительный пикантный спектакль во французском духе?
Фабула водевиля проста: два студента влюблены в двух гризеток, ищут в их душах слабую струну, чтобы начать играть на ней и завоевать их любовь. Но в чем слабая струна женщины? – Вот канарейка бьет другую, а та, после сильной трепки, целуется. Не это ли слабая струна женщины? Их надо бить! Пробуют, – и оба получают пощечины. А в конце концов гризетки в них влюбляются, и они женятся. Не правда ли, как просто, ясно и наивно!
А вот другой несложный сюжет: художник и студент Мегрио, которого играл я, ухаживают за гризеткой. Художник хочет жениться, а студент ему помогает. Но они узнали страшную тайну: невеста пьянствует, у нее случайно найден ром. Смущение и горе! Но оказывается, что ром нужен гризетке для мытья волос. Ром достается студенту и пьяному привратнику, а гризетка – художнику, ее жениху. Последние в финале целуются, а студент и привратник валяются под столом и поют очень смешной заключительный куплет двух пьяниц.
Художник, гризетка, мансарда, студент, Монмартр, – в этом есть стиль, очарование, грация и даже романтизм.
Дело было летом, мы, актеры, жили все вместе, безвыездно, в Любимовке. Поэтому можно было без конца репетировать, а потом и играть при первом удобном случае; и мы широко пользовались этой возможностью. Встанешь, бывало, утром, выкупаешься и – сыграешь водевиль. Потом позавтракаешь и – сыграешь другой. Погуляешь, опять повторишь первый. А там, смотришь, вечером кто-то приехал в гости, мы к нему:
«А не хотите ли, мы вам сыграем спектакль?» «Хочу», – ответит приезжий.
Зажигаем керосиновые лампы – декорации никогда не снимались, – спускаем занавес, надеваем – кто блузу, кто фартук, чепец, кепи, и спектакль начался для одного зрителя. Для нас это были репетиции, при каждом повторении которых мы ставили себе все новые и новые задания ради самоусовершенствования. Вот тут брошенная мне когда-то фраза о «чувстве меры» изучалась со всех сторон. Наконец я довел всех актеров до такого чувства меры, при котором нельзя было дышать, а зритель засыпал от тоски.
«Хорошо, но… тихо!» – говорил он, конфузясь.
Значит, нужно говорить громче, решали мы. Отсюда – новая задача, новые репетиции. Пришел другой зритель, нашел, что слишком громко. Значит, нет чувства меры, и надо говорить не громко. Вот эта-то на первый взгляд простая задача никак не удавалась нам. Самое трудное на сцене – говорить не тише и не громче того, что нужно, при этом быть простым и естественным.
«Водевиль надо играть в темпе, полным тоном», – сказал нам новый зритель.
«В темпе? Хорошо! Акт идет сорок минут. Когда он пойдет тридцать, это значит, что мы играем его в темпе»… – После долгих репетиций мы достигли тридцати минут.
«Вот когда водевиль пройдет в двадцать минут, – заказывал я, – тогда будет совсем хорошо».
Создался своего рода спорт, игра на скорость, и мы достигли двадцати минут.
Теперь казалось нам, что водевиль идет не громко и не тихо, в быстром темпе и в, полном тоне, с чувством правды. Но когда приехал наш критик, он сказал:
«Я ровно ничего понять не могу из того, что вы болтаете, и из того, что вы делаете. Вижу только, что все мечутся, как угорелые».
Но мы не унывали:
«Вы говорите: мечутся. Значит, делать то же самое, но так, чтобы все было понятно и в дикции, и в движениях», – решили мы.
Если б нам удалось выполнить это труднейшее задание до конца, мы, быть может, стали бы великими артистами, но нам это не удалось. Тем не менее, кое-чего мы достигли, и эта работа нам принесла, бесспорно, некоторую пользу, чисто внешнего характера. Мы стали говорить отчетливее и действовать определеннее. Это уже – нечто. Но пока отчетливость была ради отчетливости, а определенность ради определенности. А при таких условиях не могло быть чувства правды.
И в результате – новое недоумение, тем более что мы не сознавали даже той небольшой внешней пользы, которая получилась от произведенного опыта.
В другой раз, желая также составить спектакль только из исполнителей, живущих летом вместе, мы, после тщетных поисков подходящей пьесы, решили сами для себя писать текст и музыку оперетки. В основу новой работы мы поставили такой принцип: каждый из исполнителей придумывает себе роль по своему вкусу и объясняет, кого бы ему хотелось играть. Собрав эти заказы, мы соображаем, какую фабулу можно составить из заданных ролей, и пишем текст. Музыку взялся написать один из товарищей.[32 - Автором музыки к оперетте «Всяк сверчок знай свой шесток» был Федор Алексеевич Кашкадамов, друг юности К. С. Станиславского. Спектакль состоялся 24 августа 1883 года в Любимовке. Роль почтаря Лоренцо играл К. С. Станиславский.] В этот раз мы, – новоиспеченные писатели и композитор, – познали собственным опытом все муки творчества. Мы поняли, чего стоит создать музыкально-драматическое произведение для сцены и в чем трудность этой творческой работы. Несомненно, что отдельные места нам удались. Они были сценичны, веселы, давали хороший материал режиссеру и актеру. Но когда мы попробовали соединить разрозненные части воедино и нанизать их на одну основную нить пьесы, то оказалось, что нить не продевается через все порознь созданные части. Не было общей, основной, всеобъединяющей мысли, которая руководила бы автором и направляла его к определенной цели.
Напротив, было много самых разнообразных целей, по несколько для каждого заказчика, которые тянули пьесу в разные концы. В отдельности – все хорошо, а вместе – не соединяется. Тогда мы не поняли причины нашей литературной неудачи, но уже одно то, что нам пришлось поработать в литературно-музыкальной области, было хорошо и полезно.
Я тоже придумал себе роль. «Кого бы я хотел играть?» – соображал я. Конечно, прежде всего, красивого, чтобы петь нежные любовные арии, иметь успех у дам и быть похожим на одного из моих любимых певцов, которого я мог бы копировать голосом и манерой держаться на сцене.[33 - К. С. Станиславский имеет в виду знаменитого опереточного актера А. Д. Давыдова (см. кн. К. С. Станиславский. Художественные записи, «Искусство», М.-Л., 1939, стр. 18).] Своего собственного амплуа я не хотел знать в описываемую пору. Все, конечно, знают наше актерское свойство: некрасивый хочет быть на сцене красавцем, низкий – высоким, неуклюжий – ловким.
Тот, кто лишен трагических или лирических данных, мечтает о Гамлете или о ролях любовника; простак хочет быть Дон Жуаном, а комик – королем Лиром. Спросите любителя, какую роль он хотел бы всего более играть. Вы удивитесь его выбору.
Люди всегда стремятся к тому, что им не дано, и актеры ищут на сцене того, чего они лишены в жизни. Но это опасный путь и заблуждение. Непонимание своего настоящего амплуа и призвания является самым сильным тормозом для дальнейшего развития актера. Это тот тупик, куда он заходит на десятки лет и из которого нет выхода, пока он не сознает своего заблуждения. Кстати, описываемый спектакль случайно принес одну существенную пользу нашему делу.
К зеркалу Яши по порядку присаживались действующие лица: отец, братья, репетитор и другие исполнители, – и отходили от стола преобразившимися в других людей.
Одни старели, другие молодели и хорошели, третьи лысели, четвертые становились неузнаваемыми.
«Неужели это вы?! Ха-ха-ха… Удивительно! Невозможно узнать. Смотрите, смотрите, какой он стал! Нельзя поверить! Браво!» Восклицания, столь обычные в любительских спектаклях, слышались во всех углах уборной, где толклись люди, ища кто потерянный галстук, кто – запонки от воротника, кто – жилетку. Лишние люди, любопытные, мешали, дымили папиросами, шумели, и не было средств их выгнать из маленькой уборной.
Но вот вдали грянул военный марш. С фонарями уже шли гости по всем дорожкам сада, чтобы торжественно войти в театральный флигель. Звуки музыки слышались все ближе и, наконец, заглушили и наши голоса. Нельзя было говорить. Потом звуки марша стали удаляться, затихать. Их заменил гул толпы, топанье ног и шум стульев. За кулисами актеры стали смирнее; в уборных заговорили тише; на лицах появилась виноватая улыбка, смущение. А у меня внутри все радовалось, кипело. Я не мог ни сидеть, ни стоять на месте. Метался, всем мешал. Сердце билось и минутами подкатывало внутри. Но вот – поднялся занавес, и пошел спектакль.
Наконец и я вышел на сцену, где почувствовал себя превосходно. Что-то внутри толкало, горячило, вдохновляло, и я летел, закусив удила, вперед, – через всю пьесу. Я творил не роль, не пьесу, – стоит ли говорить об этом пустом водевиле, – я творил свое искусство, артистическое действо. Я дарил свой гений смотрящим, я сознавал себя великим артистом, выставленным напоказ для восхищения толпы.
Меня волновало бешенство внутреннего моего темпа и ритма, от которого «в зобу дыхание спиралось». Слова и жесты вылетали с неуловимой быстротой. Я запыхивался, одышка мешала мне говорить, и эта повышенная нервность и несдержанность принимались мной за подлинное вдохновение. Играя, я был уверен, что держу зрителей в своей полной власти.
Пьеса кончилась, и я ждал одобрения, похвал, восторгов. Но все молчали и точно избегали меня. Пришлось подойти к режиссеру и унизиться до напрашивания на комплимент.
«Ничего, все-таки очень мило», – сказал мне режиссер.
Что же значит это «все-таки»?!..
С этого момента я начал познавать, что такое артистические сомнения.
После второй пьесы, «Старый математик», в которой я чувствовал себя не очень хорошо, режиссер сказал мне радостно, с искренним желанием меня ободрить:
«Вот это значительно лучше!» Как? Когда чувствуешь себя на сцене хорошо, – не хвалят, а при плохом самочувствии – одобряют! В чем же дело? Что же это за несоответствие между собственным самочувствием на сцене и впечатлениями смотрящих в зале?!
Я узнал в тот вечер и другое: что не так-то просто понять свои артистические ошибки. Оказывается, что это целая наука, как со сцены понять то, что получается от твоей игры по ту сторону рампы. Сколько надо было расспрашивать, хитрить, подлизываться, чтобы понять, что, во-первых, я просто, несмотря на свое «вдохновение», слишком тихо говорил, так тихо, что всем зрителям хотелось мне крикнуть: «Громче!»; во-вторых, я так скоро болтал слова, что всем хотелось крикнуть: «Медленнее!» Оказывается, что мои руки мелькали в воздухе с такой быстротой, а ноги так бросали меня из одного угла сцены в другой, что никто не понимал того, что происходит за рампой. В этот вечер я узнал еще, что значат актерские уколы мелкого самолюбия, от которых рождаются злоба, сплетни и зависть.
Вместо радости первый мой дебют принес недоумение, которое я всячески старался рассеять. Так, при первом же представившемся случае, – в одном из домашних спектаклей, в котором мне пришлось играть, – я задался целью говорить громко и не махать руками.
И что же? Меня стали упрекать за крики и за гримасничанье вместо мимики, за утрировку и отсутствие чувства меры. По-видимому, нервозность рук перешла на лицо, – отсюда утрированная гримаса. А чувство меры? Конечно, на словах я понимал, что это значит, но на деле…
Спектакли бывали редко, а в промежутках между ними мы томились без артистической работы. С одной стороны, чтобы облегчить актерский голод, а с другой – чтобы дать велю шалости и шутке, которой мы были заражены смолоду, было придумано следующее: однажды в сумерки мы с товарищем оделись и загримировались нищими-пропойцами и пошли на станцию. Там мы пугали чужих и знакомых. Нам подавали копеечку, на нас бросались собаки, а сторожа выгоняли нас с перрона станции. И чем хуже с нами обращались, тем более было удовлетворено актерское чувство. В жизни пришлось играть правдоподобнее, чем на сцене, где всему верят. Иначе можно было нарваться на скандал. Но раз что нас вывели, выгнали, – значит, мы хорошо играли. Вот когда я практически оценил «чувство меры».
Еще больший успех мы имели в ролях цыган. Как раз их табор расположился недалеко от нашего дома, и по всем дачам шныряли гадающие цыганки с маленькими цыганятами.
В этот вечер мы ждали двоюродную сестру, которая должна была приехать с поездом.
Она была влюблена в нашего соседа и потому при каждом удобном случае гадала, чтобы знать свою судьбу. Вот мы и решили сыграть с ней шутку. Я и только что поступившая к сестрам гувернантка, которая умела превосходно гадать, и с нами мальчик, сын горничной, переоделись, загримировались цыганами и пошли, ко времени прихода поезда, по направлению станции. По пути я объяснил моей спутнице все, что ей надо было нагадать моей кузине. Поровнявшись с экипажем, который вез двоюродную сестру, мы побежали за ней, крича что-то на якобы цыганском языке.
Молодая девушка испугалась, велела кучеру ударить по лошадям и лететь во-всю. По уговору с братом, – нам надо было ждать у ворот. Скоро вся домашняя компания с приехавшей девушкой, взволнованной таинственностью, пришла к садовой ограде, и началось гадание. Эффект получился больший, чем мы ожидали. И снова я был горд тем, что чувство меры не было нарушено.
Для иллюстрации той кривой линии, по которой идет работа любителя без руководства специалиста, я опишу несколько спектаклей, наиболее характерных для моей дальнейшей деятельности. При этом я не буду придерживаться хронологического их порядка, так как не это интересует меня. Важны самые этапы и ступени, по которым проходит актер при своем творческом росте, важна «кривая» этого роста, отклонение от кривой и возвращение к ней.
Актерство в жизни
Спектакль не клеился, так как не было возможности составить труппу. Тогда мы, т. е. две сестры, я и товарищ, решили репетировать что-нибудь ради практики, для самих себя. Выбор пал на два французских переводных водевиля: первый – «Слабая струна», второй – «Тайна женщины».[31 - В водевиле «Слабая струна» К. С. Станиславский исполнял роль философа Калифуршона, в «Тайне женщины» – роль парижского студента Мегрио. Сохранилась программа первого представления этих водевилей, написанная рукой К. С. Станиславского и датированная: «Любимовка. 1881, летом».]
Навидавшись всевозможных европейских див, мы обострили свой вкус и стали требовательны в своих художественных стремлениях. Режиссерские и актерские планы были шире наших возможностей и средств. В самом деле, что можно сделать без настоящей артистической техники, без настоящих знаний и даже без материалов для декораций и костюмов? Ведь кроме старых платьев родителей, сестер, знакомых, выпрашиваемых ненужных украшений, лент, пуговиц, бантиков и других побрякушек у нас ничего не было. Волей-неволей приходилось заменять роскошь костюмов и постановки художественной выдумкой, оригинальностью и непривычностью трактовки.
Необходим был и режиссер, но так как его не было, а играть хотелось страшно, приходилось самому стать режиссером. Сама жизнь заставляла нас учиться и устраивала нам практическую школу.
Вот, например, и в данном случае. Как сделать из простых водевилей исключительный пикантный спектакль во французском духе?
Фабула водевиля проста: два студента влюблены в двух гризеток, ищут в их душах слабую струну, чтобы начать играть на ней и завоевать их любовь. Но в чем слабая струна женщины? – Вот канарейка бьет другую, а та, после сильной трепки, целуется. Не это ли слабая струна женщины? Их надо бить! Пробуют, – и оба получают пощечины. А в конце концов гризетки в них влюбляются, и они женятся. Не правда ли, как просто, ясно и наивно!
А вот другой несложный сюжет: художник и студент Мегрио, которого играл я, ухаживают за гризеткой. Художник хочет жениться, а студент ему помогает. Но они узнали страшную тайну: невеста пьянствует, у нее случайно найден ром. Смущение и горе! Но оказывается, что ром нужен гризетке для мытья волос. Ром достается студенту и пьяному привратнику, а гризетка – художнику, ее жениху. Последние в финале целуются, а студент и привратник валяются под столом и поют очень смешной заключительный куплет двух пьяниц.
Художник, гризетка, мансарда, студент, Монмартр, – в этом есть стиль, очарование, грация и даже романтизм.
Дело было летом, мы, актеры, жили все вместе, безвыездно, в Любимовке. Поэтому можно было без конца репетировать, а потом и играть при первом удобном случае; и мы широко пользовались этой возможностью. Встанешь, бывало, утром, выкупаешься и – сыграешь водевиль. Потом позавтракаешь и – сыграешь другой. Погуляешь, опять повторишь первый. А там, смотришь, вечером кто-то приехал в гости, мы к нему:
«А не хотите ли, мы вам сыграем спектакль?» «Хочу», – ответит приезжий.
Зажигаем керосиновые лампы – декорации никогда не снимались, – спускаем занавес, надеваем – кто блузу, кто фартук, чепец, кепи, и спектакль начался для одного зрителя. Для нас это были репетиции, при каждом повторении которых мы ставили себе все новые и новые задания ради самоусовершенствования. Вот тут брошенная мне когда-то фраза о «чувстве меры» изучалась со всех сторон. Наконец я довел всех актеров до такого чувства меры, при котором нельзя было дышать, а зритель засыпал от тоски.
«Хорошо, но… тихо!» – говорил он, конфузясь.
Значит, нужно говорить громче, решали мы. Отсюда – новая задача, новые репетиции. Пришел другой зритель, нашел, что слишком громко. Значит, нет чувства меры, и надо говорить не громко. Вот эта-то на первый взгляд простая задача никак не удавалась нам. Самое трудное на сцене – говорить не тише и не громче того, что нужно, при этом быть простым и естественным.
«Водевиль надо играть в темпе, полным тоном», – сказал нам новый зритель.
«В темпе? Хорошо! Акт идет сорок минут. Когда он пойдет тридцать, это значит, что мы играем его в темпе»… – После долгих репетиций мы достигли тридцати минут.
«Вот когда водевиль пройдет в двадцать минут, – заказывал я, – тогда будет совсем хорошо».
Создался своего рода спорт, игра на скорость, и мы достигли двадцати минут.
Теперь казалось нам, что водевиль идет не громко и не тихо, в быстром темпе и в, полном тоне, с чувством правды. Но когда приехал наш критик, он сказал:
«Я ровно ничего понять не могу из того, что вы болтаете, и из того, что вы делаете. Вижу только, что все мечутся, как угорелые».
Но мы не унывали:
«Вы говорите: мечутся. Значит, делать то же самое, но так, чтобы все было понятно и в дикции, и в движениях», – решили мы.
Если б нам удалось выполнить это труднейшее задание до конца, мы, быть может, стали бы великими артистами, но нам это не удалось. Тем не менее, кое-чего мы достигли, и эта работа нам принесла, бесспорно, некоторую пользу, чисто внешнего характера. Мы стали говорить отчетливее и действовать определеннее. Это уже – нечто. Но пока отчетливость была ради отчетливости, а определенность ради определенности. А при таких условиях не могло быть чувства правды.
И в результате – новое недоумение, тем более что мы не сознавали даже той небольшой внешней пользы, которая получилась от произведенного опыта.
В другой раз, желая также составить спектакль только из исполнителей, живущих летом вместе, мы, после тщетных поисков подходящей пьесы, решили сами для себя писать текст и музыку оперетки. В основу новой работы мы поставили такой принцип: каждый из исполнителей придумывает себе роль по своему вкусу и объясняет, кого бы ему хотелось играть. Собрав эти заказы, мы соображаем, какую фабулу можно составить из заданных ролей, и пишем текст. Музыку взялся написать один из товарищей.[32 - Автором музыки к оперетте «Всяк сверчок знай свой шесток» был Федор Алексеевич Кашкадамов, друг юности К. С. Станиславского. Спектакль состоялся 24 августа 1883 года в Любимовке. Роль почтаря Лоренцо играл К. С. Станиславский.] В этот раз мы, – новоиспеченные писатели и композитор, – познали собственным опытом все муки творчества. Мы поняли, чего стоит создать музыкально-драматическое произведение для сцены и в чем трудность этой творческой работы. Несомненно, что отдельные места нам удались. Они были сценичны, веселы, давали хороший материал режиссеру и актеру. Но когда мы попробовали соединить разрозненные части воедино и нанизать их на одну основную нить пьесы, то оказалось, что нить не продевается через все порознь созданные части. Не было общей, основной, всеобъединяющей мысли, которая руководила бы автором и направляла его к определенной цели.
Напротив, было много самых разнообразных целей, по несколько для каждого заказчика, которые тянули пьесу в разные концы. В отдельности – все хорошо, а вместе – не соединяется. Тогда мы не поняли причины нашей литературной неудачи, но уже одно то, что нам пришлось поработать в литературно-музыкальной области, было хорошо и полезно.
Я тоже придумал себе роль. «Кого бы я хотел играть?» – соображал я. Конечно, прежде всего, красивого, чтобы петь нежные любовные арии, иметь успех у дам и быть похожим на одного из моих любимых певцов, которого я мог бы копировать голосом и манерой держаться на сцене.[33 - К. С. Станиславский имеет в виду знаменитого опереточного актера А. Д. Давыдова (см. кн. К. С. Станиславский. Художественные записи, «Искусство», М.-Л., 1939, стр. 18).] Своего собственного амплуа я не хотел знать в описываемую пору. Все, конечно, знают наше актерское свойство: некрасивый хочет быть на сцене красавцем, низкий – высоким, неуклюжий – ловким.
Тот, кто лишен трагических или лирических данных, мечтает о Гамлете или о ролях любовника; простак хочет быть Дон Жуаном, а комик – королем Лиром. Спросите любителя, какую роль он хотел бы всего более играть. Вы удивитесь его выбору.
Люди всегда стремятся к тому, что им не дано, и актеры ищут на сцене того, чего они лишены в жизни. Но это опасный путь и заблуждение. Непонимание своего настоящего амплуа и призвания является самым сильным тормозом для дальнейшего развития актера. Это тот тупик, куда он заходит на десятки лет и из которого нет выхода, пока он не сознает своего заблуждения. Кстати, описываемый спектакль случайно принес одну существенную пользу нашему делу.
Другие электронные книги автора Константин Сергеевич Станиславский
Другие аудиокниги автора Константин Сергеевич Станиславский
Этика




 0
0