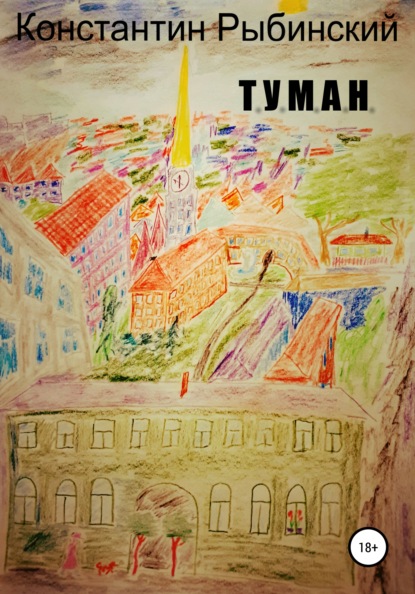По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Т.У.М.А.Н.
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Т.У.М.А.Н.
Константин Викторович Рыбинский
Эта книга о поиске пути. Лучше всего об этом говорит её герой: "Невозможно вечно оправдывать бездействие, – думал Чёрный, карабкаясь на очередной скользкий уступ. – Всё, что нужно – сделать один-единственный решительный шаг и перестать врать себе. Стряхнуть тягучую болотную дрёму, слезть с печи и выйти вон, за дверь, на свежий воздух. Один шаг – и свобода. Пусть неизвестность, пусть там будет труднее, чем здесь, и вполне возможно поражение. Но свобода уже никуда не денется, даже если там – тюрьма. Такую свободу отнять нельзя. От неё можно только отказаться".
Посвящается Илье Соснину.
Город
На холсте появился Город: белый, в окружении высоких гор цвета синего пепла, чуть подёрнутых голубиной дымкой. Солнце слепило бликами с почти неразличимых сусальных шпилей, отражаясь в оконном стекле домов, пронизывая воздух и там, и здесь. Тесные, на два ходока, извилистые улочки, мощенные лиловым камнем, резали полотно на прихотливые куски. Нежданные проулки вели в затопленные светом колодцы дворов, заросших цепким, блестящим после ночного дождя плющом и розовыми кустами, что заполняли своим ароматом Город по крохотные резные балкончики верхних этажей, по остроконечные черепичные крыши. Готический шатёр Ратуши, сплошь покрытый мраморными барельефами, что пытались напомнить беспечным горожанам о бесчисленных славных победах далёкого прошлого, стягивал композицию к центру.
Часы на башне с недоверчивыми горгульями гулко пробили десять. Он тяжко вздохнул, мазнул в правом нижнем углу холста дату и подпись. Отвернулся к окну, чиркнул спичкой, закутался в ароматный вишнёвый дым, как в мантию. За мутным стеклом густыми хлопьями валил сквозь вечный Туман снег, оглушая свет фонарей, а перед глазами всё стояли совсем другие улицы.
Туман появился в Городе незаметно. Словно невидимый, жестокий и осторожный паук, он опутывал дома, оплетал деревья, пеленал людей и забирался к ним в души, впрыскивая свой едкий яд, отчего глаза делались бесцветными и пустыми. Никто уже не помнил, когда и откуда он пришёл. Сказать по совести, теперь очень немногие горожане мучили себя этим вопросом. День ото дня, Туман становился осязаемей, гуще, и Город постепенно погрузился в сырые сумерки. Солнечный свет остался в легендах, на выцветших фотографиях счастливых людей. Нынче Солнце едва угадывается в сером небе белёсым размытым пятном, а ночь без луны и звёзд опускается на Город непроглядной тьмой, то тут, то там разгоняемой редкими жёлтыми фонарями.
Сегодня только-только наступил декабрь, заявив о себе восхитительным снегопадом. Огромные только сотворённые лохматые снежинки, словно по волшебству появлялись в тёплом электрическом свете, выстилали улицы белым, уже не таяли, обосновываясь надолго. Сквозь снег шёл человек. Ноги тонули в холодных облаках, взбивали невесомые хлопья прихотливо замёрзшей воды, но ничто не нарушало ватной тишины снегопада.
Дома закончилась последняя бутылка мягкого армянского бренди, сунутая в угол необъятного дедовского платяного шкафа на «чёрный день». Пошарив рукой в пыльной темноте, пахнущей дорогой кожей, он непечатно выругался: магазины уже закрыты, придётся тащиться в бистро, не дай Бог, встретишь там кого. В пути с ним случилось что-то вроде раздвоения личности: лучшая его часть укоряла, что нажираться, как сельский староста после аванса – моветон и совсем не комильфо, другая слала первую нахер, затем соглашалась, но добавляла на выдохе: «недостаточно», съедая последние гласные. Видимо, привычка пить в одиночестве приносила грустные плоды. Но чем ещё, чёрт возьми, разгонять эту оскаленную хищную пустоту вокруг?
Проходя мимо чёрной подворотни с подмёрзшим запахом, он получил звенящую строчку. Так случалось, слова просто появлялись в сознании, нужно было только запомнить, записать, зафиксировать. «В начале было Слово, и Слово было Одиночество». Он удивился, покрутил фразу на распухшем языке и так, и этак. Она ощущалась как гладкий камешек точёный морем, не царапала нёбо, не шершавила, звонко отстукивала по зубам. Запомнилась, потянула за собой другие: «И Одиночество было у Бога, и Одиночество было Бог. И всё стало через Него, и ничего, что есть не стало без Него». Он повторил пришедшее несколько раз, убедился, что запомнил, но всё равно бормотал до самого «Домино».
– Салам! – вяло махнул рукой основательной барменше неопределённого возраста, войдя и отряхиваясь. В нос шибало разогретой копчёной курицей, пересоленной и жирной.
– И тебе салам, Чёрный. Не спится?
– Ну, как с тобой не спиться? Налей сто «Сланчева».
– Сказочник, – улыбнулась тётка, налила в белый пластиковый стакан из пузатой бутылки с романтической голубой этикеткой в якорях.
Он брезгливо потянул носом ацетоновый букет, расплатился, сел за круглый столик у окна. Нацарапал на бежевой салфетке полученный абзац.
– Что, стихи прут? – спросила барменша.
– Откровение, – отмахнулся он.
– Ооооо! – протянула, выпучив сильно подведённые глаза. – Нормально, чо уж, – она не спеша принялась надраивать сияющую стойку, изредка качая головой. К ней всякие хаживали: и старики и бандиты, но вот таких она жалела, как убогих. Мечутся, терзаются, в глазах – лучше не заглядывать, а потом пропадают невесть куда. И всё.
Сегодня он так и остался единственным посетителем. Строчки больше не шли. Допив, взял ещё. И ещё. И ещё. Стены перестали давить, мир втянул шипы и колючки, даже Туман, казалось, чуть разошёлся. Но то, зачем он вышел из дома, не случилось.
Он ждал, чувствовал, что вот-вот совершится нечто такое, что коренным образом переменит всю его жизнь. Но день за днём не происходило ничего.
Бурлящие малахитовые волны появляются одна за другой, пока не заполняют весь океан, мчащийся под ним. Холодный хлёсткий ветер срывает грязную крупную пену с лошадиных гребней совсем рядом, бросает в горящее обветренное лицо солёные брызги. Всё нарастающая скорость ломает предел, и тогда нефритовый океан уходит вниз, под окоченевшие до белизны алебастра босые ноги, отдаляется, а айвазовские валы становятся, как рябь на весенних лужах, вокруг струится и тонко поёт воздух. Иссиня-фиолетовое небо до самого горизонта затянуто рваными багровыми облаками, а африканское солнце поджигает край океана. Мир начинает вращаться, сначала медленно, затем всё ускоряясь, пока центробежная сила не вышвыривает вон, за его границу, расплющивая о древнюю кладку выщербленной кирпичной стены, хрустнувшей терракотой о сломанный клык, продавливает сквозь неё туда, где себя уже не найти. Спустя мгновение, вокруг уже белые сыпучие пески и жара. Раскалённое обезумевшим Гефестом Небо плавит бесплодную Землю, не даёт вдохнуть. Прочь, в сырой песок, в прохладную тьму, где пахнет плесенью, морёным дубом и старым портвейном из Вила-Нова-де-Гайи. Бочком, сквозь замшелые стены – на простор, в дождь. Здесь грохочет шторм, разбивая тонны зашедшейся в ярости воды об острые бивни прибрежных скал. Колючий ветер налетает со всех сторон, свистит и завывает, глушит вопли мечущихся в вышине чаек. Маяк режет тьму кровавым лучом.
И звон.
Чёрный открыл глаза, но звон не исчез, напротив, он стал громче и отвратительнее. Кто-то настойчиво жал на кнопку звонка, прихотливо варьируя ритм и скорость.
– Чёрт бы вас побрал, – он с трудом поднялся, держась за ненадёжные стены, прошаркал в переднюю, отпер дверь. Прямо перед глазами оказались крупные и мелкие капли конденсата на запотевшей изумрудной бутылке, которую держал на вытянутой руке Железный, как держат дуэльный пистолет. Чёрный сглотнул.
– Ты что, спишь? Я уже собирался уходить.
– Уже не сплю, – просипел Чёрный, взял бутылку, посторонился. Железный вошёл, поставил потрёпанную красную спортивную сумку на пол. В сумке увесисто и совершенно не спортивно звякнуло. Гость движением земского доктора скинул отсыревший дымчатый пуховик, подобрал сумку, прошёл на кухню, как к себе домой. Хозяин поплёлся следом. Его подташнивало, в голове шумел только что оставленный океан.
Железный ударил стаканами по столешнице, с шипящим присвистом открыл бутылку, разлил вспенившееся пиво. Сквозь зрелый янтарь протянулись пульсирующие нити мелких пузырьков. Чёрный сжал запотевший бокал, судорожными глотками опустошил его, впитывая колючую влагу обожжённым нутром. Железный налил снова, Чёрный выпил и это, подождал, пока стакан наполнится в третий раз, взял его, откинулся на спинку сыто скрипнувшего дивана.
– Доброе утро, доктор! – сказал он, повеселев.
– День, – ответил гость с улыбкой. – Уже день. Славная вчера была охота?
– Одинокая. Я дописал Город. Был абсолютно счастлив три минуты, пока не выглянул на улицу.
Железный покосился в трёхстворчатое окно с наплывами краски на рамах, за которым клубилась серая муть.
– Да, уж – он поспешно отвернулся, сделал большой глоток. – Полностью понимаю твоё сегодняшнее состояние. Окружающая реальность неминуемо сделает нас алкоголиками.
– Если мы сами не превратимся в окружающую реальность.
– Глубоко. Даже очень, – передразнил Железный. – Давай, соберём народ, устроим показ твоего нового шедевра. Позовём Колдуна, он рассказы почитает, Крот песни споёт…. Поразгоним эту смурь!
Чёрный большим глотком допил пиво.
– Действуй.
– Сегодня вечером в Мансарде?
– А давай. Я хоть сейчас.
– Ячменная вода творит чудеса. Только не увлекайся, не сорви мне мероприятие. Я сумку тебе оставлю – подлечивайся потихоньку, – Железный выделил последнее слово.
– На улицу – ни ногой. Не совершай ошибку.
– К чёрту Иосифа.
– Я за тобой зайду.
– Зайди.
– Ну, всё, пошёл организовывать. Отдыхай.
Чёрный закрыл за другом дверь.
Шум океана возвращался. Он прошёл на кухню, запил анальгин глотком водки, рухнул на диван. Солёный воздух принял его в свои объятия, а маяк излучал теперь только мягкий пульсирующий свет.
Железный вышел из тёмной пещеры подъезда, вдохнул полной грудью морозный воздух, что после кислой вони в берлоге Чёрного был вкусен вдвойне. Сквозь фрактальную пелену Тумана чуть пробивалось солнце. Небольшое усилие – и легко представить вокруг ясный декабрьский денёк с синим небом в рамке крыш, с впечатанными в него изломанными чёрными ветвями огромных тополей.
– Прекрасно! – вздохнул Железный.
– Что? – переспросила вынырнувшая из Тумана женщина, замотанная в ярко-красный шарф.
– Невероятно прекрасно, мадам! – повторил Железный, и свернул за угол.
Константин Викторович Рыбинский
Эта книга о поиске пути. Лучше всего об этом говорит её герой: "Невозможно вечно оправдывать бездействие, – думал Чёрный, карабкаясь на очередной скользкий уступ. – Всё, что нужно – сделать один-единственный решительный шаг и перестать врать себе. Стряхнуть тягучую болотную дрёму, слезть с печи и выйти вон, за дверь, на свежий воздух. Один шаг – и свобода. Пусть неизвестность, пусть там будет труднее, чем здесь, и вполне возможно поражение. Но свобода уже никуда не денется, даже если там – тюрьма. Такую свободу отнять нельзя. От неё можно только отказаться".
Посвящается Илье Соснину.
Город
На холсте появился Город: белый, в окружении высоких гор цвета синего пепла, чуть подёрнутых голубиной дымкой. Солнце слепило бликами с почти неразличимых сусальных шпилей, отражаясь в оконном стекле домов, пронизывая воздух и там, и здесь. Тесные, на два ходока, извилистые улочки, мощенные лиловым камнем, резали полотно на прихотливые куски. Нежданные проулки вели в затопленные светом колодцы дворов, заросших цепким, блестящим после ночного дождя плющом и розовыми кустами, что заполняли своим ароматом Город по крохотные резные балкончики верхних этажей, по остроконечные черепичные крыши. Готический шатёр Ратуши, сплошь покрытый мраморными барельефами, что пытались напомнить беспечным горожанам о бесчисленных славных победах далёкого прошлого, стягивал композицию к центру.
Часы на башне с недоверчивыми горгульями гулко пробили десять. Он тяжко вздохнул, мазнул в правом нижнем углу холста дату и подпись. Отвернулся к окну, чиркнул спичкой, закутался в ароматный вишнёвый дым, как в мантию. За мутным стеклом густыми хлопьями валил сквозь вечный Туман снег, оглушая свет фонарей, а перед глазами всё стояли совсем другие улицы.
Туман появился в Городе незаметно. Словно невидимый, жестокий и осторожный паук, он опутывал дома, оплетал деревья, пеленал людей и забирался к ним в души, впрыскивая свой едкий яд, отчего глаза делались бесцветными и пустыми. Никто уже не помнил, когда и откуда он пришёл. Сказать по совести, теперь очень немногие горожане мучили себя этим вопросом. День ото дня, Туман становился осязаемей, гуще, и Город постепенно погрузился в сырые сумерки. Солнечный свет остался в легендах, на выцветших фотографиях счастливых людей. Нынче Солнце едва угадывается в сером небе белёсым размытым пятном, а ночь без луны и звёзд опускается на Город непроглядной тьмой, то тут, то там разгоняемой редкими жёлтыми фонарями.
Сегодня только-только наступил декабрь, заявив о себе восхитительным снегопадом. Огромные только сотворённые лохматые снежинки, словно по волшебству появлялись в тёплом электрическом свете, выстилали улицы белым, уже не таяли, обосновываясь надолго. Сквозь снег шёл человек. Ноги тонули в холодных облаках, взбивали невесомые хлопья прихотливо замёрзшей воды, но ничто не нарушало ватной тишины снегопада.
Дома закончилась последняя бутылка мягкого армянского бренди, сунутая в угол необъятного дедовского платяного шкафа на «чёрный день». Пошарив рукой в пыльной темноте, пахнущей дорогой кожей, он непечатно выругался: магазины уже закрыты, придётся тащиться в бистро, не дай Бог, встретишь там кого. В пути с ним случилось что-то вроде раздвоения личности: лучшая его часть укоряла, что нажираться, как сельский староста после аванса – моветон и совсем не комильфо, другая слала первую нахер, затем соглашалась, но добавляла на выдохе: «недостаточно», съедая последние гласные. Видимо, привычка пить в одиночестве приносила грустные плоды. Но чем ещё, чёрт возьми, разгонять эту оскаленную хищную пустоту вокруг?
Проходя мимо чёрной подворотни с подмёрзшим запахом, он получил звенящую строчку. Так случалось, слова просто появлялись в сознании, нужно было только запомнить, записать, зафиксировать. «В начале было Слово, и Слово было Одиночество». Он удивился, покрутил фразу на распухшем языке и так, и этак. Она ощущалась как гладкий камешек точёный морем, не царапала нёбо, не шершавила, звонко отстукивала по зубам. Запомнилась, потянула за собой другие: «И Одиночество было у Бога, и Одиночество было Бог. И всё стало через Него, и ничего, что есть не стало без Него». Он повторил пришедшее несколько раз, убедился, что запомнил, но всё равно бормотал до самого «Домино».
– Салам! – вяло махнул рукой основательной барменше неопределённого возраста, войдя и отряхиваясь. В нос шибало разогретой копчёной курицей, пересоленной и жирной.
– И тебе салам, Чёрный. Не спится?
– Ну, как с тобой не спиться? Налей сто «Сланчева».
– Сказочник, – улыбнулась тётка, налила в белый пластиковый стакан из пузатой бутылки с романтической голубой этикеткой в якорях.
Он брезгливо потянул носом ацетоновый букет, расплатился, сел за круглый столик у окна. Нацарапал на бежевой салфетке полученный абзац.
– Что, стихи прут? – спросила барменша.
– Откровение, – отмахнулся он.
– Ооооо! – протянула, выпучив сильно подведённые глаза. – Нормально, чо уж, – она не спеша принялась надраивать сияющую стойку, изредка качая головой. К ней всякие хаживали: и старики и бандиты, но вот таких она жалела, как убогих. Мечутся, терзаются, в глазах – лучше не заглядывать, а потом пропадают невесть куда. И всё.
Сегодня он так и остался единственным посетителем. Строчки больше не шли. Допив, взял ещё. И ещё. И ещё. Стены перестали давить, мир втянул шипы и колючки, даже Туман, казалось, чуть разошёлся. Но то, зачем он вышел из дома, не случилось.
Он ждал, чувствовал, что вот-вот совершится нечто такое, что коренным образом переменит всю его жизнь. Но день за днём не происходило ничего.
Бурлящие малахитовые волны появляются одна за другой, пока не заполняют весь океан, мчащийся под ним. Холодный хлёсткий ветер срывает грязную крупную пену с лошадиных гребней совсем рядом, бросает в горящее обветренное лицо солёные брызги. Всё нарастающая скорость ломает предел, и тогда нефритовый океан уходит вниз, под окоченевшие до белизны алебастра босые ноги, отдаляется, а айвазовские валы становятся, как рябь на весенних лужах, вокруг струится и тонко поёт воздух. Иссиня-фиолетовое небо до самого горизонта затянуто рваными багровыми облаками, а африканское солнце поджигает край океана. Мир начинает вращаться, сначала медленно, затем всё ускоряясь, пока центробежная сила не вышвыривает вон, за его границу, расплющивая о древнюю кладку выщербленной кирпичной стены, хрустнувшей терракотой о сломанный клык, продавливает сквозь неё туда, где себя уже не найти. Спустя мгновение, вокруг уже белые сыпучие пески и жара. Раскалённое обезумевшим Гефестом Небо плавит бесплодную Землю, не даёт вдохнуть. Прочь, в сырой песок, в прохладную тьму, где пахнет плесенью, морёным дубом и старым портвейном из Вила-Нова-де-Гайи. Бочком, сквозь замшелые стены – на простор, в дождь. Здесь грохочет шторм, разбивая тонны зашедшейся в ярости воды об острые бивни прибрежных скал. Колючий ветер налетает со всех сторон, свистит и завывает, глушит вопли мечущихся в вышине чаек. Маяк режет тьму кровавым лучом.
И звон.
Чёрный открыл глаза, но звон не исчез, напротив, он стал громче и отвратительнее. Кто-то настойчиво жал на кнопку звонка, прихотливо варьируя ритм и скорость.
– Чёрт бы вас побрал, – он с трудом поднялся, держась за ненадёжные стены, прошаркал в переднюю, отпер дверь. Прямо перед глазами оказались крупные и мелкие капли конденсата на запотевшей изумрудной бутылке, которую держал на вытянутой руке Железный, как держат дуэльный пистолет. Чёрный сглотнул.
– Ты что, спишь? Я уже собирался уходить.
– Уже не сплю, – просипел Чёрный, взял бутылку, посторонился. Железный вошёл, поставил потрёпанную красную спортивную сумку на пол. В сумке увесисто и совершенно не спортивно звякнуло. Гость движением земского доктора скинул отсыревший дымчатый пуховик, подобрал сумку, прошёл на кухню, как к себе домой. Хозяин поплёлся следом. Его подташнивало, в голове шумел только что оставленный океан.
Железный ударил стаканами по столешнице, с шипящим присвистом открыл бутылку, разлил вспенившееся пиво. Сквозь зрелый янтарь протянулись пульсирующие нити мелких пузырьков. Чёрный сжал запотевший бокал, судорожными глотками опустошил его, впитывая колючую влагу обожжённым нутром. Железный налил снова, Чёрный выпил и это, подождал, пока стакан наполнится в третий раз, взял его, откинулся на спинку сыто скрипнувшего дивана.
– Доброе утро, доктор! – сказал он, повеселев.
– День, – ответил гость с улыбкой. – Уже день. Славная вчера была охота?
– Одинокая. Я дописал Город. Был абсолютно счастлив три минуты, пока не выглянул на улицу.
Железный покосился в трёхстворчатое окно с наплывами краски на рамах, за которым клубилась серая муть.
– Да, уж – он поспешно отвернулся, сделал большой глоток. – Полностью понимаю твоё сегодняшнее состояние. Окружающая реальность неминуемо сделает нас алкоголиками.
– Если мы сами не превратимся в окружающую реальность.
– Глубоко. Даже очень, – передразнил Железный. – Давай, соберём народ, устроим показ твоего нового шедевра. Позовём Колдуна, он рассказы почитает, Крот песни споёт…. Поразгоним эту смурь!
Чёрный большим глотком допил пиво.
– Действуй.
– Сегодня вечером в Мансарде?
– А давай. Я хоть сейчас.
– Ячменная вода творит чудеса. Только не увлекайся, не сорви мне мероприятие. Я сумку тебе оставлю – подлечивайся потихоньку, – Железный выделил последнее слово.
– На улицу – ни ногой. Не совершай ошибку.
– К чёрту Иосифа.
– Я за тобой зайду.
– Зайди.
– Ну, всё, пошёл организовывать. Отдыхай.
Чёрный закрыл за другом дверь.
Шум океана возвращался. Он прошёл на кухню, запил анальгин глотком водки, рухнул на диван. Солёный воздух принял его в свои объятия, а маяк излучал теперь только мягкий пульсирующий свет.
Железный вышел из тёмной пещеры подъезда, вдохнул полной грудью морозный воздух, что после кислой вони в берлоге Чёрного был вкусен вдвойне. Сквозь фрактальную пелену Тумана чуть пробивалось солнце. Небольшое усилие – и легко представить вокруг ясный декабрьский денёк с синим небом в рамке крыш, с впечатанными в него изломанными чёрными ветвями огромных тополей.
– Прекрасно! – вздохнул Железный.
– Что? – переспросила вынырнувшая из Тумана женщина, замотанная в ярко-красный шарф.
– Невероятно прекрасно, мадам! – повторил Железный, и свернул за угол.