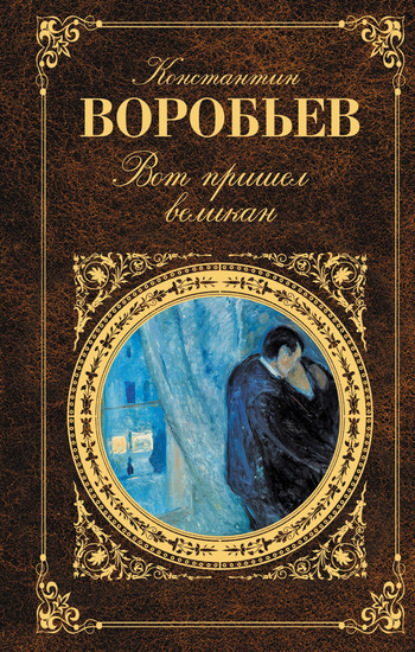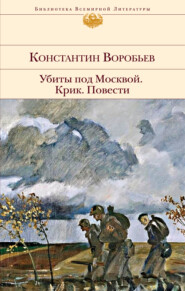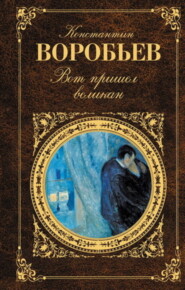По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вот пришел великан (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мед все хворобы и обиды лечит, – строго сказала она Зюзе. Лежа, Зюзя отломил кусок сота, запихнул его в рот и зажмурился.
Вечером он ушел домой. Под остаток сота тетка сорвала ему свежий лопух.
2
За лето я до конца перенял и впитал в себя все, что пленяло меня в Момиче. Все было во мне от него – медлительная и прямая походка, перебитый паузами разговор, манера щурить глаза, держать в руках ношу. Тетка ничего будто не замечала, но однажды, когда я чересчур долго продержался с ответом на какой-то ее вопрос, она уткнулась лицом мне в макушку и сквозь смех сказала:
– Ну прямо вылитый! Все морщинки снял с дяди Моси…
– Может, ты сама сняла! – сказал я, обидясь неизвестно на что.
– И сама сняла, – призналась тетка. – Куда ж я от вас денусь…
Трудная тогда выдалась для меня зима, трудная потому, что мне пришлось высвобождать место в сердце, чтобы разместился там второй человек, а я не умел ничего делить в себе на части, не хотел даже втайне поступиться своей привязанностью к Момичу. Этим вторым человеком был наш новый учитель. Он явился к нам лютым январским утром, отбил на крыльце школы умопомрачительную чечетку – в сапожонках был, – а потом зашел в класс и с порога сказал:
– Меня зовут Александр Семенович Дудкин. Здорово, ребята!
Ему было лет восемнадцать, а может, и двадцать два. Он стоял, приплясывая, растирал уши синими набрякшими ладонями и чему-то смеялся. Щеки его пылали как огонь. Мы встали и вразнобой ответили:
– Дра-а-асть!
Так он познакомился с нами, а мы с ним.
Тогда стояла какая-то непутевая погода: каждую ночь бушевала верховая метель, а по утрам наступала вселенская яркая тишина и в мире ничего нельзя было различить – все пряталось под многометровым снежным покровом. Мы приходили в школу закутанные в полушубки, зипуны и платки. На каждом из нас слева направо висела белая холщовая сума. Там мы носили хлеб, казенную книгу для чтения «Утренние зори» и самодельные грохоткие ящички под карандаши и ручки. До последнего стежка и метки сумки походили одна на другую, и только моя была как завезенная из другого села – тетка приделала к ней широкий откидной клапан, а на нем зеленым гарусом вышила петуха и две лупастые буквы «С» и «П». Эта теткина забава-забота и подтолкнула нас с учителем к нечаянной дружбе, – на второй день после его приезда я запоздал на урок, а когда ввалился в класс, то был сражен и подавлен увиденным: у окна, в полосе солнечного клина, стоял учитель в зеленых бриджах и гимнастерке, перетянутой желтым сияющим ремнем с портупеей. Я впервые видел юнгштурмовский костюм и топтался у дверей, не решаясь пройти к своей парте. В классе стояла непривычная тишина.
– Ну? А почему ты не здороваешься? – командно-весело спросил Дудкин и ступил ко мне, не выходя из солнечного луча. Я стоял и смотрел на его портупею. Он поиграл на ней пальцами левой руки, а правой погладил гарусного петуха на моей сумке и заинтересованно спросил:
– Сам, что ли, нарисовал?
– Не, тетка Егориха вышила, – сказал я.
– А буквы что означают?
– Меня самого, – сказал я. – Санька Письменов.
– А по отчеству как тебя?
– Семенович, – почему-то не сразу ответил я.
Так мы разом выяснили, что ходим в тезках и что я до последних корешков души восхищен его портупеей. В тот же день я узнал – и навсегда почему-то запомнил, – что Лермонтов (стихи его были у нас в «Утренних зорях») буржуйский поэт, не признающий рабоче-крестьянскую революцию. За всю жизнь он написал один-единственный пролетарский стишок – «На смерть поэта», но это получилось у него случайно, потому что тогда какой-то белый офицерюга убил на дуэли Пушкина. Между прочим, Пушкин тоже был крепостником-помещиком…
То ли мой гарусный петух и буквы, то ли неотрывный взгляд, каким я смотрел на портупею, но это особым и нужным, видать, ладом улеглось на сердце Александру Семеновичу: он пересадил меня с задней на переднюю парту, чтобы я был ближе к окну и к нему самому. С затаенным чувством родственности – тезка же! – я заметил, что в ясные дни Саше Дудкину трудно совладалось с какой-то щекочущей его изнутри и снаружи радостью; он не выходил тогда из солнечного русла и не ступал, а будто плавал в нем и то и дело взглядывал на меня.
С каждым днем наши уроки по чтению и письму становились все больше и больше похожими на летучие праздники: мы по целым часам разучивали неслыханные до этого песни «Вперед, заре навстречу» и «Взвейтесь кострами, синие ночи». Слово «пионер» Дудкин произносил отрывисто-укороченно и сочно – «пянер», и оно воспринималось нами как обещание какого-то диковинного подарка. Наверно, просто невозможно было обмануться в этом пламенном ожидании грядущего дня, приготовившего тебе не испытанную еще радость, и первым она отыскала меня. Это случилось на Масленицу. Мы тогда запаздывали к урокам и приходили веселые, добрые друг к другу, с лоснящимися рожами, – ели блины. Однажды, терпеливо подождав и усадив всех, Дудкин неожиданно приказал мне встать. Я вскочил, а он достал из кармана бридж огненно-красный косокрылый кусок шелка, распялил его в руках и пошел ко мне, ступая четко и гулко. Он долго примерял и завязывал на мне галстук, – шея была чересчур тонка, и шелковые концы свисали аж до гашника. Я изнемог от тишины, какая воцарилась в классе, от своих чувств и мыслей, от прикосновения к подбородку жарких Сашиных пальцев. Мне надо было сесть и отдохнуть, тогда все обошлось бы хорошо и достойно, но Дудкин вывел меня на середину класса и там, укрепившись по команде «смирно», сказал, чтобы я повторял за ним слова пионерской клятвы. Мы стояли с ним в полушаге друг от друга, и в его больших синих глазах я видел себя – маленького, головастого, с огненным галстуком на шее.
И я не одолел своего восторга и немого предчувствия тех незримых перемен, что должны были, как я думал, наступить в моей жизни; не перенес торжественного голоса Дудкина, себя, отпечатанного в его глазах, не осилил колдовски завораживающих слов клятвы. На первой же фразе «Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей…» – я шагнул к Дудкину, обнял его колени и заревел, как тогда на Троицу, во дворе у Момича.
Всех остальных «третьяков» и «четверяков» школы Дудкин зачислил в пионеры дня три или четыре спустя. Они тоже получили галстуки, но те были не шелковые и раза в два меньше моего.
Клялись мы хором.
Нет, я ни в чем не обманулся, – та весна протянулась для меня как бесконечно разгонистый кон на каруселях, и за это никто не требовал платы. Как только начал таять снег, у нас почти прекратились занятия: было не до того. Каждое утро мы выстраивались у крыльца школы в колонну по четыре, а сам Дудкин становился шагах в трех впереди и, оглянувшись по сторонам – видит ли кто-нибудь? – подавал команду «Шагом марш» и «Запевай». Запевать полагалось ему самому, а мы под его соло отсчитывали в уме пятнадцать шагов на месте и лишь на шестнадцатом, с левого лаптя вперед, подхватывали разом:
Близится эра светлых годов!..
Нашу колонну постоянно замыкала подвода, наряженная сельсоветом. По виду ее хозяина всегда можно было узнать, был ли его сын с нами. Если был, то камышанин сидел в передке саней лицом к нам и посмеивался, но зачастую подвода плелась далеко позади, и тогда, не прерывая песни, нам надо было присматривать за ней: могла отстать совсем…
Мы собирали утильсырье.
Это слово так и не утратило для меня тот покоряюще-первородный смысл, который вложил в него тогда Саша Дудкин. Камышинку мы обыскивали и очищали с того конца. За школой, у ее глухой стены, уже до самой крыши высилась гора прохудившихся ведер, битых чугунков и сковородок, копыт, веревочных осметков и разного тряпья, но нам все было мало и мало. Дудкин сказал, что из этого в Москве будут строить аэроплан. Уже наступающим летом аэроплан тот появится над Камышинкой. Он даже сесть может тут, – места на выгоне хватит…
Я возвращался домой в сумерках. К моему приходу тетка грела горшок воды и перво-наперво отмывала мне руки, «чтоб не приключилась короста», а потом полуприказывала, полупросила:
– Ну, не томи!
И я рассказывал ей об аэроплане и Дудкине, обо всем, что подглядел и подслушал на том конце. Она долго смеялась, когда я сказал как-то, что все камышинские хаты точь-в-точь похожи на своих хозяев.
– А наша на кого ж?
– Ишь, змея! Забыла, кто тут хозяин! – плачуще отозвался Царь из чулана, но я молча показал пальцем на потолок и на сияющий лоб тетки. Она согласно кивнула и тут же поглядела в окно на Момичеву хату.
С Момичем я не встречался уже давно и с нетерпением и опаской ждал, когда очередь дойдет до его двора, – отдаст он нам железные обручи от рассохшихся кадок или нет? Они висят под навесом сарая на длинном деревянном кляпе. Штук восемь, а то и все десять. Но на наш конец мы так и не добрались: грянуло половодье, и через проулки и буераки нельзя было ни пройти, ни проехать. Зато на последний день нашего похода на тот конец Момичу выпало дежурство с подводой. Мы уже построились, когда он подъехал к школе в больших извозных санях. Хвост у жеребца был завязан узлом, чтобы не забрызгался, и сам Момич нарядился в сапоги, как на праздник. Не сходя с саней, он оглядел утильсырье, затем нашу колонну и, заметив меня, позвал негромко, но властно, как своего:
– Ходи-ка сюда, Александр!
Я подбежал. Момич окинул меня насмешливо-пристальным взглядом и кивнул на кучу утильсырья:
– Это куда ж потом деть надо?
Я сказал об аэроплане и почему-то покраснел. Момич снова оглядел живописную пахучую гору хлама и с сомнением сказал самому себе:
– Да неуж полетит!
– А то нет? – спросил я.
– Гм, – сказал Момич, – вот поплыть оно может… Ну садись, поехали. Нечего лапти мочить.
Я успел бы еще стать в строй, – ребята только что начали топтаться на месте под запев Дудкина, но ослушаться Момича было трудно. Мы поехали следом за колонной. Жеребец лязгал удилами, колесом выгибал шею, кося по сторонам фиолетовыми глазами, и вдруг напрягся и призывно заржал, начисто заглушив песню. Дудкин выбежал на обочину раскисшей дороги и погрозил нам кулаком. Момич осадил жеребца и беззвучно захохотал, втиснув бороду в воротник полушубка. Это было в первый раз, когда я видел Момича таким веселым. Он полулежал в передке саней и взглядывал на меня так, будто я щекотал его.
– Ух-ух-ух! Слышь, Александр! А люди-то могут подумать… будто я навострился под вашу песню – ох-ох-ох – на погорелое собирать!..
Может, он и в самом деле смеялся только над этим и ни над чем больше, но мне было обидно и тревожно: зря он разговаривал со мной про утильсырье. «Плыть может»… Но нешто Дудкин хуже его знает, полетит аэроплан или не полетит? За что ж ему выдали тогда портупею? За так никому их не дают…
Я сидел в санях и не знал, как быть – слезть и пристать к колонне или же остаться с Момичем. Того и другого мне хотелось поровну.
С выгона Дудкин ввел колонну в улицу села и остановился на пригорке возле приземистой хаты без крыльца и сеней, – тут нас вчера застал вечер. Хата стояла над скотным проулком ненужным выносом из общего посада, и на ее растрепанной соломенной крыше опрокинуто сидел не то чугунок, не то горшок с выбитым дном. Хата кренилась на юг, к речке, и туда же зырились два продолговато-узких окна, обведенные бурыми ковылюжинами, – такая краска получается из размолотого кирпича. Видно, ее развели больше, чем потребовалось на окантовку окон, и на глухой стене, обращенной к улице, под самой поветью, чтоб всем видать в будни и праздники, перваковскими буквами-раскоряками были напечатаны два коротких матерных слова. Я так и не понял, заметил их Момич или нет: он стоял возле саней хмурый, большой, прежний и глядел мимо хаты куда-то за речку.
Я и не подозревал, что давно уже нарисовал в мыслях облик Зюзиной хаты. Только у меня она была с настоящей трубой. И без кирпичной краски.