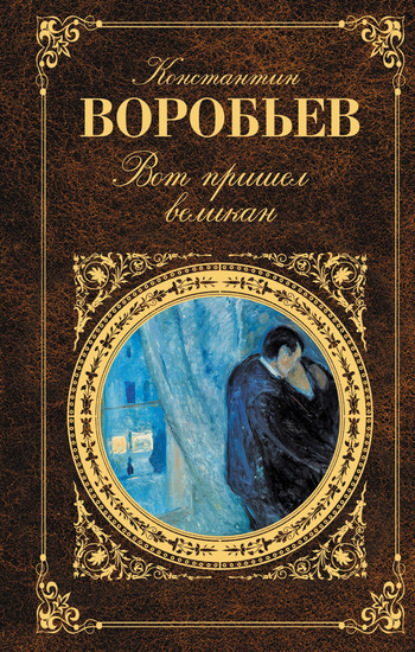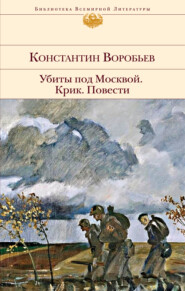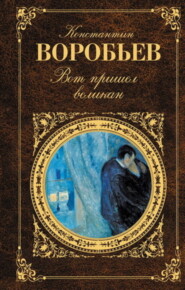По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вот пришел великан (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Был будний день, и камышане возили на парину навоз, а мы ехали как на ярмарку. При обгоне подвод Момич пускал жеребца чуть ли не наметом, рывком сымал с головы картуз, здороваясь, и на вопросы, куда это он собрался, не отвечал, – тогда как раз приходилось сдерживать жеребца и тут же бодрить его вожжами и сулить: «Я тебя поне-е-ежу!»
До Лугани считалось шестнадцать верст, но они протянулись для меня дорогой вокруг белого света, – я никогда до этого так далеко не ходил и не ездил. Я сроду не видел двухэтажных домов, – хаты на хате, и Момич тоже поглядывал на них с уважительной острасткой. Мы остановились и распряглись на широкой каменной площади возле церкви величиной в пять наших камышинских, и жеребец сразу присмирел и показался мне маленьким, и Момич стал маленьким, а самого себя я не примечал совсем.
– Ну, вот мы и приехали, – притушенным голосом сказал Момич. – Ты погоди тут, а я схожу разузнаю, что к чему…
Он ушел, жеребец приник к сену, а я прислонился к колесу повозки. Странны, маняще-терпки были в Лугани запахи, неслыханны звуки, и то, что у нас в Камышинке стоял будень, а тут праздник, потому что взрослые ничего не делали, а только ходили и ходили мимо друг друга и не здоровались между собой; что дети были наряжены во все ситцевое и не поднимали с земли ни папиросные коробки, ни конфеточные обертки, – наполняло меня какой-то накатной обидой за себя и не то завистью, не то враждебностью к ним, луганам. Мне хотелось поскорей видеть свою Камышинку…
Тень от церкви давно переместилась и повозка стояла на самой жаре, когда я заметил тетку, Момича и Дунечку Бычкову. Они шли гуськом – тетка впереди, Момич в шаге от нее и чуть сбоку, а позади плелась Дунечка. На ней и на тетке вместо платков пламенели косынки под цвет моего галстука. Видно, концы косынок были чересчур коротки, потому что не сходились у подбородка и вязались на затылке, и от этого тетка казалась моей ровесницей. С ее плеча свисала до колен снизка желтых как одуваны бубликов, и в руках она держала какие-то кульки и свертки. Момич нес новую косу, лемех к плугу и рябой ситцевый картуз с черным лакированным козырьком. Картуз был маленький, и я издали радостно догадался, что он мой. Тетка кивала мне головой, и лоб ее светился, как бублик. Подойдя, Момич молча насадил мне на голову картуз, а тетка засмеялась и воскликнула:
– Ой, Сань! Да на кого ж ты похож теперь!
– А ты сама на кого? – сказал я. Она поправила косынку, а Момич лукаво посмотрел на нее, смешно скривив бороду.
Мне совсем бы хорошо уехалось из Лугани, если б не Зюзина мать. Пока Момич с теткой застилали попонкой задок повозки, а потом запрягали жеребца, она беспокойно сидела у стены церкви и выжидаючи-пристально вглядывалась в даль чужой праздничной улицы. Мне хотелось, чтобы тетка поскорей позвала ее и чего-нибудь дала. Наверно, это так и было б, но Момич подкинул меня в передок повозки, подсадил тетку и сам сел с нею рядом на разостланной попонке.
– Погоди-ка, Евграфыч, а как же она?
– Кто такое? – непонимающе спросил Момич.
– Да сельчанка-то наша!
– А-а, полномочная-то? Она пущай тем же манером, как и сюда. В казенной бричке…
– Так неизвестно ж, приедут нынче за нами или нет, – забеспокоилась тетка.
– Подождет и до завтрева, – безразлично отозвался Момич, – успеет подражнить камышинских собак красной шалкой…
– Ну это ты не свое чтой-то буровишь! – укорила его тетка.
Я оглянулся на церковь. Дунечка сидела в прежней позе, полуприкрыв лицо некрасиво сбитой наперед косынкой, – от солнца загораживалась. Взяла б и пересела в тень!
На окраине Лугани Момич остановил жеребца возле лавки и молча передал тетке вожжи. Как только он отошел, я рассказал ей о петухе. Она привалила меня к себе и жарким шепотом, как хмельная, сказала:
– Теперь нам не нужен ни петух, ни Царь… Скоро мы с тобой в коммуну пойдем жить… в барский дом, что в Саломыковке. Ох, Сань, если б ты знал…
Она замолчала, – к повозке шел Момич. В одной руке он держал картуз с булками, а во второй бутылку с желтой, как мед, водкой. Он положил все на теткины колени, влез в повозку и, забрав вожжи, досадливо сказал нам обоим с теткой:
– Ну рассудите сами: куда б она тут села? Негде же! Да и поедем мы кружным путем…
– Через лес? – радостно подхватила тетка, будто весь век ждала этого.
У меня занемела шея, – я не мог удержать голову прямо, чтобы не оглядываться на Момичев картуз с булками. Между ними лежала и сверкала бутылка. На ее этикетке был нарисован кусок сота, а на нем – большая, похожая на шершня, пчела. Тетка тесно сидела рядом с Момичем и прощально-задумчиво глядела в поля. Момич весело понукал жеребца, и было видно, что он забыл, зачем привозил меня в Лугань…
– И всё, Сань, под духовые трубы, всё под музыку – и ложиться, и вставать, и завтракать, и обедать… Только ты, гляди, не болтай пока ничего дяде Мосе. Ладно? А то он… возьмет и обидится.
Это всегда говорилось уже на зоревом реву чужих коров, под конец нашего всеночного сказа-беседы, и мне каждый раз становилось тогда нестерпимо жалко Момича, Настю, Романа Арсенина, Сашу Дудкина и всех больших и малых камышан, – мы ведь уходили в коммуну одни – тетка и я, – а они навсегда оставались тут. Мы не знали, когда приедут за нами на казенной бричке, чтобы мы сели в нее и к восходу солнца, – нам хотелось, чтобы обязательно к восходу, – очутились в коммуне. Ни вслух, ни мысленно мы не решались с теткой до конца представить себе надвигающуюся на нас новую жизнь, – она ни на что не была похожа и ни с чем не сравнима, и каждый из нас обещал в ней себе все, к чему никла его собственная душа. Мне хватало одного этого странного и загадочного, как гармошечный звук, слова «коммуна», чтобы окружающая меня явь потускнела и убавилась в радостях: я перенес из нее в ком-му-ну все до одного праздника, какие приходились в году, и всё, что полагалось отдельно на каждый праздник, улеглось там вместе, в сплошной и бесконечный ряд. Тетка уже не снимала с головы косынки и не меняла саяна на будничную юбку, я тоже ходил в новом картузе, в белой с голубыми горошинами миткалевой рубахе и при галстуке. Мы и раньше не придумывали себе рабочих тягостей, а теперь и вовсе перестали что-нибудь делать по хозяйству, – нам даже печка не нужна была, обходились так.
Тогда вскоре приспело время метать парину, и Момич покликал меня в поле с собой. Накануне, вечером, мы накосили за речкой травы, залили в бочонок полтора ведра колодезной воды, всадили на повозку плуг.
– Гляди, не проспи. До солнца чтоб выехать, – сказал мне Момич, и всю ночь мы с теткой не сомкнули глаз: сперва про коммуну шептались, а потом сторожили рассвет. Момич уже запряг, когда я показался на огороде.
– Ты чего это? К обедне собрался? Беги, скинь рубаху и картуз. Жива! – приказал он мне.
День обещался тихий и пасмурный, и все было сизым и грустным – и небо, и земля, и полевые дали. Мы миновали ветряки и околок, обогнули ржаной массив и выехали к опушке густого кустарникового леса. Он круто спадал под уклон, потом выпрямился и тянулся, пока хватало глаз, в сторону Брянщины. Момич сказал, что это Кашара. Тут был паровой клин нашего кутка, сплошь заросший татарником, цветущей сурепью и диким чесноком. Момич сразу признал свой загон, и мы начали пахать, – он ходил рядом с плугом по стерне, а я по теплой глубокой борозде шагах в трех позади. Одним концом загон упирался в Кашару, а другим в заказной, некошеный луг. Оттуда лес был почти невидим. Я давно проголодался, но солнце так и не выглянуло, и не было известно, когда наступит полдень. На двадцать пятом круге Момич вдруг бессовестно ухнул, быстро оглянулся на меня и посоветовал:
– Не греми, прогремишься! Не обедать садишься!
– Да это ж ты сам! – сказал я и неожиданно для себя попросил: – Давай взаправду чего-нибудь обедать, дядь Мось!
– Пробегался? Зараз пошабашим, – сказал он. – Я, вишь, метил успеть вспахать ваш загон к вечеру.
Тогда-то я и сказал ему, что нашу парину метать не нужно, потому что мы уходим скоро в коммуну. Момич придержал жеребца и переспросил, сведя брови:
– Куда-куда?
– В барский дом, что в Саломыковке, – сказал я. – Ты не знаешь, где такая Саломыковка, дядь Мось?
– За Луганью, – помолчав, сказал Момич. – Это тебе что ж, Егоровна сказала?
– Ага, – признался я.
– Ну?
– Жить будем в коммуне, – сказал я. – Там всё под духовые трубы. И ложиться, и вставать…
– Ишь ты! А работать тоже под трубу?
Момич спросил это точь-в-точь, как спрашивал когда-то об утильсырье, и поэтому я ответил неуверенно:
– Как захочем…
– Та-ак, – сказал он. – Что ж, живая душа и в будень калачика чает… В коммунию, значит, навострились?
Я промолчал, а Момич спросил еще об одном:
– А добро на чем же повезете? Там ить под вас подвод и подвод нужно…
Наверно, он и сам почуял, что обидел нас с теткой зря, потому что впервые посмотрел на меня как на взрослого – выжидаюче-опасливо. Я встал и пошел через пахоть в сторону Камышинки. Момич непростудно кашлянул и позвал негромко, виновато:
– Александр! Куда ж ты попер? Обедать же надо…
– Я не хочу, – сказал я, не оборачиваясь.
– Ну, значит, сыта теща, коли гущи не ест! – гневно сказал он и хлестнул жеребца.
Дома я поведал про все тетке. Она заставила меня повторить, что говорил Момич о нашем добре и подводах, и долго и как-то не по-своему смеялась, взглядывая на меня мокрыми от слез глазами. Мы пополудневали хлебом с колодезной водой и солью. Тетка посидела, подумала-подумала и сказала, чтобы я нарвал снытки в ракитнике, – «завтра курицу будем резать», потом сняла косынку, накрылась платком, выставив куль, и пошла зачем-то на выгон. Вернулась она вечером почти следом за Момичем, – может, только сажен на сто отстала от его повозки…
Царь подпустил нас к печке, – наверно, совестно стало из-за нашего петуха, и мы с самого утра кое-как зарезали хохлушку и поставили ее варить в большом глиняном горшке. Он долго не закипал, и я несколько раз бегал за хворостом в ракитник. Оттуда, из-под бугра, я и увидел въехавшую к нам во двор длинную грабарку с высокими решетчатыми грядками, на каких в жнитву возят снопы. В упряге была та пегая кобыла, что все время паслась на выгоне. Я не стал собирать хворост и нехотя, стараясь не взглянуть на Момичев двор, пошел домой. В грабарке полулежал, просунув ноги в решетку, болезненный мужичонка с соседнего кутка. Я знал его только уличное прозвище – Халамей. Он сонливо поглядел на меня и ничего не сказал. По двору, нарочно пугаясь своей тени, жировал сосун, высторчив веником хвост.