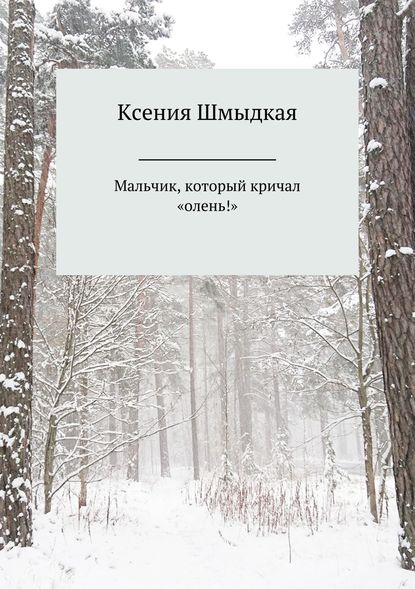По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мальчик, который кричал «олень!»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
От этого «поговорим завтра» нельзя было ожидать ничего хорошего, и оставшуюся дорогу Василий перебирал в голове все возможные наказания, которые обрушатся на него с утра. За этим занятием он так увлекся, что даже подзабыл о странной тени. Оставят без сладкого? Откуда в лесу взяться сладкому? Отложат наказание до дома и оставят без сладкого уже там? Оставят его самого в лесу? Совершенно точно – будут говорить недовольным голосом и с такой задержкой, словно решают, снизойти до беседы или нет. Все серьезные проступки сопровождались таким наказанием, по мнению Василия, самым ужасным: он сразу чувствовал себя в полном одиночестве (как говорила бабушка, «сиротинушкой»), а еще боялся, что если ему станет плохо – живот заболит или кровь пойдет – никто ему не поможет. Слезы тут не помогали, он проверял.
Смакование ужасов прервалось вместо с работой мотора. Фары выхватили из темноты небольшой деревянной дом, возле которого уже было припарковано несколько машин. На нижнем этаже в окнах горел свет, но верхний был темным, и от того казался заброшенным.
Дверцу Василия открыл папа (мама возилась с лыжами). Василий попытался поймать его взгляд, но в темноте разглядеть папино лицо было тяжело.
– Приехали? – заискивающе спросил он.
Папа только кивнул.
Из машины он не вылез – вывалился. Отвыкшие от движения ноги дрожали и не хотели держать слишком тяжелое, будто припухшое за часы поездки тело. Свет из окон больше сбивал с толку, чем помогал, и Василий не рисковал сделать даже шаг в сторону от дверцы. Ему казалось, что в любой момент он может провалиться в ночь и там и остаться, забытый всеми. Родители переговаривались вполголоса.
– Какую из сумок взять?
– Доставай обе.
– А лыжи?
– Пусть лежат, утром разберемся.
Пока они возились, Василий поднял голову, закинул ее так, что аж шея хрустнула, а шарф спереди сполз и оголил кожу. Но холода Василий не чувствовал: теперь, когда он не видел ни мрачного леса, ни полуслепого неприветливого дома, ни неестественной темноты, в которой тонуло все вокруг, его зрение словно перефокусировалось и показало ему то, что за свои пять лет жизни Василий видел еще реже чем «настоящие» снег и зиму – звезды. Ветер разогнал снежные тучи, и теперь над ним раскинулась сине-фиолетовая бесконечность, усыпанная тысячами, нет, миллионами, нет, миллионами миллиардов сверкающих точек. Дома небо было другое, тусклое и кислое от круглосуточного городского света. Как странно, подумалось Василию, что в разных местах оказывается разное небо, если космос – родители говорили – один на всех.
– Мама, – прошептал он. – Мама, посмотри.
Но мама не посмотрела. Взяла его за руку, хлопнула дверцей машины и потянула к дому. За ними, чуть согнувшись под весом сумок, топал папа.
В прихожей никого не было, только несколько закрытых дверей, лестница наверх и странный, немного химический запах. Василию показалось, что он слышал негромкие разговоры за одной из дверей, но они пошли не туда, а к другой, самой дальней. Открыли ее, прошли через просторную комнату с обеденным столом в центре, потом открыли еще одну.
Эта комната оказалась меньше: узкая свободная полоска шла от двери до окна, по обе стороны стояли кровати. Слева пошире, справа поуже. В небольшое пространство между изножьем широкой кровати и стеной папа кинул сумки и прямо так, не раздеваясь, упал лицом на покрывало.
– В душ пойдешь? – спросила у него мама, вынимая Василия из бесконечных слоев одежды. С себя она при этом еще не сняла даже шапки, и на ее покрасневшем лице выступили капельки пота.
Папа пробормотал что-то неразборчивое.
Василий же разрывался: он хотел спросить у мамы, можно ли сегодня не чистить зубы (от одной мысли, что надо идти в ванную – еще непонятно, какая она здесь – и что-то делать, эти самые зубы начинали ныть), но в то же время думал, что, может, лучше промолчать и она не вспомнит.
Она не вспомнила.
Стоило погаснуть свету, и родители уже спали. Василия это всегда удивляло: как у взрослых удается засыпать так быстро и так крепко, что даже настойчивые дерганья за руку будят их далеко не сразу? Его самого ночью мог разбудить любой разговор в соседней комнате, и тогда он подолгу лежал в темноте с одним открытым глазом, потому что вглядываться в ночные тени двумя было страшно, но и закрывать оба он не решался.
Свернувшись под непривычно плоским одеялом на незнакомой, твердой подушке, Василий тосковал по дому. Он с удовольствием променял бы странные ночные сумерки этой комнаты на знакомую домашнюю темноту, в которой он угадывал каждый угол, а под боком лежал большой, немного потрепанный и потерявший в стирке цвета заяц (взять его с собой родители почему-то не разрешили).
Хрусть-хрусть, – донеслось с улицы.
Хр-хр, – послышалось с соседней кровати.
Василий моргнул. Наверное, послышалось.
Хрусть-хрусть.
Храпа не последовало. Родители продолжали лежать беззвучно, и, если бы не темные контуры их одеяла, Василий мог бы поверить, что на соседней кровати никого нет.
Хрусть-хрусть.
Чтобы выглянуть в окно, Василию нужно было чуть-чуть потянутся и сдвинуть занавеску, но мысль об этом пугала больше, чем любой домашний кошмар. Ни скрипящий шкаф, ни дребезжащий холодильник, ни даже пощелкивания стен (родители как-то пытались объяснить, из-за чего это происходит, но Василий не запоминал – зачем знать, какие чудовища живут внутри?) не наводили такого ужаса, как это прерывистое похрустывание за окном.
Может, это просто сосед вышел погулять. Ночной лыжник.
Хрусть-хрусть, – еще ближе.
Василий постарался не дышать, отделываясь редкими судорожными зачерпываниями воздуха, но быстро понял, что так его только больше слышно. Звать родителей точно было нельзя: во-первых, их еще надо добудиться, а во-вторых, тогда уличное что-то точно услышит. А так, может, оно решит, что здесь пусто и уйдет.
Хрусть-хрусть.
Нет, это что-то точно видело их машину. Оно знает, что они здесь. Может, это оно и было, на дороге?
Хрусть-хрусть.
Ладони и щеки у Василия были одинаково мокрые. Первые – от пота, который он – разумеется, тихо-тихо – постарался вытереть о простыню. Вторые – от слез и немного соплей, стекавших на подушку, потому что сморкаться беззвучно Василий не умел, а звучно…
Хрусть-хрусть.
Василий сел в кровати. Родители пошевелились, но не проснулись. За окном еще раз хрустнуло – совсем близко – и затихло.
– Олень, это олень, – прошептал Василий, вытирая нос рукавом пижамы. Страх был так силен, что внутри у него что-то онемело, и теперь он мог не только шевелиться, но и понемногу, по сантиметру за сантиметром, подбираться ближе к окну. Все то время, что у него занял этот путь, за окном было тихо.
Наконец, Василий уперся коленом в подушку, приподнялся, схватился за занавеску и, не думая, отдернул ее.
Это совершенно точно был не олень.
***
Шумел, шумел летний лес, но Василий этого не слышал. Во-первых, из-за естественного гудения движущейся машины. Во-вторых, из-за наушников. На самом деле он наушники не очень-то любил, но сейчас выбирать не приходилось: чтобы отгородиться от мира снаружи годилось все.
Василию было уже девять («с половиной», как обязательно добавлял он), когда начались летние каникулы, и родители решили поехать подышать воздухом. Настоящим, а не как дома. На велосипедах покататься. О чем они радостно ему и сообщили, причем, в своем обычном стиле, за день до.
– А куда мы едем-то? – спросил Василий и чихнул от внезапной щекотки в носу. Вопрос звенел угасающим эхом, словно он уже был задан раньше, а сейчас только повторен.
Родители переглянулись.
– Помнишь, много лет назад, когда ты был еще маленький, – осторожно начала мама, – мы зимой ездили покататься на лыжах? Ты тогда… испугался.
О, Василий помнил. Точнее, большую часть времени он как раз не помнил, но это было результатом старательной работы психолога, к которому его водили до самой школы и потом еще несколько месяцев, на всякий случай. Гибкая детская память не сразу, но все же приняла столь дорогую родителям и специалисту форму: ту, в которой утомительная дорога, заснеженная ночь и не-олень за окном сперва были загнаны в клетку «слишком богатого воображения», а потом и вовсе запрятаны в самый дальний угол, где о них не пришлось бы постоянно спотыкаться. Но стоило расслабиться, немного забыться или просто начать вслушиваться в ночную темноту, как воспоминания возвращались, ничуть не потускневшие за прошедшее время. Василий не плакал, не кричал и не признавался родителям, чтобы их не расстраивать, но он помнил. Собственный крик, перебудивший тогда весь дом, иногда раздавался у него в голове за несколько минут до будильника. После такого пробуждения Василий всегда шел мерять температуру, уже зная, что в школу ему идти не надо, – навязчивый кошмар стал верным предвестником болезни.
Немного помогало городское окружение, а точнее – отсутствие поблизости больших лесных массивов, но даже от пожухлого, едва живого парка, где гуляли его друзья, Василий старался держаться в стороне, особенно зимой. Хорошо хоть все зимы, последовавшие за той, «настоящей», зимой, были малоснежные.
– Аааа… ну, помню, – сказал Василий. Что значило «пожалуйста, только не туда, не надо, давайте останемся дома, я помою посуду и буду пылесосить все лето, только не туда, давайте к бабушке на дачу, только не туда, пожалуйста», но Василию было девять с половиной лет, а папа, не зная, как еще можно воспитывать напуганного непонятно чем сына, только и повторял ему последние четыре года, что мальчики ничего не боятся. – Отепя или как там ее?
Родители снова переглянулись. На этот раз с явным облегчением, а папа еще и кивнул: смотри, мол, какого я молодца воспитал. Но даже папу, кажется, не до конца успокоило его напускное равнодушие, потому что за всю дорогу он ни разу не сказал Василию перестать сидеть в планшете («глаза испортишь») или вынуть наушники («с нами лучше поговори»), и Василий этим пользовался, погружаясь в цифровой транс, в котором не было места ни лесу, ни страху. Из машины он вылез лишь дважды. Первый – на заправке, когда количество выпитой воды победило нежелание покидать салон. Не глядя по сторонам, Василий проскользнул в здание, опередив при этом папу, а на обратном пути, застав его у кассы, выпросил хот-дог – небольшое, но все же утешение. Второй – на границе, где Василий смотрел на крышу, пытался ее узнать, но проваливался: то ли она изменилась, то ли он сам. Вот холода, бродившие в коридоре для машин, было точно те же; несмотря на летнюю жару, мама куталась в накинутую на плечи ветровку, да и папа вздрагивал, когда пересекал поток сквозняка.