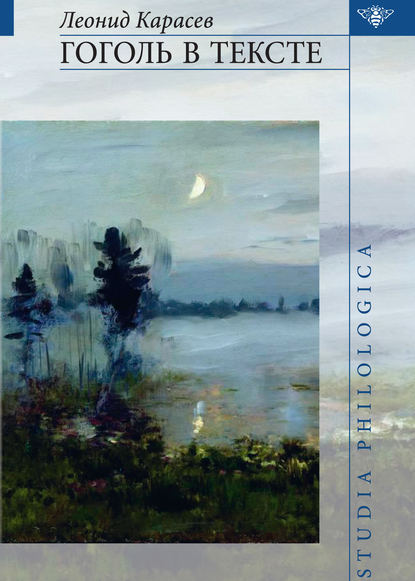По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гоголь в тексте
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гоголь в тексте
Леонид Владимирович Карасев
Studia philologica
Книга посвящена изучению творчества Н. В. Гоголя. Особое внимание в ней уделяется проблеме авторских психотелесных интервенций, которые наряду с культурно-социальными факторами образуют эстетическое целое гоголевского текста. Иными словами, в книге делается попытка увидеть в организации гоголевского сюжета, в разного рода символических и метафорических подробностях целокупное присутствие автора. Авторская персональная онтология, трансформирующаяся в эстетику создаваемого текста – вот главный предмет данного исследования.
Книга адресована философам, литературоведам, искусствоведам, всем, кто интересуется вопросами психологии творчества и теоретической поэтики.
Леонид Владимирович Карасев
Гоголь в тексте
Леонид Карасев родился в Москве. Закончил МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор философских наук. Автор книг «Онтологический взгляд на русскую литературу» (1995), «Философия смеха» (1996), «Вещество литературы» (2001), «Движение по склону. О сочинениях А. Платонова» (2004), «Три заметки о Шекспире» (2005), «Флейта Гамлета. Очерк онтологической поэтики» (2009), а также ряда научных публикаций в российских и зарубежных изданиях на английском, французском, голландском и польском языках.
Книга «Гоголь в тексте» посвящена проблемам гоголевской поэтики и составлена из очерков, написанных автором на протяжении двух последних десятилетий.
В оформлении переплета использована картина И. Левитана «Туман» 1890-е годы
Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.
Предисловие
…Он нечто написал самим собой.
Б. Зайцев. Жизнь с Гоголем
Что значит «Гоголь в тексте»? Любой писатель сказывается в своих сочинениях, вопрос в том, в какой степени и каким образом проявляется его, собственно, человеческое, индивидуальное начало. Обыкновенно это начало связывают с «идейным» или «духовным», однако очевидно, что индивидуальность во многом обязана и той стороне авторского существа, которая связана с психологией, с телесностью, а они сказываются в большей или меньшей степени на самих «идеях». Иначе говоря (повторю то, что я писал в предисловиях к книгам «Вещество литературы» и «Флейта Гамлета»), моя задача вновь состоит в том, чтобы, помимо традиционных литературоведческих задач, попытаться уловить и описать модус перехода телесности авторской в «вещество» повествования – в идею, сюжет, символические подробности. Проследить то, как индивидуальность автора (а это может быть связано и с целым типом мирочувствия) незаметно для него входит в текст, придавая ему ту или иную смысловую и эстетическую конфигурацию. Интерес подобного рода – это интерес «онтологической поэтики»[1 - См.: Карасев Л. В. Онтологический взгляд на русскую литературу. М., 1995; Карасев Л. В. Вещество литературы. М., 2001; Карасев Л. В. Флейта Гамлета. Очерк онтологической поэтики. М., 2009.], ориентированной на выявление «нечитаемого в тексте», это направленность на выявление неочевидных смысловых структур, которые укоренены в глубинных, сущностных основаниях текста; структур, образующих своего рода «неофициальный» или «второй сюжет», оказывающий влияние на оформление и развитие сюжета очевидного. В некоторых случаях и в некоторой степени – подобные онтологические схемы могут быть связаны не только с духовно-культурными, но и с телесными аспектами (В. Н. Топоров называл это «психофизиологическим субстратом человека», который сказывается в создаваемом им тексте)[2 - Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 577.]. Как раз на этот тип авторского присутствия в тексте я в данном случае и ориентировался, стремясь показать, как телесность претворяется в слово, как соматика становится эстетикой.
«…Он нечто написал самим собой», сказанное Б. Зайцевым о Гоголе, как раз и указывает на особенность гоголевского случая; в этом «самим собой» звучит не только отдельно взятое «духовное», но вся личность со всем ее составом.
Само собой, не все в книге посвящено одной лишь телесности, есть в ней и вполне обычные для регулярного литературоведения соображения и сопоставления, однако того объема – смыслового и фактического, который связан с названной темой, вполне хватило, чтобы назвать книгу именно таким образом.
В целом же речь идет об онтологическом подходе к тексту, то есть о чем-то более широком, чем «поэтика текста» в ее привычном понимании. В данном случае речь идет о попытке воссоздания того, что можно назвать «персональной онтологией автора», не просто сказывающейся, а непосредственно выражающейся в его поэтике. Как писал по этому поводу В. Н. Топоров, поэтика «текста, творчества все настоятельнее нуждается в освещении со стороны поэтики творения, в которой – если говорить о предельной ситуации – проступает изоморфизм творца и творимого, поэта и текста и, следовательно, хотя бы отчасти снимается оппозиция «автор – текст»[3 - Там же. С. 576.]. Автор входит в текст целиком, поэтому и текст становится тем более органичным, живым, чем более сильно в нем целокупное авторское присутствие. Это относится и к строению сюжета, и к символическому оформлению описываемых событий, которые могут нести на себе тот или иной телесный отпечаток. Именно поэтому можно – и не только метафорически – говорить о «сюжете поглощения» у Гоголя, о «головной» теме у Достоевского или о «дыхании» прозы у Чехова.
Надо заниматься подобными изысканиями или нет – вопрос не праздный: возможно, кому-то такого рода поиски покажутся бессмысленными и ненужными, поскольку они не вполне укладываются в рамки привычных представлений о том, как нужно работать с текстом, что входит в компетенцию литературоведа, а что нет и т. д. Однако если взглянуть на вещи шире, то можно предположить, что и в подобном подходе есть свой смысл. Во всяком случае, когда потребность в осознании того, зачем человек вообще создает вымышленную текстовую реальность и как именно он это делает, станет более явной и востребованной, приведенные в книге наблюдения и соображения могут оказаться небесполезными. Другое дело, что это уже точно будет задачей не филологии, а многих, слившихся вместе, интеллектуальных стратегий, которые в тексте, через текст будут стремиться к тому, чтобы понять вещи, к тексту никакого отношения не имеющие: их предметом станет не литература, а, как сказал бы Гоголь, «душа и прочное дело жизни».
Теперь – несколько слов об устройстве книги. Она открывается статьей «Гоголь и онтологический вопрос» (1993), которая написана двадцать лет назад, в эпоху, когда многие вещи казались мне гораздо более понятными, чем сегодня. Тем не менее в этом сочинении, несмотря на его категоричность, есть, как мне кажется, некоторые наблюдения и соображения, которые в общем составе книги могут оказаться небесполезными. К тому же именно в этой работе обозначился тот круг проблем, которыми я стал заниматься впоследствии. В основе текста лежал доклад, прочитанный на научном семинаре в Институте высших гуманитарных исследований при РГГУ в 1992 году (теперь это ИВГИ им. Е. М. Мелетинского). Доклад был встречен неоднозначно и весьма бурно; собрали даже материалы дискуссии (Л. М. Баткин, Г. С. Кнабе, В. Н. Топоров и др.), чтобы издать их отдельной книжкой, но до издания, как водится, дело не дошло.
Статьи «Nervoso Fasciculoso (о «внутреннем» содержании гоголевской прозы)» (1999) и «Сюжет поглощения» (2009) занимают значительную часть книги и посвящены общей теме – роли телесного начала в устройстве гоголевского сюжета. В данном случае речь идет о возможных параллелях между «логикой» пищеварительного цикла и особенностями повествовательной схемы у Гоголя (со всеми сопутствующими развитию сюжета символическим деталями). «Сюжет поглощения» написан на десять лет позже, чем «Nervoso fasciculoso» и представляет собой более детальную проработку той же самой темы. Вместе с тем это вполне самостоятельное исследование, поскольку главной его темой является соотнесение основных фаз пищеварительного цикла с фазами гоголевского сюжета, а также рассмотрение возникающих при этом неожиданных эффектов. Само собой, рассматриваются здесь не подробности физиологии, а метафоры и сюжетные ходы, которые могли быть до некоторой степени связаны с особенностями авторской психосоматики. То же самое (но уже в плане психологии зрительных предпочтений и антипатий) можно сказать и об очерке «Чтоб видно было как днем», где идет речь о феномене «ночного света», присутствующего во многих гоголевских сочинениях.
Что касается остальных заметок, то какие-то из них связаны с темой телесности, какие-то нет. В последних трех очерках и вовсе речь идет о линиях литературной преемственности, о том, как сказался Гоголь в сочинениях Достоевского, Чехова и Платонова, или, если держаться названия книги, как присутствует Гоголь в текстах других авторов.
Работы, составившие книгу, писались на протяжении последних двадцати лет и представляют собой переработанные варианты статей, большая часть которых публиковалась в различных научных изданиях, прежде всего – в журналах «Вопросы философии», «Вопросы литературы», «Путь», «Человек» и «Studia Slavica». С благодарностью вспоминаю имена Е. М. Мелетинского и В. Н. Топорова, поддержавших меня в ту пору, когда я еще только начинал в означенном ключе заниматься Гоголем и искал опоры и оправданий для задуманного дела.
Гоголь и онтологический вопрос
То, что Толстой назвал «самым главным» для человека, Розанов связал непосредственно с Гоголем – «жажда бессмертия, земного бессмертия (здесь и далее в цитатах курсив мой. – Л. К.)»[4 - Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе. СПб., 1894. С. 11.]. Это и есть предельный вариант вопроса, который живое существо задает себе и миру; вопрос, который, собственно, и можно назвать по-настоящему «онтологическим». Здесь – центр, от которого во все стороны расходятся нити, приводящие в движение героев гоголевского мира или же, наоборот, заставляющие их застыть, оцепенеть, превратившись в «немые сцены» или «живые картины». Проявляя эти смыслы, мы определяем границы гоголевского мира – пространства, в котором автор осуществился для нас, вошел в нас, приняв участие в построении наших собственных персональных мифологий. Мир Гоголя, его постоянно звучащий вопрос о «самом главном» втягивает читателя внутрь себя, а наше аналитическое вопрошание все более и более перерастает в сочувственное понимание и сопереживание. Прочесть Гоголя с онтологическим настроем – значит попытаться увидеть, восстановить в его сочинениях ту логику сопротивления, протеста против смерти, которая и дает ряд картин и метафор внешне произвольных, но внутренне глубоко мотивированных и последовательных. Как писал В. Розанов, писатель «не хочет раскрыть какой-нибудь стороны своей души, и, однако, жажда в нем бессмертия индивидуальной, особой от других жизни, так велика, что он скрывает, запрятывает среди прочего и все-таки оставляет в своих произведениях отражения этой стороны: проходят века – и нужная черта вскрывается…»[5 - Там же. С. 11.]. Сводить все только лишь к понятой означенным образом «онтологии», разумеется, бессмысленно. Просто выбрав определенную позицию, я отвлекаюсь от всего остального, не забывая при этом и о других возможных прочтениях. Фактически же, речь как раз и идет попытке увидеть в гоголевских текстах это самое «скрытое» и «запрятанное», увидеть в них своего рода набор вариантов решения самой главной человеческой проблемы – преодоления смерти. Писатель, который «прожил жизнь под террором загробного воздаяния»[6 - Мочульский К. В. Духовный путь Гоголя. Париж, 1934. С. 88.], не мог не искать спасения – пусть иллюзорного – в сочиняемых им историях. Именно с этой точки зрения мы и рассмотрим его сочинения, начав с повести «Шинель».
«Шинель»
Когда Гоголь говорит, что в «Мертвых душах» хотел показать Россию с «одного боку», он указывает на вполне очевидную сторону дела: «мертвое» – метафора России отсталой, чиновничьей, застывшей. Россию нужно оживить, воскресить. В «Светлом Воскресении» в гоголевском троекратном уповании на то, что именно на русской земле, прежде всего, воспразднуется праздник Христова Воскресения, смерть отодвинута и посрамлена пафосом светлой мистики. В «Вие», напротив, победу одерживает смерть – здесь торжество мистики темной. Однако ни социальная, ни мистическая подкладка темы «неумирания» или «умирания» нас сейчас занимать не будут: у Гоголя предостаточно мертвецов – и символических, и настоящих. Но разве меньше их в английской или французской литературе?
О чем рассказывает «Шинель», если подойти к ней с онтологической меркой и присмотреться к ее эмблемам? Максимально упрощая ситуацию (хотя от этого она не становится более простой), можно сказать, что, помимо основного, видимого сюжета, речь здесь идет о проблеме человеческого сопротивления смерти. И это сопротивление, если говорить о мифопоэтической и литературной традиции, проявляется в создании своеобразных символических двойников, которые берут на себя «ответственность» за жизнь героя, отзываются на его поступки и, в свою очередь, влияют на его судьбу. Примеры «Шагреневой кожи» Бальзака или «Портрета Дориана Грея» Уайльда, где связь между героем и его символическим заместителем совершенно очевидна, объяснений не требуют. В гоголевском же случае можно говорить о целой развертке или серии такого рода вариантов.
Вот исходная ситуация «Шинели»: бедный чиновник замерзает в своей старой одежде, следующей зимы уже, возможно, не переживет. Все думы его – о новой теплой шинели, которая обещает ему новую жизнь и счастье. Так чаемая шинель становится полноправным персонажем текста, что и зафиксировано в самом названии повести. Можно сказать, что витальный смысл Акакия Акакиевича, смысл его тела (поскольку речь идет о физической стороне дела – холоде, простуде, смерти) передается одежде. Шинель становится иноформой тела. Это, собственно, вполне очевидно. Угадать перенос смысла с тела на одежду нетрудно: тут и такие же, как у тела, «спина», «плечи», «грудь», и даже руки-рукава. Да и сам Гоголь недвусмысленно сопоставляет новую шинель то с женой, то с новорожденным ребенком – портной приносит обнову, завернутую, запеленатую, как дитя, в чистый платок.
Важно то, какой вывод сделать из такого сопоставления-уподобления. Акакий Акакиевич буквально придавлен мыслями об одежде. Шинель становится почти что самостоятельным персонажем, а это значит (если следовать предложенной логике), что онтологический вопрос, то есть вопрос о жизни и смерти, может быть задан и одежде. Ведь теперь она – заместитель живого тела, она – носитель витального смысла; и поэтому именно от нее, от ее «поведения» зависит дальнейший ход действия. Башмачкин как будто устранен или отодвинут. На первом месте – диалог двух его «заместителей»: старого изношенного капота и новой шинели; и от исхода этого странного спора зависит, как выясняется, жизнь самого чиновника.
Здесь вспоминается Грушницкий из «Героя нашего времени», чья связь с одеждой столь же очевидна, как и у гоголевского Башмачкина. В небольшой новелле «Княжна Мери» уместились десятки упоминаний о шинели Грушницкого. «Толстая солдатская шинель» выступает как настоящий персонаж, как вещь, несущая в себе явную витальную символику. Шинель – второе «тело» Грушницкого. Пока она покрывает плечи и грудь Грушницкого, все идет хорошо. Проблема возникает тогда, когда эту роль у шинели пытается отобрать новый офицерский мундир, на который Грушницкий возлагает все свои надежды. Примечательна в этом отношении динамика «спора» старой шинели и нового мундира: сначала идут многократные упоминания о шинели, затем наравне с шинелью фигурирует мундир, после чего оба «героя» сближаются и сосуществуют в рамках одной или двух коротких фраз. Последнее упоминание ставит их со всей определенностью друг против друга: «Пеняй на свою шинель или на свои эполеты». После этого ни шинель, ни мундир вообще не упоминаются, хотя сам Грушницкий (уж, наверное, в мундире) появляется еще на двух десятках страниц. Мундир победил, шинель посрамлена, и вот тут выясняется, что Грушницкий с самого начала тянулся к тому и ставил на то, что было ему противопоказано, причем вопрос о «виновнике» его гибели может быть в равной степени отнесен и к старой шинели, и к мундиру. Кровью еще не произошедшей дуэли Грушницкий отмечен сразу после того, как он отказывается от своей старой шинели: едва Грушницкий успел надеть свой новый мундир, как «лицо его налилось кровью». А после производства в офицеры прозвучало и символическое приглашение на казнь от Печорина. Вслед за словами Грушницкого: «О, эполеты, эполеты! (…) я теперь совершенно счастлив» – следует вопрос Печорина: «Ты идешь с нами гулять к провалу?», после чего происходит разрыв Грушницкого с Мери и ссора с Печориным, завершающаяся дуэлью и смертью. Печорин сказал «бедная шинель», Грушницкий – «гадкая», и онтологическая правота оказалась на стороне Печорина, сохранив его от всех роковых случайностей, включая сюда и выстрел Грушницкого.
Я привел эту параллель для того, чтобы показать, что гоголевский случай не единственный в своем роде, что связь между персонажем и его одеждой вполне реальна и значима. Пока Башмачкин носил свой капот, его жизнь была под защитой этой ветхой, но наполненной витальным смыслом вещи. Новая же шинель с самого начала таила в себе потенциальную угрозу, возможно угрозу неизбежного обветшания и старения.
Гоголь не дает новой шинели состариться, сокращая ее жизнь до одного дня. Шинель исчезает, и вслед за ней умирает сам Башмачкин. Единственное, что смягчает драму (речь, разумеется, идет об онтологической подкладке происходящего), это способ исчезновения шинели. Она не испортилась, не сгорела, не обветшала, не порвалась. Она украдена совершенно новой, а это означает, что шинель на самом деле цела, так сказать, «жива и здорова», просто существует, продолжает жить в каком-то другом месте. Конечно, это не решение онтологического вопроса, а только иллюзия решения. Нечто вроде этого (еще до «Шинели») Гоголь попытался сделать в «Портрете».
«Портрет»
То, что было сказано по поводу «Шинели», важно не столько порядком следования символических элементов, сколько самим указанием на эти элементы, на стоящую за ними онтологическую проблему.
В «Портрете», как и в повести о чиновничьей шинели, главный посыл дан уже в названии. Место человека, человеческого тела занимает его живописное изображение – своего рода «плоская шинель». Изображение как иноформа тела (я все время говорю «тело» потому, что проблема именно в нем: умирает тело, а вместе с ним, за ним вынужденно умирает и сам человек). Итак, портрет становится носителем витального смысла; ему-то и переадресуется онтологический вопрос. Явный уровень здесь очевиден и потому малоинтересен: изображение ростовщика оживает по ночам, старик выбирается из портретной рамы и бродит по комна те – вполне банальный романтический сюжет. Гораздо более важен слой символический – слой подсознательной развертки. При таком подходе становится, хотя бы отчасти, объяснимой двойная концовка «Портрета». В редакции «Арабесок» дело обстояло так: пока пришедшие на аукцион люди слушали рассказчика, портрет таинственным образом истаял: «… черты странного изображения почти нечувствительно начали исчезать, как исчезает дыхание с чистой стали. Что-то мутное осталось на полотне. И когда подошли к нему ближе, то увидели какой-то незначащий пейзаж. Так что посетители, уже уходя, долго недоумевали, действительно ли они видели таинственный портрет, или это была мечта и представилась мгновенно глазам, утружденным долгим рассматриванием старинных картин». Исчезновение изображения ростовщика, таким образом, обозначало свершившийся приговор свыше, победу Блага над злом.
Отчего же в окончательном варианте повести концовка иная – никакой мистики, портрет просто крадут? Если следовать предложенной логике, эту перемену можно объяснить. Стирание портрета означало символическую смерть не только портрета, но и вложенного в него витального смысла – ведь в итоге речь шла о жизни тела. Значит, нужна была какая-то другая мотивировка исчезновения. Онтологический двойник Гоголя – художник Чартков – погибает, но зато портрет жив! Сработал тот же самый механизм, что и позднее в «Шинели»: кража как способ спасти положение, отказаться от окончательного ответа на вопрос тела о его грядущей судьбе. Раз портрет украден – значит, он не погиб совершенно, его жизнь где-то продолжается. Если это так, тогда проясняется и скрытый мотив действий Чарткова: обезумевший художник скупал картины лучших мастеров и затем, запершись в мастерской, разрывал их на куски. И если живописное изображение человека в определенном смысле «заменяет» самого человека (а портрет ростовщика был написан гениально), значит, в каждой хорошей картине присутствует жизнь не только духовная, но и непосредственно телесная (в свое время ростовщик просил художника сделать с него портрет именно для того, чтобы сохранить часть своей телесной жизни). Скорее всего, Чартков уничтожал не просто картины, а именно портреты. И хотя напрямую об этом не сказано, все же, учитывая название гоголевской повести и излюбленный жанр Чарткова, можно предположить, что это так. В тот миг, когда художник рвал на части чужие портреты, его месть была не столько эстетической, сколько онтологической: он убивал жившие в этих портретах жизни.
Каков же символический итог «Портрета»? Уравнение «тело – изображение» выстроено, но надолго его прочности не хватает. Гибнет Чартков и купленные им портреты. Онтологический вопрос остается открытым. Гоголю не удается добиться того, что однажды получилось в «Носе».
«Нос»
Эта повесть написана раньше «Шинели» и «Портрета», но я нарочно медлил с ее разбором с тем, чтобы сначала рассмотреть достаточно простые варианты переноса витального смысла с героя на какой-либо символический предмет.
В целом «Нос» выглядит так: на поверхности текста – фантасмагория деталей и событий, а в глубине – незаметная работа подсознания, поиск спасения тела от угрозы смерти. В известной работе о Гоголе С. Бочаров попытался прочесть «Нос» «по-крупному», соотнеся две величины, составляющие смысловой объем повести: нос – часть, лицо – целое; нос – вещественность, телесность; лицо – область человеческой духовности[7 - Бочаров С. Г. Загадка «Носа» и тайна лица // Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985.].
Наша позиция тоже позволяет прочесть «Нос» по-крупному, хотя и в несколько ином смысле. Здесь тоже фигурируют «часть» и «целое». Но только теперь нос станет частью не лица, а всего тела, причем тела в сугубо витальном смысле слова. Нос – (отделившийся нос) как иноформа тела. Судьба майора Ковалева (если следить за ней на интересующем нас уровне) зависит от действий носа, от того, сумеет он выжить или нет. Часть тела, таким образом, становится заместителем всего тела, и, следовательно, свой вопрос Гоголь задает уже не человеку, а носу. Это похоже на подсчет шансов на спасение, своего рода магическая терапия: если, отделившись от тела (т. е. в обычном смысле слова «умерев»), некоторая часть тела не умирает, а продолжает жить самостоятельной жизнью, то, может быть, на это способно и все тело?
Хорошо известна психоаналитическая трактовка «Носа»: нос как детородный орган. Однако далее плоско-эротического смысла это прочтение не идет. Фрейдистский ключ подошел лишь к верхнему ярусу подвала, но с дверью, которая вела в пределы более глубокие, он уже не справился. Когда мы смотрим на «Нос» как на эмблему онтологическую, а не эротическую, пространство смысла сразу же углубляется: из сюжета психоаналитического «Нос» превращается в сочинение метафизическое. Повесть открывается сценой завтрака: здесь уже самого начала, с находки странного предмета, все и закручивается. Как нужно было поступить Ивану Яковлевичу? Гоголь будто подталкивал его к «правильному» решению: не случайно предмет этот был спрятан внутри теплого утреннего хлеба. Цирюльник всячески пробовал избавиться от найденного носа, бросал его на землю, в воду – лишь бы подальше от себя. Дело же, возможно, состояло в том, чтобы спрятать нос внутри собственного тела – съесть его. Если бы это произошло, что сталось бы с майором Ковалевым: умер бы он тотчас же или остался жив? За кого больше переживал Гоголь: за цирюльника, за майора или же на первом месте опять-таки стоял посредник – наделенный витальным смыслом нос?
Очень важное место в повести – посещение носом церкви. «Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился». Гоголь позволил носу войти в храм – значит, для него это было действительно важно, ведь он мог отправить нос куда угодно – в музей, в театр, в департамент. Это похоже на попытку «освятить» произошедшее. Часть тела, убежавшая от тела, – в церкви. Это уже вопрос к христианству, который только в таком – символическом, зашифрованном виде и мог быть задан. О чем мог смиренно молиться нос, стоя в Божьем храме, какие просьбы возносил он к Небу?
В сущности, «Нос» – это единственный случай относительно благополучного разрешения онтологического вопроса у Гоголя. Тут удалось многое: отделение носа от лица, самостоятельная жизнь носа и даже его обратное возвращение на прежнее место. Эпитет смерти – «безносая». Лицо, лишившееся носа, – лицо смерти: в этом смысле майор как бы временно умирает. Но это, как мы понимаем, не столь важно, ведь тяжесть вопроса перенесена с человека на часть тела, тем более на часть столь «живую» и поддержанную очевидными эротическими ассоциациями. Сбежавший майорский нос – это плоть, убежавшая тления. Нос начинает новую самостоятельную жизнь, а смерть, если так можно выразиться, остается «с носом».
Внешне все получилось. И все же в целом история вышла слишком эфемерной, анекдотичной. Нос выжил и даже преуспел, но, именно осуществившись, он потерял нечто важное. Гоголь уже не знал, что с ним делать. Он пустил было в дело излюбленный свой спасительный ход, выручавший его впоследствии в «Ревизоре», «Свадьбе», «Шинели» и «Портрете» (бегство, отъезд, кража), но что-то его остановило. Нос не смог убежать: «его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно был написан на имя одного чиновника». Не получилось.
Когда нос вновь оказывается у своего хозяина, он уже совершенно лишен своего прежнего витального смысла – «нос был как деревянный и падал на стол с таким странным стуком, как будто бы пробка». Нельзя сказать, что нос мертв. Он и не жив, и не мертв. Скорее всего, нос находится в точке онтологического минимума, откуда возможно движение в противоположные стороны – назад на лицо или прочь от него. Назад – значит признать поражение, покориться всеобщей природной смертной участи.
Уйти в мир самостоятельной жизни – здесь тоже что-то не сработало, хотя внешне все складывалось просто замечательно; возможно, это-то и оказалось главным препятствием на пути беглеца. Все оказалось слишком легко и слишком несерьезно.
Гоголь говорит, что найденный нос «совершенно таков, как был». Когда он был частью майорской плоти или когда цирюльник нашел его в свежеиспеченном хлебе? Непонятно, но важно, что в обоих случаях речь идет именно о плоти. «Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем: «Плотное»[8 - Здесь и далее в цитатах курсив мой. – Л. К.] – сказал он сам про себя, – что бы это такое было?». Не «мягкое», «твердое» или «упругое», а именно «плотное», то есть «телесное». Цирюльник находит в хлебе часть тела: можно сказать, что онтологический вопрос задан, и действие началось. Ближе к финалу повести дан еще один намек на телесный характер всего происходящего. Цирюльнику не хватило зрения, чтобы сразу же опознать в носе нос. Не хватило зрения и полицейскому чиновнику, прекратившему похождения носа: «Я сам принял его сначала за господина. Но, к счастию, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит».
Выходит, квартальный имеет дело не с персональными людьми, а со смутными очертаниями их тел. Лицо для него – тоже часть тела, оно обобщенно-условно, и только очки помогают ему увидеть в телелице некоего конкретного человека. Любопытная деталь: кроме метонимической близости (очки сидят на носу), здесь угадываются и контуры символической схватки двух противоположных по своей сути начал. «Гоголь написал две повести: одну он посвятил носу, другую глазам»[9 - Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 19.]. Эти известные слова Иннокентия Анненского о противопоставлении эмблем «телесности и духовности» неожиданно вписываются и в интересующую нас ситуацию. Очки против носа; зрение против обоняния. Нельзя, правда, сказать, что духовное одерживает здесь такую же победу над плотью, как зрение над носом, ведь нос возвращается на свое прежнее место на «средину лица». Плоть прирастает к плоти.
Так, значит, верх за плотью? Да, но в этой победе есть горечь той самой онтологической недостаточности, с которой, собственно, все и началось. Возвращение носа на место есть возвращение к заведенному порядку жизни и умирания, который (как показывает анализ большинство его сочинений) не устраивал Гоголя, не давал ему покоя, побуждая к различным метафорическим вариантам решения того, что мы назвали «онтологическим вопросом».
Леонид Владимирович Карасев
Studia philologica
Книга посвящена изучению творчества Н. В. Гоголя. Особое внимание в ней уделяется проблеме авторских психотелесных интервенций, которые наряду с культурно-социальными факторами образуют эстетическое целое гоголевского текста. Иными словами, в книге делается попытка увидеть в организации гоголевского сюжета, в разного рода символических и метафорических подробностях целокупное присутствие автора. Авторская персональная онтология, трансформирующаяся в эстетику создаваемого текста – вот главный предмет данного исследования.
Книга адресована философам, литературоведам, искусствоведам, всем, кто интересуется вопросами психологии творчества и теоретической поэтики.
Леонид Владимирович Карасев
Гоголь в тексте
Леонид Карасев родился в Москве. Закончил МГУ им. М. В. Ломоносова. Доктор философских наук. Автор книг «Онтологический взгляд на русскую литературу» (1995), «Философия смеха» (1996), «Вещество литературы» (2001), «Движение по склону. О сочинениях А. Платонова» (2004), «Три заметки о Шекспире» (2005), «Флейта Гамлета. Очерк онтологической поэтики» (2009), а также ряда научных публикаций в российских и зарубежных изданиях на английском, французском, голландском и польском языках.
Книга «Гоголь в тексте» посвящена проблемам гоголевской поэтики и составлена из очерков, написанных автором на протяжении двух последних десятилетий.
В оформлении переплета использована картина И. Левитана «Туман» 1890-е годы
Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.
Предисловие
…Он нечто написал самим собой.
Б. Зайцев. Жизнь с Гоголем
Что значит «Гоголь в тексте»? Любой писатель сказывается в своих сочинениях, вопрос в том, в какой степени и каким образом проявляется его, собственно, человеческое, индивидуальное начало. Обыкновенно это начало связывают с «идейным» или «духовным», однако очевидно, что индивидуальность во многом обязана и той стороне авторского существа, которая связана с психологией, с телесностью, а они сказываются в большей или меньшей степени на самих «идеях». Иначе говоря (повторю то, что я писал в предисловиях к книгам «Вещество литературы» и «Флейта Гамлета»), моя задача вновь состоит в том, чтобы, помимо традиционных литературоведческих задач, попытаться уловить и описать модус перехода телесности авторской в «вещество» повествования – в идею, сюжет, символические подробности. Проследить то, как индивидуальность автора (а это может быть связано и с целым типом мирочувствия) незаметно для него входит в текст, придавая ему ту или иную смысловую и эстетическую конфигурацию. Интерес подобного рода – это интерес «онтологической поэтики»[1 - См.: Карасев Л. В. Онтологический взгляд на русскую литературу. М., 1995; Карасев Л. В. Вещество литературы. М., 2001; Карасев Л. В. Флейта Гамлета. Очерк онтологической поэтики. М., 2009.], ориентированной на выявление «нечитаемого в тексте», это направленность на выявление неочевидных смысловых структур, которые укоренены в глубинных, сущностных основаниях текста; структур, образующих своего рода «неофициальный» или «второй сюжет», оказывающий влияние на оформление и развитие сюжета очевидного. В некоторых случаях и в некоторой степени – подобные онтологические схемы могут быть связаны не только с духовно-культурными, но и с телесными аспектами (В. Н. Топоров называл это «психофизиологическим субстратом человека», который сказывается в создаваемом им тексте)[2 - Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 577.]. Как раз на этот тип авторского присутствия в тексте я в данном случае и ориентировался, стремясь показать, как телесность претворяется в слово, как соматика становится эстетикой.
«…Он нечто написал самим собой», сказанное Б. Зайцевым о Гоголе, как раз и указывает на особенность гоголевского случая; в этом «самим собой» звучит не только отдельно взятое «духовное», но вся личность со всем ее составом.
Само собой, не все в книге посвящено одной лишь телесности, есть в ней и вполне обычные для регулярного литературоведения соображения и сопоставления, однако того объема – смыслового и фактического, который связан с названной темой, вполне хватило, чтобы назвать книгу именно таким образом.
В целом же речь идет об онтологическом подходе к тексту, то есть о чем-то более широком, чем «поэтика текста» в ее привычном понимании. В данном случае речь идет о попытке воссоздания того, что можно назвать «персональной онтологией автора», не просто сказывающейся, а непосредственно выражающейся в его поэтике. Как писал по этому поводу В. Н. Топоров, поэтика «текста, творчества все настоятельнее нуждается в освещении со стороны поэтики творения, в которой – если говорить о предельной ситуации – проступает изоморфизм творца и творимого, поэта и текста и, следовательно, хотя бы отчасти снимается оппозиция «автор – текст»[3 - Там же. С. 576.]. Автор входит в текст целиком, поэтому и текст становится тем более органичным, живым, чем более сильно в нем целокупное авторское присутствие. Это относится и к строению сюжета, и к символическому оформлению описываемых событий, которые могут нести на себе тот или иной телесный отпечаток. Именно поэтому можно – и не только метафорически – говорить о «сюжете поглощения» у Гоголя, о «головной» теме у Достоевского или о «дыхании» прозы у Чехова.
Надо заниматься подобными изысканиями или нет – вопрос не праздный: возможно, кому-то такого рода поиски покажутся бессмысленными и ненужными, поскольку они не вполне укладываются в рамки привычных представлений о том, как нужно работать с текстом, что входит в компетенцию литературоведа, а что нет и т. д. Однако если взглянуть на вещи шире, то можно предположить, что и в подобном подходе есть свой смысл. Во всяком случае, когда потребность в осознании того, зачем человек вообще создает вымышленную текстовую реальность и как именно он это делает, станет более явной и востребованной, приведенные в книге наблюдения и соображения могут оказаться небесполезными. Другое дело, что это уже точно будет задачей не филологии, а многих, слившихся вместе, интеллектуальных стратегий, которые в тексте, через текст будут стремиться к тому, чтобы понять вещи, к тексту никакого отношения не имеющие: их предметом станет не литература, а, как сказал бы Гоголь, «душа и прочное дело жизни».
Теперь – несколько слов об устройстве книги. Она открывается статьей «Гоголь и онтологический вопрос» (1993), которая написана двадцать лет назад, в эпоху, когда многие вещи казались мне гораздо более понятными, чем сегодня. Тем не менее в этом сочинении, несмотря на его категоричность, есть, как мне кажется, некоторые наблюдения и соображения, которые в общем составе книги могут оказаться небесполезными. К тому же именно в этой работе обозначился тот круг проблем, которыми я стал заниматься впоследствии. В основе текста лежал доклад, прочитанный на научном семинаре в Институте высших гуманитарных исследований при РГГУ в 1992 году (теперь это ИВГИ им. Е. М. Мелетинского). Доклад был встречен неоднозначно и весьма бурно; собрали даже материалы дискуссии (Л. М. Баткин, Г. С. Кнабе, В. Н. Топоров и др.), чтобы издать их отдельной книжкой, но до издания, как водится, дело не дошло.
Статьи «Nervoso Fasciculoso (о «внутреннем» содержании гоголевской прозы)» (1999) и «Сюжет поглощения» (2009) занимают значительную часть книги и посвящены общей теме – роли телесного начала в устройстве гоголевского сюжета. В данном случае речь идет о возможных параллелях между «логикой» пищеварительного цикла и особенностями повествовательной схемы у Гоголя (со всеми сопутствующими развитию сюжета символическим деталями). «Сюжет поглощения» написан на десять лет позже, чем «Nervoso fasciculoso» и представляет собой более детальную проработку той же самой темы. Вместе с тем это вполне самостоятельное исследование, поскольку главной его темой является соотнесение основных фаз пищеварительного цикла с фазами гоголевского сюжета, а также рассмотрение возникающих при этом неожиданных эффектов. Само собой, рассматриваются здесь не подробности физиологии, а метафоры и сюжетные ходы, которые могли быть до некоторой степени связаны с особенностями авторской психосоматики. То же самое (но уже в плане психологии зрительных предпочтений и антипатий) можно сказать и об очерке «Чтоб видно было как днем», где идет речь о феномене «ночного света», присутствующего во многих гоголевских сочинениях.
Что касается остальных заметок, то какие-то из них связаны с темой телесности, какие-то нет. В последних трех очерках и вовсе речь идет о линиях литературной преемственности, о том, как сказался Гоголь в сочинениях Достоевского, Чехова и Платонова, или, если держаться названия книги, как присутствует Гоголь в текстах других авторов.
Работы, составившие книгу, писались на протяжении последних двадцати лет и представляют собой переработанные варианты статей, большая часть которых публиковалась в различных научных изданиях, прежде всего – в журналах «Вопросы философии», «Вопросы литературы», «Путь», «Человек» и «Studia Slavica». С благодарностью вспоминаю имена Е. М. Мелетинского и В. Н. Топорова, поддержавших меня в ту пору, когда я еще только начинал в означенном ключе заниматься Гоголем и искал опоры и оправданий для задуманного дела.
Гоголь и онтологический вопрос
То, что Толстой назвал «самым главным» для человека, Розанов связал непосредственно с Гоголем – «жажда бессмертия, земного бессмертия (здесь и далее в цитатах курсив мой. – Л. К.)»[4 - Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе. СПб., 1894. С. 11.]. Это и есть предельный вариант вопроса, который живое существо задает себе и миру; вопрос, который, собственно, и можно назвать по-настоящему «онтологическим». Здесь – центр, от которого во все стороны расходятся нити, приводящие в движение героев гоголевского мира или же, наоборот, заставляющие их застыть, оцепенеть, превратившись в «немые сцены» или «живые картины». Проявляя эти смыслы, мы определяем границы гоголевского мира – пространства, в котором автор осуществился для нас, вошел в нас, приняв участие в построении наших собственных персональных мифологий. Мир Гоголя, его постоянно звучащий вопрос о «самом главном» втягивает читателя внутрь себя, а наше аналитическое вопрошание все более и более перерастает в сочувственное понимание и сопереживание. Прочесть Гоголя с онтологическим настроем – значит попытаться увидеть, восстановить в его сочинениях ту логику сопротивления, протеста против смерти, которая и дает ряд картин и метафор внешне произвольных, но внутренне глубоко мотивированных и последовательных. Как писал В. Розанов, писатель «не хочет раскрыть какой-нибудь стороны своей души, и, однако, жажда в нем бессмертия индивидуальной, особой от других жизни, так велика, что он скрывает, запрятывает среди прочего и все-таки оставляет в своих произведениях отражения этой стороны: проходят века – и нужная черта вскрывается…»[5 - Там же. С. 11.]. Сводить все только лишь к понятой означенным образом «онтологии», разумеется, бессмысленно. Просто выбрав определенную позицию, я отвлекаюсь от всего остального, не забывая при этом и о других возможных прочтениях. Фактически же, речь как раз и идет попытке увидеть в гоголевских текстах это самое «скрытое» и «запрятанное», увидеть в них своего рода набор вариантов решения самой главной человеческой проблемы – преодоления смерти. Писатель, который «прожил жизнь под террором загробного воздаяния»[6 - Мочульский К. В. Духовный путь Гоголя. Париж, 1934. С. 88.], не мог не искать спасения – пусть иллюзорного – в сочиняемых им историях. Именно с этой точки зрения мы и рассмотрим его сочинения, начав с повести «Шинель».
«Шинель»
Когда Гоголь говорит, что в «Мертвых душах» хотел показать Россию с «одного боку», он указывает на вполне очевидную сторону дела: «мертвое» – метафора России отсталой, чиновничьей, застывшей. Россию нужно оживить, воскресить. В «Светлом Воскресении» в гоголевском троекратном уповании на то, что именно на русской земле, прежде всего, воспразднуется праздник Христова Воскресения, смерть отодвинута и посрамлена пафосом светлой мистики. В «Вие», напротив, победу одерживает смерть – здесь торжество мистики темной. Однако ни социальная, ни мистическая подкладка темы «неумирания» или «умирания» нас сейчас занимать не будут: у Гоголя предостаточно мертвецов – и символических, и настоящих. Но разве меньше их в английской или французской литературе?
О чем рассказывает «Шинель», если подойти к ней с онтологической меркой и присмотреться к ее эмблемам? Максимально упрощая ситуацию (хотя от этого она не становится более простой), можно сказать, что, помимо основного, видимого сюжета, речь здесь идет о проблеме человеческого сопротивления смерти. И это сопротивление, если говорить о мифопоэтической и литературной традиции, проявляется в создании своеобразных символических двойников, которые берут на себя «ответственность» за жизнь героя, отзываются на его поступки и, в свою очередь, влияют на его судьбу. Примеры «Шагреневой кожи» Бальзака или «Портрета Дориана Грея» Уайльда, где связь между героем и его символическим заместителем совершенно очевидна, объяснений не требуют. В гоголевском же случае можно говорить о целой развертке или серии такого рода вариантов.
Вот исходная ситуация «Шинели»: бедный чиновник замерзает в своей старой одежде, следующей зимы уже, возможно, не переживет. Все думы его – о новой теплой шинели, которая обещает ему новую жизнь и счастье. Так чаемая шинель становится полноправным персонажем текста, что и зафиксировано в самом названии повести. Можно сказать, что витальный смысл Акакия Акакиевича, смысл его тела (поскольку речь идет о физической стороне дела – холоде, простуде, смерти) передается одежде. Шинель становится иноформой тела. Это, собственно, вполне очевидно. Угадать перенос смысла с тела на одежду нетрудно: тут и такие же, как у тела, «спина», «плечи», «грудь», и даже руки-рукава. Да и сам Гоголь недвусмысленно сопоставляет новую шинель то с женой, то с новорожденным ребенком – портной приносит обнову, завернутую, запеленатую, как дитя, в чистый платок.
Важно то, какой вывод сделать из такого сопоставления-уподобления. Акакий Акакиевич буквально придавлен мыслями об одежде. Шинель становится почти что самостоятельным персонажем, а это значит (если следовать предложенной логике), что онтологический вопрос, то есть вопрос о жизни и смерти, может быть задан и одежде. Ведь теперь она – заместитель живого тела, она – носитель витального смысла; и поэтому именно от нее, от ее «поведения» зависит дальнейший ход действия. Башмачкин как будто устранен или отодвинут. На первом месте – диалог двух его «заместителей»: старого изношенного капота и новой шинели; и от исхода этого странного спора зависит, как выясняется, жизнь самого чиновника.
Здесь вспоминается Грушницкий из «Героя нашего времени», чья связь с одеждой столь же очевидна, как и у гоголевского Башмачкина. В небольшой новелле «Княжна Мери» уместились десятки упоминаний о шинели Грушницкого. «Толстая солдатская шинель» выступает как настоящий персонаж, как вещь, несущая в себе явную витальную символику. Шинель – второе «тело» Грушницкого. Пока она покрывает плечи и грудь Грушницкого, все идет хорошо. Проблема возникает тогда, когда эту роль у шинели пытается отобрать новый офицерский мундир, на который Грушницкий возлагает все свои надежды. Примечательна в этом отношении динамика «спора» старой шинели и нового мундира: сначала идут многократные упоминания о шинели, затем наравне с шинелью фигурирует мундир, после чего оба «героя» сближаются и сосуществуют в рамках одной или двух коротких фраз. Последнее упоминание ставит их со всей определенностью друг против друга: «Пеняй на свою шинель или на свои эполеты». После этого ни шинель, ни мундир вообще не упоминаются, хотя сам Грушницкий (уж, наверное, в мундире) появляется еще на двух десятках страниц. Мундир победил, шинель посрамлена, и вот тут выясняется, что Грушницкий с самого начала тянулся к тому и ставил на то, что было ему противопоказано, причем вопрос о «виновнике» его гибели может быть в равной степени отнесен и к старой шинели, и к мундиру. Кровью еще не произошедшей дуэли Грушницкий отмечен сразу после того, как он отказывается от своей старой шинели: едва Грушницкий успел надеть свой новый мундир, как «лицо его налилось кровью». А после производства в офицеры прозвучало и символическое приглашение на казнь от Печорина. Вслед за словами Грушницкого: «О, эполеты, эполеты! (…) я теперь совершенно счастлив» – следует вопрос Печорина: «Ты идешь с нами гулять к провалу?», после чего происходит разрыв Грушницкого с Мери и ссора с Печориным, завершающаяся дуэлью и смертью. Печорин сказал «бедная шинель», Грушницкий – «гадкая», и онтологическая правота оказалась на стороне Печорина, сохранив его от всех роковых случайностей, включая сюда и выстрел Грушницкого.
Я привел эту параллель для того, чтобы показать, что гоголевский случай не единственный в своем роде, что связь между персонажем и его одеждой вполне реальна и значима. Пока Башмачкин носил свой капот, его жизнь была под защитой этой ветхой, но наполненной витальным смыслом вещи. Новая же шинель с самого начала таила в себе потенциальную угрозу, возможно угрозу неизбежного обветшания и старения.
Гоголь не дает новой шинели состариться, сокращая ее жизнь до одного дня. Шинель исчезает, и вслед за ней умирает сам Башмачкин. Единственное, что смягчает драму (речь, разумеется, идет об онтологической подкладке происходящего), это способ исчезновения шинели. Она не испортилась, не сгорела, не обветшала, не порвалась. Она украдена совершенно новой, а это означает, что шинель на самом деле цела, так сказать, «жива и здорова», просто существует, продолжает жить в каком-то другом месте. Конечно, это не решение онтологического вопроса, а только иллюзия решения. Нечто вроде этого (еще до «Шинели») Гоголь попытался сделать в «Портрете».
«Портрет»
То, что было сказано по поводу «Шинели», важно не столько порядком следования символических элементов, сколько самим указанием на эти элементы, на стоящую за ними онтологическую проблему.
В «Портрете», как и в повести о чиновничьей шинели, главный посыл дан уже в названии. Место человека, человеческого тела занимает его живописное изображение – своего рода «плоская шинель». Изображение как иноформа тела (я все время говорю «тело» потому, что проблема именно в нем: умирает тело, а вместе с ним, за ним вынужденно умирает и сам человек). Итак, портрет становится носителем витального смысла; ему-то и переадресуется онтологический вопрос. Явный уровень здесь очевиден и потому малоинтересен: изображение ростовщика оживает по ночам, старик выбирается из портретной рамы и бродит по комна те – вполне банальный романтический сюжет. Гораздо более важен слой символический – слой подсознательной развертки. При таком подходе становится, хотя бы отчасти, объяснимой двойная концовка «Портрета». В редакции «Арабесок» дело обстояло так: пока пришедшие на аукцион люди слушали рассказчика, портрет таинственным образом истаял: «… черты странного изображения почти нечувствительно начали исчезать, как исчезает дыхание с чистой стали. Что-то мутное осталось на полотне. И когда подошли к нему ближе, то увидели какой-то незначащий пейзаж. Так что посетители, уже уходя, долго недоумевали, действительно ли они видели таинственный портрет, или это была мечта и представилась мгновенно глазам, утружденным долгим рассматриванием старинных картин». Исчезновение изображения ростовщика, таким образом, обозначало свершившийся приговор свыше, победу Блага над злом.
Отчего же в окончательном варианте повести концовка иная – никакой мистики, портрет просто крадут? Если следовать предложенной логике, эту перемену можно объяснить. Стирание портрета означало символическую смерть не только портрета, но и вложенного в него витального смысла – ведь в итоге речь шла о жизни тела. Значит, нужна была какая-то другая мотивировка исчезновения. Онтологический двойник Гоголя – художник Чартков – погибает, но зато портрет жив! Сработал тот же самый механизм, что и позднее в «Шинели»: кража как способ спасти положение, отказаться от окончательного ответа на вопрос тела о его грядущей судьбе. Раз портрет украден – значит, он не погиб совершенно, его жизнь где-то продолжается. Если это так, тогда проясняется и скрытый мотив действий Чарткова: обезумевший художник скупал картины лучших мастеров и затем, запершись в мастерской, разрывал их на куски. И если живописное изображение человека в определенном смысле «заменяет» самого человека (а портрет ростовщика был написан гениально), значит, в каждой хорошей картине присутствует жизнь не только духовная, но и непосредственно телесная (в свое время ростовщик просил художника сделать с него портрет именно для того, чтобы сохранить часть своей телесной жизни). Скорее всего, Чартков уничтожал не просто картины, а именно портреты. И хотя напрямую об этом не сказано, все же, учитывая название гоголевской повести и излюбленный жанр Чарткова, можно предположить, что это так. В тот миг, когда художник рвал на части чужие портреты, его месть была не столько эстетической, сколько онтологической: он убивал жившие в этих портретах жизни.
Каков же символический итог «Портрета»? Уравнение «тело – изображение» выстроено, но надолго его прочности не хватает. Гибнет Чартков и купленные им портреты. Онтологический вопрос остается открытым. Гоголю не удается добиться того, что однажды получилось в «Носе».
«Нос»
Эта повесть написана раньше «Шинели» и «Портрета», но я нарочно медлил с ее разбором с тем, чтобы сначала рассмотреть достаточно простые варианты переноса витального смысла с героя на какой-либо символический предмет.
В целом «Нос» выглядит так: на поверхности текста – фантасмагория деталей и событий, а в глубине – незаметная работа подсознания, поиск спасения тела от угрозы смерти. В известной работе о Гоголе С. Бочаров попытался прочесть «Нос» «по-крупному», соотнеся две величины, составляющие смысловой объем повести: нос – часть, лицо – целое; нос – вещественность, телесность; лицо – область человеческой духовности[7 - Бочаров С. Г. Загадка «Носа» и тайна лица // Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985.].
Наша позиция тоже позволяет прочесть «Нос» по-крупному, хотя и в несколько ином смысле. Здесь тоже фигурируют «часть» и «целое». Но только теперь нос станет частью не лица, а всего тела, причем тела в сугубо витальном смысле слова. Нос – (отделившийся нос) как иноформа тела. Судьба майора Ковалева (если следить за ней на интересующем нас уровне) зависит от действий носа, от того, сумеет он выжить или нет. Часть тела, таким образом, становится заместителем всего тела, и, следовательно, свой вопрос Гоголь задает уже не человеку, а носу. Это похоже на подсчет шансов на спасение, своего рода магическая терапия: если, отделившись от тела (т. е. в обычном смысле слова «умерев»), некоторая часть тела не умирает, а продолжает жить самостоятельной жизнью, то, может быть, на это способно и все тело?
Хорошо известна психоаналитическая трактовка «Носа»: нос как детородный орган. Однако далее плоско-эротического смысла это прочтение не идет. Фрейдистский ключ подошел лишь к верхнему ярусу подвала, но с дверью, которая вела в пределы более глубокие, он уже не справился. Когда мы смотрим на «Нос» как на эмблему онтологическую, а не эротическую, пространство смысла сразу же углубляется: из сюжета психоаналитического «Нос» превращается в сочинение метафизическое. Повесть открывается сценой завтрака: здесь уже самого начала, с находки странного предмета, все и закручивается. Как нужно было поступить Ивану Яковлевичу? Гоголь будто подталкивал его к «правильному» решению: не случайно предмет этот был спрятан внутри теплого утреннего хлеба. Цирюльник всячески пробовал избавиться от найденного носа, бросал его на землю, в воду – лишь бы подальше от себя. Дело же, возможно, состояло в том, чтобы спрятать нос внутри собственного тела – съесть его. Если бы это произошло, что сталось бы с майором Ковалевым: умер бы он тотчас же или остался жив? За кого больше переживал Гоголь: за цирюльника, за майора или же на первом месте опять-таки стоял посредник – наделенный витальным смыслом нос?
Очень важное место в повести – посещение носом церкви. «Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился». Гоголь позволил носу войти в храм – значит, для него это было действительно важно, ведь он мог отправить нос куда угодно – в музей, в театр, в департамент. Это похоже на попытку «освятить» произошедшее. Часть тела, убежавшая от тела, – в церкви. Это уже вопрос к христианству, который только в таком – символическом, зашифрованном виде и мог быть задан. О чем мог смиренно молиться нос, стоя в Божьем храме, какие просьбы возносил он к Небу?
В сущности, «Нос» – это единственный случай относительно благополучного разрешения онтологического вопроса у Гоголя. Тут удалось многое: отделение носа от лица, самостоятельная жизнь носа и даже его обратное возвращение на прежнее место. Эпитет смерти – «безносая». Лицо, лишившееся носа, – лицо смерти: в этом смысле майор как бы временно умирает. Но это, как мы понимаем, не столь важно, ведь тяжесть вопроса перенесена с человека на часть тела, тем более на часть столь «живую» и поддержанную очевидными эротическими ассоциациями. Сбежавший майорский нос – это плоть, убежавшая тления. Нос начинает новую самостоятельную жизнь, а смерть, если так можно выразиться, остается «с носом».
Внешне все получилось. И все же в целом история вышла слишком эфемерной, анекдотичной. Нос выжил и даже преуспел, но, именно осуществившись, он потерял нечто важное. Гоголь уже не знал, что с ним делать. Он пустил было в дело излюбленный свой спасительный ход, выручавший его впоследствии в «Ревизоре», «Свадьбе», «Шинели» и «Портрете» (бегство, отъезд, кража), но что-то его остановило. Нос не смог убежать: «его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно был написан на имя одного чиновника». Не получилось.
Когда нос вновь оказывается у своего хозяина, он уже совершенно лишен своего прежнего витального смысла – «нос был как деревянный и падал на стол с таким странным стуком, как будто бы пробка». Нельзя сказать, что нос мертв. Он и не жив, и не мертв. Скорее всего, нос находится в точке онтологического минимума, откуда возможно движение в противоположные стороны – назад на лицо или прочь от него. Назад – значит признать поражение, покориться всеобщей природной смертной участи.
Уйти в мир самостоятельной жизни – здесь тоже что-то не сработало, хотя внешне все складывалось просто замечательно; возможно, это-то и оказалось главным препятствием на пути беглеца. Все оказалось слишком легко и слишком несерьезно.
Гоголь говорит, что найденный нос «совершенно таков, как был». Когда он был частью майорской плоти или когда цирюльник нашел его в свежеиспеченном хлебе? Непонятно, но важно, что в обоих случаях речь идет именно о плоти. «Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем: «Плотное»[8 - Здесь и далее в цитатах курсив мой. – Л. К.] – сказал он сам про себя, – что бы это такое было?». Не «мягкое», «твердое» или «упругое», а именно «плотное», то есть «телесное». Цирюльник находит в хлебе часть тела: можно сказать, что онтологический вопрос задан, и действие началось. Ближе к финалу повести дан еще один намек на телесный характер всего происходящего. Цирюльнику не хватило зрения, чтобы сразу же опознать в носе нос. Не хватило зрения и полицейскому чиновнику, прекратившему похождения носа: «Я сам принял его сначала за господина. Но, к счастию, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит».
Выходит, квартальный имеет дело не с персональными людьми, а со смутными очертаниями их тел. Лицо для него – тоже часть тела, оно обобщенно-условно, и только очки помогают ему увидеть в телелице некоего конкретного человека. Любопытная деталь: кроме метонимической близости (очки сидят на носу), здесь угадываются и контуры символической схватки двух противоположных по своей сути начал. «Гоголь написал две повести: одну он посвятил носу, другую глазам»[9 - Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 19.]. Эти известные слова Иннокентия Анненского о противопоставлении эмблем «телесности и духовности» неожиданно вписываются и в интересующую нас ситуацию. Очки против носа; зрение против обоняния. Нельзя, правда, сказать, что духовное одерживает здесь такую же победу над плотью, как зрение над носом, ведь нос возвращается на свое прежнее место на «средину лица». Плоть прирастает к плоти.
Так, значит, верх за плотью? Да, но в этой победе есть горечь той самой онтологической недостаточности, с которой, собственно, все и началось. Возвращение носа на место есть возвращение к заведенному порядку жизни и умирания, который (как показывает анализ большинство его сочинений) не устраивал Гоголя, не давал ему покоя, побуждая к различным метафорическим вариантам решения того, что мы назвали «онтологическим вопросом».