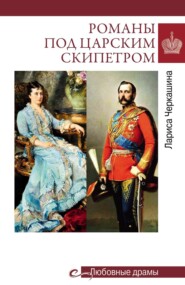По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Наталия Гончарова. Счастливый брак
Жанр
Серия
Год написания книги
2009
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как месяц любит ночи мглу?
А по краю страницы вновь, словно пароль, начертано «имя» – Карс.
Некоторые портреты Натали в «Ушаковском альбоме» лишь слегка «зашифрованы». Вот рядом с профильным изображением юной особы в замысловатом головном уборе ровным, явно женским почерком сделана надпись:
«Любовь слепа средь света
И кроме своего —
Бесценного предмета
Не видит ничего».
А чуть ниже проставлены инициалы: «Н.Г.»
Стихи эти, если их можно таковыми назвать, очень уж дамские. И авторство их угадывается: Екатерина либо Елизавета Ушаковы. Видно, той же девичьей рукой путем нехитрой операции подправлен и «слишком» правильный профиль «Н.Г.»: носик ее еще раз прорисован: слегка «вздернут» и заострен. Над рисунком проставлена цифра – 130. Вероятно, такая нумерация являлась продолжением некоего флирта между сестрами и поэтом, иллюстрацией к его знаменитому «донжуанскому списку», точнее к двум спискам, представленным на тех же альбомных страницах. Пушкин будто примеряет на себя образ Дон-Жуана, знаменитого искусителя женских сердец, а счет его победам (порой просто астрономический!) «ведут» сестры. Самый большой номер – с множеством нулей – «выставлен» над портретом Натали!
Отголоски этой игры эхом отозвались и в одном из посланий поэта.
Из письма Пушкина княгине В.Ф. Вяземской (конец апреля 1830 г.):
«Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена».
«Полон верой и любовью»
В «портретной галерее» «кисти» сестер Ушаковых есть еще одно изображение Наталии Гончаровой. И, стоит заметить, не лишенное художественных достоинств.
Соперница представлена в необычном ракурсе: со спины, в изящной шляпке, украшенной перьями, и с веером в руках. На ней – нарядное кружевное платье, с тщательно выписанными ажурными воланами, идущими по спинке и пышным рукавам; на шее – жемчужная нить. В верхнем левом углу надпись: «О горе мне! Карс! Карс! Прощай, бел свет, прощай, умру».
Разгадка рисунка – в раскрытом веере, в который вписаны слова католической молитвы: «Stabat Mater dolorosa».
Именно это старинное песнопение, повествующее о страданиях Девы Марии, исполненное в марте 1829-го на домашнем музыкальном вечере сестрами Ушаковыми, так восхитило некогда стихотворца и журналиста князя Шаликова: «Две прекрасные хозяйские дочери пели первую часть «Stabat Mater» знаменитого Перголези, уже 100 лет существующей – во всей славе и свежести, и пели, как ангелы…»
Конечно же, этот ангельский дуэт (сопрано – у Екатерины, контральто – у Елизаветы) мог слышать не раз и Пушкин. Во всяком случае, история создания стихотворения «Жил на свете рыцарь бедный…» («Легенда», как первоначально именовал его поэт) связана именно с этим латинским гимном:
…Проводил он целы ночи
Перед ликом пресвятой,
Устремив к ней скорбны очи,
Тихо слезы лья рекой.
Полон верой и любовью,
Верен набожной мечте,
Ave, Mater Dei кровью
Написал он на щите.
«Ave, Mater Dei» – «Радуйся, Матерь Божия».
До роковой для Екатерины Николаевны развязки – свадьбы поэта – оставалось чуть менее двух лет. Но на «щите» Пушкина уже пылали строки поэтической молитвы к Прекрасной Даме, к его Мадонне…
«С тоской невольной»
Поистине, все смешалось в те дни в доме Ушаковых! Такие частые посещения семейства, где были две дочери на выданье, обязывали считать поэта женихом. Но Ушаковы-родители всерьез Пушкина, как будущего мужа Катеньки, похоже, не воспринимали. А сам поэт вовсе не желал прерывать приятельских отношений с милыми сестрицами. И в одно из своих посещений, в сентябре 1829-го, он подарил Екатерине только что вышедшую книгу его стихотворений с дарственной надписью: «Всякое даяние благо – всякий дар совершенен свыше есть». Надписал на обложке и еще одну, довольно странную строчку: «Nec femina, nec puer». (Ни женщина, ни мальчик – лат.).
Считается, Пушкин намекает якобы на непосредственный, по-мальчишески резвый характер Катеньки. Но не возвращает ли это необычное посвящение вновь к сердечным сомнениям поэта? И не перекликается ли оно со стихотворением, написанным еще в пору его прежней влюбленности и обращенным к Екатерине Ушаковой? Вернее, с одной лишь строкой: «Но ты, мой злой иль добрый гений…»
Пушкин, проштудировавший еще в лицейские годы мифы Греции и Рима, не мог не знать о древнем культе гениев – божественных прародителей рода. Два гения – злой и добрый – предполагалось у каждого человека, от коих и зависели его поступки, характер да и будущая судьба. Собственных гениев имели не только граждане, но и города. Гению Рима на Капитолийском холме был посвящен щит с надписью: «Или мужу, или жене». Простым смертным не дано было знать, кто же гений, покровительствующий городу – мужчина или женщина? Равно как и его имя. Это знание даровалось лишь избранным и сохранялось ими в величайшей тайне, дабы враги не смогли переманить гения-покровителя к себе.
«Ни женщина, ни мальчик» – надпись, сделанная поэтом также на латыни. Не рождает ли она далекие, но вполне возможные ассоциации: тогда, в сентябре, Пушкин вовсе не желал, чтобы Катеньку Ушакову, без сомнения, его доброго гения, «переманил» бы некий условный враг? Ведь такую опасность, в лице князя Долгорукова, ему удалось отвести минувшей весной.
…Не прошло и месяца, как Пушкин вновь уехал из Москвы: вначале в Тверскую губернию, потом в Петербург. Правда, время от времени он посылает Екатерине дружески шутливые поклоны.
Из письма Пушкина С.Д. Киселеву, жениху Елизаветы Ушаковой (15 ноября 1829 г.):
«В Петербурге тоска, тоска… Кланяйся неотъемлемым нашим Ушаковым. Скоро ли, боже мой, приеду из Петербурга в H?tel d’Angleterre (название московской гостиницы «Англия». – Авт.) мимо Карса! по крайней мере мочи нет, хочется».
Однажды, в конце года, написала ему и Катенька. Но вот о чем – сказать уж не сможет никто, письмо ее не сохранилось…
Пушкин откликнулся на ее послание (к слову сказать, анонимное!) своим последним поэтическим приветом:
Я вас узнал, о мой оракул!
Не по узорной пестроте
Сих неподписанных каракул,
Но по веселой остроте,
Но по приветствиям лукавым,
Но по насмешливости злой
И по упрекам… столь неправым,
И этой прелести живой.
С тоской невольной, с восхищеньем
Я перечитываю вас…
Более того, «Ответ» был напечатан вскоре же – в январском номере «Литературной газеты» за подписью «Крс». Принято считать, что это – сокращенная анаграмма прозвища поэта «Сверчок». А не логичней ли прочесть его как «Карс»? Ведь подпись, по сути, и заключает в себе ответ – Екатерине ясно давалось понять, кому отныне принадлежит сердце поэта. И если этот посыл верен, то каким же тогда иным, по-рыцарски благородным, видится пушкинское послание!
Из писем Екатерины брату И.Н. Ушакову (апрель 1830 г.):
«Алексей Давыдов был с нами в собрании и нашел, что Карс должна быть глупенька, он по крайней мере стоял за ее стулом в мазурке более часу и подслушивал ее разговор с кавалером, но только и слышал из ее прелестных уст: да-с и нет-с»;
«Карс все так же красива, как и была, и очень с нами предупредительна, но глазки ее в большом действии, ее А.А. Ушаков прозвал Царство Небесное, но боюсь, чтобы не ошибся, для меня это сущее чистилище…»
Предчувствие ее не обмануло, боялась она не зря… Как любила Екатерина заглядывать в будущее, как не терпелось ей приоткрыть новую страницу тайной книги бытия! Но будущность виделась ей не в романтическом флере, ведь рядом, даже и в горьких, полных иронии, мечтаниях, уже не было Пушкина…
Из письма Екатерины брату И.Н. Ушакову (23 мая 1830 г.):
«Скажу про себя, что я глупею, старею и дурнею; что еще годика четыре, и я сделаюсь спелое дополнение старым московским невестам, т. е. надеваю круглый чепчик, замасленный шлафор, разодранные башмаки и которые бы немного сваливались с пяток, нюхаю табак, браню и ругаю всех и каждого, хожу по богомольям, не пропускаю ни обедню ни вечерню, от монахов и попов в восхищении, играю в вист или в бостон по четверти, разговору более не имею, как о крестинах, свадьбах или похоронах, бью каждый день по щекам девок, в праздничные дни румянюсь и сурмлюсь, по вечерам читаю Четьи-Минеи или Жития святых отцов, делаю 34 манера гран-пасьянсу, переношу вести из дома в дом…»
Своеобразный кодекс старой девы, изложенный двадцатилетней барышней. Какая меткость и острота суждений! И какая самоирония – качество, столь редкое для женщин! И что за бойкое перо! Но как боялась Катенька подобной судьбы!
«На мой взгляд, нет ничего более отвратительного, чем старая дева – этот бич человеческого рода…» И сколько горечи в ее словах!
Размышляла о том же и соперница Катеньки. Правда, двадцать лет спустя…
Из письма Наталии Николаевны мужу П.П. Ланскому (13 июля 1849 г.):
А по краю страницы вновь, словно пароль, начертано «имя» – Карс.
Некоторые портреты Натали в «Ушаковском альбоме» лишь слегка «зашифрованы». Вот рядом с профильным изображением юной особы в замысловатом головном уборе ровным, явно женским почерком сделана надпись:
«Любовь слепа средь света
И кроме своего —
Бесценного предмета
Не видит ничего».
А чуть ниже проставлены инициалы: «Н.Г.»
Стихи эти, если их можно таковыми назвать, очень уж дамские. И авторство их угадывается: Екатерина либо Елизавета Ушаковы. Видно, той же девичьей рукой путем нехитрой операции подправлен и «слишком» правильный профиль «Н.Г.»: носик ее еще раз прорисован: слегка «вздернут» и заострен. Над рисунком проставлена цифра – 130. Вероятно, такая нумерация являлась продолжением некоего флирта между сестрами и поэтом, иллюстрацией к его знаменитому «донжуанскому списку», точнее к двум спискам, представленным на тех же альбомных страницах. Пушкин будто примеряет на себя образ Дон-Жуана, знаменитого искусителя женских сердец, а счет его победам (порой просто астрономический!) «ведут» сестры. Самый большой номер – с множеством нулей – «выставлен» над портретом Натали!
Отголоски этой игры эхом отозвались и в одном из посланий поэта.
Из письма Пушкина княгине В.Ф. Вяземской (конец апреля 1830 г.):
«Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена».
«Полон верой и любовью»
В «портретной галерее» «кисти» сестер Ушаковых есть еще одно изображение Наталии Гончаровой. И, стоит заметить, не лишенное художественных достоинств.
Соперница представлена в необычном ракурсе: со спины, в изящной шляпке, украшенной перьями, и с веером в руках. На ней – нарядное кружевное платье, с тщательно выписанными ажурными воланами, идущими по спинке и пышным рукавам; на шее – жемчужная нить. В верхнем левом углу надпись: «О горе мне! Карс! Карс! Прощай, бел свет, прощай, умру».
Разгадка рисунка – в раскрытом веере, в который вписаны слова католической молитвы: «Stabat Mater dolorosa».
Именно это старинное песнопение, повествующее о страданиях Девы Марии, исполненное в марте 1829-го на домашнем музыкальном вечере сестрами Ушаковыми, так восхитило некогда стихотворца и журналиста князя Шаликова: «Две прекрасные хозяйские дочери пели первую часть «Stabat Mater» знаменитого Перголези, уже 100 лет существующей – во всей славе и свежести, и пели, как ангелы…»
Конечно же, этот ангельский дуэт (сопрано – у Екатерины, контральто – у Елизаветы) мог слышать не раз и Пушкин. Во всяком случае, история создания стихотворения «Жил на свете рыцарь бедный…» («Легенда», как первоначально именовал его поэт) связана именно с этим латинским гимном:
…Проводил он целы ночи
Перед ликом пресвятой,
Устремив к ней скорбны очи,
Тихо слезы лья рекой.
Полон верой и любовью,
Верен набожной мечте,
Ave, Mater Dei кровью
Написал он на щите.
«Ave, Mater Dei» – «Радуйся, Матерь Божия».
До роковой для Екатерины Николаевны развязки – свадьбы поэта – оставалось чуть менее двух лет. Но на «щите» Пушкина уже пылали строки поэтической молитвы к Прекрасной Даме, к его Мадонне…
«С тоской невольной»
Поистине, все смешалось в те дни в доме Ушаковых! Такие частые посещения семейства, где были две дочери на выданье, обязывали считать поэта женихом. Но Ушаковы-родители всерьез Пушкина, как будущего мужа Катеньки, похоже, не воспринимали. А сам поэт вовсе не желал прерывать приятельских отношений с милыми сестрицами. И в одно из своих посещений, в сентябре 1829-го, он подарил Екатерине только что вышедшую книгу его стихотворений с дарственной надписью: «Всякое даяние благо – всякий дар совершенен свыше есть». Надписал на обложке и еще одну, довольно странную строчку: «Nec femina, nec puer». (Ни женщина, ни мальчик – лат.).
Считается, Пушкин намекает якобы на непосредственный, по-мальчишески резвый характер Катеньки. Но не возвращает ли это необычное посвящение вновь к сердечным сомнениям поэта? И не перекликается ли оно со стихотворением, написанным еще в пору его прежней влюбленности и обращенным к Екатерине Ушаковой? Вернее, с одной лишь строкой: «Но ты, мой злой иль добрый гений…»
Пушкин, проштудировавший еще в лицейские годы мифы Греции и Рима, не мог не знать о древнем культе гениев – божественных прародителей рода. Два гения – злой и добрый – предполагалось у каждого человека, от коих и зависели его поступки, характер да и будущая судьба. Собственных гениев имели не только граждане, но и города. Гению Рима на Капитолийском холме был посвящен щит с надписью: «Или мужу, или жене». Простым смертным не дано было знать, кто же гений, покровительствующий городу – мужчина или женщина? Равно как и его имя. Это знание даровалось лишь избранным и сохранялось ими в величайшей тайне, дабы враги не смогли переманить гения-покровителя к себе.
«Ни женщина, ни мальчик» – надпись, сделанная поэтом также на латыни. Не рождает ли она далекие, но вполне возможные ассоциации: тогда, в сентябре, Пушкин вовсе не желал, чтобы Катеньку Ушакову, без сомнения, его доброго гения, «переманил» бы некий условный враг? Ведь такую опасность, в лице князя Долгорукова, ему удалось отвести минувшей весной.
…Не прошло и месяца, как Пушкин вновь уехал из Москвы: вначале в Тверскую губернию, потом в Петербург. Правда, время от времени он посылает Екатерине дружески шутливые поклоны.
Из письма Пушкина С.Д. Киселеву, жениху Елизаветы Ушаковой (15 ноября 1829 г.):
«В Петербурге тоска, тоска… Кланяйся неотъемлемым нашим Ушаковым. Скоро ли, боже мой, приеду из Петербурга в H?tel d’Angleterre (название московской гостиницы «Англия». – Авт.) мимо Карса! по крайней мере мочи нет, хочется».
Однажды, в конце года, написала ему и Катенька. Но вот о чем – сказать уж не сможет никто, письмо ее не сохранилось…
Пушкин откликнулся на ее послание (к слову сказать, анонимное!) своим последним поэтическим приветом:
Я вас узнал, о мой оракул!
Не по узорной пестроте
Сих неподписанных каракул,
Но по веселой остроте,
Но по приветствиям лукавым,
Но по насмешливости злой
И по упрекам… столь неправым,
И этой прелести живой.
С тоской невольной, с восхищеньем
Я перечитываю вас…
Более того, «Ответ» был напечатан вскоре же – в январском номере «Литературной газеты» за подписью «Крс». Принято считать, что это – сокращенная анаграмма прозвища поэта «Сверчок». А не логичней ли прочесть его как «Карс»? Ведь подпись, по сути, и заключает в себе ответ – Екатерине ясно давалось понять, кому отныне принадлежит сердце поэта. И если этот посыл верен, то каким же тогда иным, по-рыцарски благородным, видится пушкинское послание!
Из писем Екатерины брату И.Н. Ушакову (апрель 1830 г.):
«Алексей Давыдов был с нами в собрании и нашел, что Карс должна быть глупенька, он по крайней мере стоял за ее стулом в мазурке более часу и подслушивал ее разговор с кавалером, но только и слышал из ее прелестных уст: да-с и нет-с»;
«Карс все так же красива, как и была, и очень с нами предупредительна, но глазки ее в большом действии, ее А.А. Ушаков прозвал Царство Небесное, но боюсь, чтобы не ошибся, для меня это сущее чистилище…»
Предчувствие ее не обмануло, боялась она не зря… Как любила Екатерина заглядывать в будущее, как не терпелось ей приоткрыть новую страницу тайной книги бытия! Но будущность виделась ей не в романтическом флере, ведь рядом, даже и в горьких, полных иронии, мечтаниях, уже не было Пушкина…
Из письма Екатерины брату И.Н. Ушакову (23 мая 1830 г.):
«Скажу про себя, что я глупею, старею и дурнею; что еще годика четыре, и я сделаюсь спелое дополнение старым московским невестам, т. е. надеваю круглый чепчик, замасленный шлафор, разодранные башмаки и которые бы немного сваливались с пяток, нюхаю табак, браню и ругаю всех и каждого, хожу по богомольям, не пропускаю ни обедню ни вечерню, от монахов и попов в восхищении, играю в вист или в бостон по четверти, разговору более не имею, как о крестинах, свадьбах или похоронах, бью каждый день по щекам девок, в праздничные дни румянюсь и сурмлюсь, по вечерам читаю Четьи-Минеи или Жития святых отцов, делаю 34 манера гран-пасьянсу, переношу вести из дома в дом…»
Своеобразный кодекс старой девы, изложенный двадцатилетней барышней. Какая меткость и острота суждений! И какая самоирония – качество, столь редкое для женщин! И что за бойкое перо! Но как боялась Катенька подобной судьбы!
«На мой взгляд, нет ничего более отвратительного, чем старая дева – этот бич человеческого рода…» И сколько горечи в ее словах!
Размышляла о том же и соперница Катеньки. Правда, двадцать лет спустя…
Из письма Наталии Николаевны мужу П.П. Ланскому (13 июля 1849 г.):