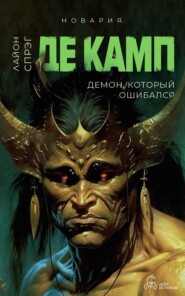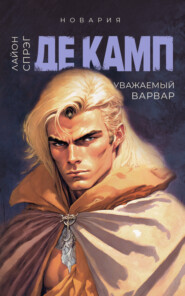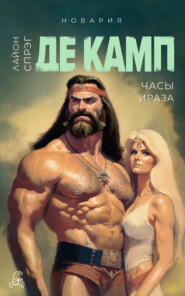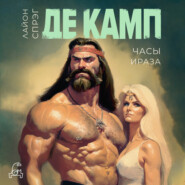По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лавкрафт: Живой Ктулху
Автор
Жанр
Год написания книги
1975
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Еще одним другом стал Джеймс Фердинанд Мортон (1870–1941). Мортон, уроженец Литлтауна, штат Массачусетс, был, как и Лавкрафт, выходцем из старой новоанглийской семьи, он приходился внуком преподобному Сэмюэлю Фрэнсису Смиту, автору слов песни «Америка». Мортон был низким, плотным мужчиной с густыми седеющими рыжими волосами и усами. Его умеренная экстравагантность заключалась в ношении обычной фетровой шляпы с распрямленной стоячей тульей, как у котелка. Выпускник Гарварда, Мортон работал газетным репортером, а в последствии стал профессиональным лектором. Его нанял для лекций Нью-йоркский отдел народного образования, помимо чего он профессионально занимался генеалогией.
Как и Лавкрафт, Мортон обладал поразительной эрудицией, был воздержан в привычках и имел множество увлечений. В число этих хобби входили любительская печать, генеалогия, минералогия, решение головоломок, права негров и движение за «единый налог» Генри Джорджа. Из-за последних двух ультраконсервативный Лавкрафт описывал Мортона как «расходующего изумительный ум на радикальную чушь»[180 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 18 мая 1922 г.].
Наконец, был Сэм Лавмэн, молодой продавец книг из Кливленда, который увлекался любительской прессой примерно с 1907 года, но забросил ее. Немногим старше Лавкрафта, Лавмэн обладал приятной внешностью, несмотря на большие уши и раннее облысение. Бухгалтер по профессии, во время Первой мировой войны он служил в американской армии, в ходе которой его жена умерла при родах. У него был немалый поэтический талант, со склонностью к классическим греческим темам. Его красочные мелодичные стихотворения, которыми Лавкрафт восторгался с 1915 года, тяготели к чувственности и сентиментальности и были полны бабочек, цветов и слез. Поэма «Вакханалия» (посвященная крайне далекому от склонности к разгулу Лавкрафту) начинается:
Вино до краев бутыль наполняет,
Для гостя особого оно;
Лорд юный жилетку ослабляет,
Его фиалок венок увивает —
И пирушка для него, Пирушка для него.
Лавкрафт считал Лавмэна близким по духу с первого же знакомства. Последний выбыл из ОАЛП, и Лавкрафт писал Кляйнеру: «С моей помощью Лавмэн восстановился в Объединенной ассоциации. Еврей он или нет, я очень горд, что являюсь его гарантом… Его поэтическая одаренность – высшего порядка… Его разнообразие идей, средства выражения, знание античности и старины ставят его в первые ряды». В другом месте он заявил, что Лавмэн – «выдающийся язычник – и еврей по происхождению»[181 - Samuel Loveman «The Hermaphrodite and Other Poems», Caldwell, Idaho: Caxton Printers, 1936, p. 74; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 8 ноября 1917 г.; Ф. Б. Лонгу, 8 февраля 1922 г.].
Эта дружба была одной из самых противоречивых вещей в парадоксальной жизни Лавкрафта. Когда он встретился с Лавмэном в 1922 году в Нью-Йорке, он писал: «Лавмэн крайне восхитителен – изысканный, учтивый, чуткий и эстетичный, однако он вовсю старается скрыть свои артистические наклонности под скромной внешностью обычной общительности… Его скромность потрясающе исключительна… Лавмэн выражает языком музыку, поэзию, цвет…»[182 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Т. Реншоу, 3 марта 1922 г.; М. В. Мо, 18 мая 1922 г.]
Из всех своих друзей самую теплую привязанность Лавкрафт испытывал к Лавмэну. И в то же время, как это открылось в полемике с Исааксоном, он исповедовал юдофобию, общераспространенную среди «старых американцев» его поколения, таких, как, например, великий Генри Адаме. На третьем и четвертом десятке у Лавкрафта (вопреки усилиям Августа Дерлета обелить его) эта фобия выросла до настоящей ненависти. Он писал письма, щедро восхваляя ум, благородство и другие достоинства Лавмэна и в то же время понося евреев вообще. Одно письмо переворачивает обычные доводы за национальную терпимость: «Нет ничего глупее, чем ограниченная банальность идеалистически настроенного социального работника, говорящего нам, что мы должны извинять омерзительную психологию евреев, ибо мы, подвергая их гонениям, в некоторой степени ответственны за нее. Это отвратительный вздор… Мы презираем евреев не только из-за тех клейм, которые наложили на них наши преследования, но из-за их недостаточной стойкости… на своем пути, которая всецело и позволила нам их преследовать! Может ли кто-нибудь хоть на миг представить себе, что нордическую расу могли бы бить ее соседи на протяжении двух тысячелетий? О боже! Да они бы погибли, сражаясь до последнего человека, или бы восстали и стерли своих предполагаемых преследователей с лица земли!! Мы инстинктивно ненавидим евреев именно потому, что они сами позволили пинать их. Заметьте, насколько больше наше уважение к их собратьям-семитам арабам, которые имеют благородные сердца – проявляющиеся в бесстрашии… которое мы в душе понимаем и одобряем».
Доживи Лавкрафт до арабо-израильских войн последней четверти двадцатого века, он, возможно, нашел бы эти события поучительными. Он состряпал поразительное объяснение ненависти к евреям: они ответственны за христианство-иудаистскую ересь, – а христианство уничтожило античное язычество, которым он восхищался.
Сегодня из-за таких взглядов человек оказался бы среди крайне правых безумцев, хотя недавно и «новые левые» подняли схожий шум о «сионистских империалистах». В десятых-двадцатых годах двадцатого столетия, однако, такие убеждения были весьма распространены среди американской знати. Тогда у них не было такого зловещего подтекста, как сегодня, после Освенцима и Дахау.
Воображая себя объективным, холодным аналитическим мыслителем, Лавкрафт так никогда и не научился отличать объективный факт от субъективной реакции. Если некто говорит о ком-то, что тот «добрый, справедливый, превосходный, благородный» или «плохой, бесчестный, скверный, подлый», он не говорит о нем ничего существенного. Он лишь выказывает свое собственное отношение к этой личности. Когда Лавкрафт назвал еврейскую культуру (о которой он не знал практически ничего) «омерзительной»[183 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 21 августа 1926 г.], его заявление о евреях не основывалось на фактах. Он лишь выражал свои эмоции по отношению к тому, что, по своему невежеству, представлял еврейской культурой. Кажется, ему не приходило на ум, что некоторые черты этой культуры, вроде воздержанности в употреблении спиртного, строгих сексуальных нравов, книжности и противоречивого, самовысмеивающего юмора, были в точности его качествами.
Когда Лавкрафт стал близким другом Сони Грин, он иногда озадаченно спрашивал ее, как кто-то может проявлять такие очевидные достоинства, как у Лавмэна, и при этом быть евреем. Он поступал так, как часто поступают люди с сильными расовыми предрассудками, чтобы оправдать свои предубеждения. Испытывая ненависть к какой-либо национальности, люди, встречая ее представителя с отвратительными качествами, объявляют его «типичным» для всего народа. Когда же они сталкиваются с другим представителем, которым не могут не восторгаться и к которому не могут не питать теплых чувств, они заявляют, что он, должно быть, является редким исключением.
Большинство писателей, по моему мнению, менее этноцентричны, нежели обычный человек, так как чтение открывает им множество точек зрения. Особенно это истинно для научных фантастов. После того как справишься с проблемой людей-пауков с Сириуса, ни один человек уже не кажется чужим. Лавкрафт, однако, продолжал писать в ксенофобском тоне почти двадцать лет, еще долго после того, как большинство американских интеллектуалов отказались от подобных взглядов. Он кардинально пересмотрел свои убеждения лишь на последнем десятке жизни.
В результате растущего круга знакомств корреспонденция Лавкрафта раздулась просто фантастически. Предполагается, что он написал по крайней мере сто тысяч писем общим объемом не менее десяти миллионов слов. Его письма одному только Кларку Эштону Смиту в среднем содержали около сорока тысяч слов в год. Обычно он вел от пятидесяти до ста переписок одновременно, в число которых входило и некоторое количество старух, считавших его всеведущим философом. В среднем он писал восемь-десять писем ежедневно, а когда опаздывал с ответами, эта цифра возрастала до пятнадцати. Большинство писем занимали четыре-восемь страниц, но некоторые достигали шестидесяти или восьмидесяти.
Лавкрафт старался ответить на все полученные письма в тот же день, задерживаясь же с ответом больше, чем на неделю или две, он расточался в извинениях. Отсюда около половины его рабочего времени уходило на письма. Он осознавал, что такая огромная корреспонденция отнимает у него время, которое он мог бы потратить с большей пользой. Лавкрафт часто зарекался сократить ее объем, но так и не сделал этого. Джентльмен, оправдывался он печально, просто не может быть так груб, чтобы ответить на дружественное письмо коротко, с опозданием или совсем не ответить.
У Лавкрафта были и другие причины для ведения переписки: в Провиденсе, по его словам, у него не было близких по духу друзей, так что письма заменяли ему общественную жизнь. Он писал: «…Эпистолярное выражение почти полностью заменяет мне разговоры, поскольку мое состояние нервного изнеможения становится все более и более острым. В настоящее время мне невыносимо вести долгие разговоры…» «…Изолированной личности необходима переписка, чтобы понимать, как его идеи видят другие, дабы избегать таким образом впадения в догматизм и сумасбродство отшельнических и неисправляемых размышлений…» Лавкрафт говорил, что неважно, сколь часто он встречается с человеком – он никогда не почувствует, что действительно знает его, пока не вступит с ним в переписку[184 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 23 декабря 1917 г.; 4 декабря 1918 г.; Ф. Б. Лонгу, 3 ноября 1930 г.; Donald Wandrei «Lovecraft in Providence» в Howard Phillips Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, p. 125.]. Когда он жил в Нью-Йорке и у него был там круг сходных по духу друзей, он все равно продолжал маниакально писать письма.
Позже у Лавкрафта появилось значительное количество близких друзей, чьим обществом он наслаждался – по крайней мере, до определенного момента. С миром же в целом он, однако, действительно предпочитал личным контактам переписку. В течение многих лет он переписывался с Бертраном К. Хартом, литературным редактором «Провиденс Джорнал», но когда бы Харт ни пытался встретиться с ним, Лавкрафт всегда находил какой-нибудь предлог, чтобы уклониться от встречи. Очевидно, из-за своей застенчивости он боялся встречаться даже с самым благожелательным незнакомцем, тогда как касательно переписки у него не было никаких комплексов.
Дело заключалось в том, что Лавкрафт любил писать письма и не был дисциплинирован в отношении времени. При всем своем восхищении эпохой барокко, он никогда не относился серьезно к словам одного из ее великих авторов писем, четвертого графа Честерфилда: «Более всего я желаю, чтобы ты узнал – а это знают лишь очень немногие – истинную пользу и ценность времени… Никто не расточает свое время, слыша и видя изо дня в день, насколько необходимо использовать его с выгодой и как невосполнима его потеря… Я знал одного джентльмена, который так экономно расходовал свое время, что не мог даже потерять ту его крохотную часть, которую зовы природы вынуждали проводить его в уборной; в эти моменты он постепенно изучил всех латинских поэтов»[185 - Winfield Townley Scott «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday & Co., Inc., 1961, p. 71; «Lord Chesterfield’s Letters to His Son», Letter xxi, 11 Dec. 1747 (по старому стилю).].
Лавкрафт продолжал переписку даже в своих путешествиях. Он писал на иллюстрированных почтовых открытках мелким, почти неразборчивым почерком и занимал не только всю площадь для сообщений на оборотной стороне открытки, но так же и большую часть раздела для адреса, едва оставляя место для него самого. Раздраженные почтовые служащие порой взимали с Лавкрафта плату за полное письмо, наклеивая на его открытки почтовые марки.
Остановившись где-либо, он использовал всё имеющееся под рукой. В отелях его выручали гостиничные печатные бланки. Он даже использовал оборотные стороны полученных писем, которые редко сохранял.
Получатели педантично именовались как «Esq», (эсквайр), вместо простого «Мг.» (мистер). В самом письме Лавкрафт поначалу приветствовал своего корреспондента формально, например, «Дорогой мистер Блох». Когда же он узнавал человека получше, то иногда обращался к нему только по фамилии, в британской манере: «Дорогой Блох», или по инициалам: «Дорогой А. У.» для Августа У. Дерлета. Позже он порой использовал фонетически переиначенное написание имени или инициалов адресата: «Бхо-Блок» для Роберта Блоха и «Джевиш-Эй» для Дж. Вернона Ши. Несомненное англосаксонское имя Кларка Эштона Смита превратилось в «Кларкэш-Тон», выглядящее как нечто с планеты Юггот.
Для своих друзей Лавкрафт выдумывал причудливые псевдонимы. Иногда он просто латинизировал имена: «Мортоний» для Мортона и «Белнапий» для Фрэнка Белнапа Лонга. Другие были «Боб с Двумя Пистолетами» для Роберта Э. Говарда из Техаса, «Малик Таус» или «Султан-Павлин» для Э. Хоффманна Прайса, автора рассказов в восточном стиле, «М. ле конт Д’Эрлетт» для Дерлета, «Джонкхеер» для Уилфреда Б. Талмана, имевшего голландское происхождение, и «Сатрап Фарнабазий» (сатрап – персидский правитель древнегреческих времен) для Фарнсуорта Райта, редактора «Виэрд Тэйлз».
Среди коллег по «Виэрд Тэйлз» Лавкрафт часто вместо обычного адреса отправителя и даты использовал образные подписи. Так, можно найти письмо, подписанное «Могила 66 – Некрополь Тана. Час Грохотания Нижней Решетки», или «Безымянные Руины Ийата – Час Сияющего Света у Запечатанной Башни», или «Кадаф в Холодной Пустыне: Час Ночных Мверзей». Такие формулировки усложняют задачу биографа по датировке писем.
Когда Лавкрафт заканчивал письмо, он мог подписать его «Сердечнейше и искреннейше ваш, Г. Ф. Лавкрафт». С близкими друзьями он использовал формулировку восемнадцатого века «Ваш покорный слуга, Г. Ф. Л.» или какую-нибудь игривую подпись вроде «Эйч-Пи-Эль» («ГэЭфЭл») или «Дедуля Теобальд». В некоторых ранних письмах он следовал стилю восемнадцатого века с поразительной точностью:
«Э. Шерману Коулу, эсквайру, Ист-Редхам, Массачусетс Милостивый государь, с благодарностью извещаю Вас о получении Вашего письма от 14 числа истекшего месяца и выражаю сожаления в связи с задержкой своего ответа…»[186 - В оригинале Лавкрафт также использует «длинные, s». (Примеч. перев.)]
Другие полны популярных жаргонных словечек, каламбуров и разных острот. Его письма учены, любезны (кроме случаев, когда он разражался тирадами), очаровательны и – особенно для человека, гордившегося своей аристократической сдержанностью, – весьма самообличающи. Можно проследить его триумфы и несчастья почти изо дня в день. Он рассуждает на темы антропологии, архитектуры, астрономии, истории, космологии, науки, оккультизма, политики, путешествий, религии, социологии, стиховедения, философии, художественного сочинительства и эстетики. Всегда можно натолкнуться на ученые изыскания по необычным темам: какова была речь жителей Британии после ухода римских легионов? Почему на часах четыре часа обозначаются «НН», а не «IV»? Когда в восемнадцатом веке мужчины перестали носить парики?
В 1916 году Мо предложил, чтобы он, Айра Коул, Лавкрафт и кто-нибудь еще образовали группу кругового письма. Лавкрафт предложил в качестве четвертого члена Кляйнера и назвал клуб «Кляйкомола», по первым слогам фамилий его членов. Совместное письмо пересылалось от Коула к Мо, затем Кляйнеру, Лавкрафту и снова Коулу. Когда кто-то из них получал пакет, он вынимал свое предыдущее письмо, добавлял новое и отправлял пакет дальше.
«Кляйкомола» процветал два года. Затем Коул был обращен евангелистом-пятидесятником, услышал голоса и стал странствующим проповедником, забросив любительскую печать. Когда выбыл Коул, Лавкрафт завербовал на его место Галпина и назвал клуб «Галламо». Кляйнер и Мо, однако, скоро вышли из клуба.
В 1918 году Лавкрафт узнал об оживлении активности британской любительской прессы. При содействии английского любителя по имени Маккиг он вступил в Британский клуб любительской прессы. В 1921–м он организовал англоамериканский клуб круговой переписки среди издателей-любителей под названием «Трансатлантический распространитель». Он использовал эту группу в качестве резонатора для своих ранних рассказов, посылая рукописи по кругу с просьбой о критическом отзыве.
Когда какой-нибудь участник подвергал один из рассказов Лавкрафта суровой критике, в следующем заходе он посылал длинное письмо, защищая свое произведение. Он не пишет, возражал он, об обычных людях, потому что они ему не интересны. Он не пишет для широких масс и будет удовлетворен, если его работы понравятся лишь немногим разборчивым читателям. В сентябре 1921 года он распрощался с группой.
Так Лавкрафт завел еще один обычай – отсылать для критики свои произведения друзьям, прежде чем выставлять их на продажу. Для начинающего писателя это здравый метод, если он может найти объективного и знающего Друга, который также помогал бы и в его литературном обучении.
Писатель, представляющий таким образом рукопись на рассмотрение, должен любезно принимать критику и не смущаться ею слишком сильно. Лавкрафт научился не оспаривать ее, но так и не научился не позволять, ей волновать или лишать себя уверенности. К концу своих дней он отсылая каждый рассказ полудюжине друзей, а затем, если кому-то из них произведение не нравилось, впадал в вялое отчаяние и говорил, что бросит писать совсем.
Чтобы переносить разочарования своего ремесла, писатель должен обладать крепостью, гибкостью и изрядной долей самомнения. Лавкрафту этих черт недоставало. С его стороны было довольно глупо продолжать показывать повсюду свои рукописи, поскольку в зрелости он знал о литературной технике больше, нежели его друзья. Они не могли сказать ему ничего полезного, и их критика лишь подавляла ту небольшую самоуверенность, которой он обладал.
Но Лавкрафт так и не усвоил этого. Вопреки своей болтовне о том, что он бесчувственная думающая машина, он оставался эмоциональным, сверхчувствительным человеком с хрупким эго, который по-детски жаждал похвалы и которого совершенно сокрушало неодобрение.
Письма Лавкрафта за период 1915–1921 годов содержат те же обращения к национализму, милитаризму, арийству и сухому закону, что появлялись в его передовицах, и те же резкости в адрес национальных меньшинств: «…Отчужденные пригороды, где царствует еврейское, итальянское и франко-канадское убожество». В письмах также выражаются философские воззрения Лавкрафта. Он так и не поколебался в своем «нон-теизме», который принял в детстве: «Я опасаюсь, что весь теизм в основном состоит из порочных рассуждений и гадания или выдумывания того, чего мы не знаем. Если Бог всесилен, тогда почему он выбрал этот единственный маленький период и мир для своего эксперимента над человечеством?»[187 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу, 16 января 1919 г.; Р. Кляйнеру, 14 октября 1919 г.; «Кляйкомола», октябрь 1916 г.]
Лавкрафт, однако, не отрицал всецело организованную религию. Подобно географу Страбону и Никколо Макиавелли, он полагал, что религия, даже ложная, служит полезной цели утешения и сдерживания глупых. Это один из «безвредных и несложных способов, с помощью которого мы можем обманывать себя, веря, что мы счастливы…» «Каковы бы ни были недостатки церкви, ее так никто и не превзошел или хотя бы сравнялся с ней в качестве агента по распространению добродетелей». «Честный агностик относится к церкви с уважением за то, что ею было сделано относительно добродетелей. Он даже поддерживает ее, если великодушен… Полезное воздействие христианства никогда не должно ни отрицаться, ни пренебрегаться, хотя, должен честно признать, лично я считаю его переоцененным»[188 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта «Кляйкомола», октябрь 1916 г.; Р. Кляйнеру, 25 ноября 1915 г.; М. В. Мо, 15 мая 1918 г.].
За неимением какой-либо сверхъестественной веры, собственная философия Лавкрафта была утонченным материалистическим исповеданием тщетности, нелепо сочетающимся с суровым аскетизмом личного поведения. Он оправдывал это атеистическое пуританство как «артистическое». Поскольку «наша человеческая раса является лишь незначительной случайностью в истории творения» и «через несколько миллионов лет человеческой расы не будет существовать вовсе», то дела человеческие не следует воспринимать всерьез. «С Ницше я был вынужден признать, что человечество в целом не имеет ни какой бы то ни было цели, ни предназначения… К чему следует стремиться человеку, так это к удовольствиям бесстрастного воображения – удовольствиям чистого рассудка, из тех, что обнаруживаются в осознании истин».
Он всячески поддерживал миф о собственной бесстрастности: «Я уверен, что я, едва ли имеющий представление о том, что есть чувство… намного менее обеспокоен, нежели тот, кто постоянно гоняется за новыми сенсациями…»[189 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта «Кляйкомола», 8 августа 1916 г.; Р. Кляйнеру, 23 февраля 1918 г.; 14 сентября 1919 г.] Шекспировский Гамлет, говорил он, не был безумцем или даже невротиком. Гамлет лишь осознал тщетность всех человеческих дел, и поэтому его больше ничто не побуждало к каким-либо действиям, хорошим или плохим.
Мало какие убеждения Лавкрафта предоставляют более удобную мишень для осмеяния, нежели его диванный милитаризм. Из своей безопасной кроличьей норы в Провиденсе он яростно разражался кровожадными похвалами и угрозами: «…За распространение идей о мире ответственна упадочническая трусость. Мир – идеал вырождающейся нации, сокрушенной расы…»
«…Станем ли мы когда-нибудь такими бабами, что предпочитают кастрированный писк арбитра мощному боевому кличу голубоглазого светлобородого воина? Есть только одна здоровая сила в мире – это сила волосатой мускулистой правой руки!»
«Я по природе северянин – белоснежный громадный тевтонский убийца из скандинавских или северогерманских лесов – викинг-берсерк-убийца – хищнический грабитель кровей Генгиста и Горсы – покоритель кельтов и полукровок, основатель Империй – сын громов и арктических ветров, брат морозов и полярных сияний – пьющий кровь врагов из свежесобранных черепов…»[190 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 10 августа 1915 г.; Дж. Ф. Мортону, 10 февраля 1923 г.; Ф. Б. Лонгу, 13 мая 1923 г. (Генгист и Горса – братья-предводители англосаксонских дружин, начавших завоевание романизованной Британии; согласно мифам, считаются правнуками Вотана. – Примеч. перев.)]
При всем этом этот нелепый, слабый, отнюдь не богатырского сложения человек вел самый уединенный, бездеятельный, лишенный всякого риска и воинственности образ жизни, какой только можно представить. (Он перестал насмехаться над кельтами, когда узнал, что один из его собственных предков носил фамилию Кази.) Однако он не был совершенно бездеятелен.
Угнетаемый собственной бесполезностью, Лавкрафт сделал одну серьезную попытку вырваться из-под опеки матери. 6 апреля 1917 года Соединенные Штаты объявили войну Германской империи. В следующем месяце Лавкрафт подал заявление о добровольном поступлении на службу в Национальную гвардию. Он прошел беглый медицинский осмотр, умолчав о своих болезнях, и был принят рядовым в береговую артиллерию.
Когда Сюзи Лавкрафт узнала об этом, то «от новости практически впала в прострацию». Последовали сцены, и она вместе с семейным врачом вынудила армию отменить зачисление. Когда замаячила перспектива воинского призыва, Лавкрафт написал: «Моя мать пригрозила пойти на всё, законное или нет, если я не расскажу о всех своих болезнях, которые делают меня непригодным для службы в армии».
Когда пришел его призывной опросный лист, Лавкрафт обсудил его с главой местной призывной комиссии. Зная его историю болезней, этот доктор, друг семьи и дальний родственник, велел ему классифицировать себя как «V, G» – полностью непригодным. Когда же Лавкрафт начал протестовать, доктор заявил ему, что он не думает, что Лавкрафт сможет выдержать воинскую жизнь, да и комиссия его не пропустит. Лавкрафт с горечью писал: «Я почти убежден, что если бы мое здоровье позволило, то к этому времени я стал бы по крайней мере офицером запаса, поскольку действительно намеревался серьезно заняться учебой. Я полагал, что если смогу выдержать достаточно долго, то даже смогу получить офицерский чин… Но я допускаю, как сказал доктор, что не имею действительного представления о том, что солдат должен физически переносить даже при самой спокойной лагерной или казарменной жизни. Во всяком случае, он решил, что человек, который не может бодрствовать весь день, будучи гражданским, совершенно не является тем, из кого выходят генералы»[191 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 23 мая 1917 г.; 23 февраля 1918 г.].
Неизвестно, к чему бы привела военная служба, осуществись она. Как писал Лавкрафт: «Она либо убила бы меня, либо исцелила». Он явно страдал от несомненных психосоматических болезней, и в обеих мировых войнах армия признавала негодными тысячи призывников со схожими недугами. С другой стороны, хорошие солдаты делаются и из такого малообещающего материала, а Лавкрафт, как сказал Кляйнер, поразительно расцветал, когда избавлялся от попечительства матери и теток.
После всего этого, когда два миллиона других американцев были одеты в цвет хаки для войны-до-победного-конца, бедного Лавкрафта оставили чувствовать себя еще более «бесполезным» и «брошенным и одиноким», чем когда-либо. Он говорил, что попытался бы поступить в медицинские войска, где физические ограничения были ниже, «если бы не почти безумное отношение моей матери, которая заставляла меня обещать всякий раз, когда я выходил из дома, что я не буду снова пытаться попасть в армию!»[192 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 22 июня 1917 г.; 27 августа 1917 г.; М. В. Мо, 30 мая 1917 г. Эдвард Ш. Коул (Edward Н. Cole «Ave Atque Vale!» в George Т. Wetzel (ed.) «HPL: Memoirs, Critiques, and Bibliographies», North Tonawanda: SSR Publications, 1955, p. 14.) повторяет историю, которую слышал от Данна, коллеги Лавкрафта по Провиденсскому клубу любительской прессы, что Лавкрафт пытался завербоваться в британскую армию в 1914–1915 годах, но был разоблачен своими тетушками. Поскольку Лавкрафт никогда не упоминал подобного эпизода, это, вероятно, лишь искаженная версия истории его неудачного поступления на службу в Род-айлендскую Национальную гвардию.] Кажется, ему никогда не приходило в голову, что, поскольку он был взрослым, у его матери не было власти «заставлять» его что-либо делать. Так и закончилась карьера Лавкрафта как воина, нордического или какого-то там еще.
Глава восьмая. Призрачный джентльмен
В действительности Безденежный Эдгар [По] всю свою жизнь играл одну роль, особенно горькую в стране вроде нашей, где, несмотря на значимость звезды, под которой мы рождены, полагается, что положение в обществе должно быть достигнуто, нежели предписано. То была роль Аристократа, Лишенного Наследства. Особенно горькая, но и особенно притягательная. Сколько американцев перед лицом своих личных неудач (в бизнесе, любви, жизни) нашли огромное утешение в осознании того, что, существуй на свете правда и справедливость, их признавали бы так же, как Потерянного дофина Франции, Наполеона, подлинного графа Ренвикского или законного Маклеода с острова Скай[193 - Daniel Hoffman «Рое Рое Рое Рое Рое Рое Рое», Garden City: Double – day & Co., Inc., 1972, p. 199.].
Как и Лавкрафт, Мортон обладал поразительной эрудицией, был воздержан в привычках и имел множество увлечений. В число этих хобби входили любительская печать, генеалогия, минералогия, решение головоломок, права негров и движение за «единый налог» Генри Джорджа. Из-за последних двух ультраконсервативный Лавкрафт описывал Мортона как «расходующего изумительный ум на радикальную чушь»[180 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта М. В. Мо, 18 мая 1922 г.].
Наконец, был Сэм Лавмэн, молодой продавец книг из Кливленда, который увлекался любительской прессой примерно с 1907 года, но забросил ее. Немногим старше Лавкрафта, Лавмэн обладал приятной внешностью, несмотря на большие уши и раннее облысение. Бухгалтер по профессии, во время Первой мировой войны он служил в американской армии, в ходе которой его жена умерла при родах. У него был немалый поэтический талант, со склонностью к классическим греческим темам. Его красочные мелодичные стихотворения, которыми Лавкрафт восторгался с 1915 года, тяготели к чувственности и сентиментальности и были полны бабочек, цветов и слез. Поэма «Вакханалия» (посвященная крайне далекому от склонности к разгулу Лавкрафту) начинается:
Вино до краев бутыль наполняет,
Для гостя особого оно;
Лорд юный жилетку ослабляет,
Его фиалок венок увивает —
И пирушка для него, Пирушка для него.
Лавкрафт считал Лавмэна близким по духу с первого же знакомства. Последний выбыл из ОАЛП, и Лавкрафт писал Кляйнеру: «С моей помощью Лавмэн восстановился в Объединенной ассоциации. Еврей он или нет, я очень горд, что являюсь его гарантом… Его поэтическая одаренность – высшего порядка… Его разнообразие идей, средства выражения, знание античности и старины ставят его в первые ряды». В другом месте он заявил, что Лавмэн – «выдающийся язычник – и еврей по происхождению»[181 - Samuel Loveman «The Hermaphrodite and Other Poems», Caldwell, Idaho: Caxton Printers, 1936, p. 74; письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 8 ноября 1917 г.; Ф. Б. Лонгу, 8 февраля 1922 г.].
Эта дружба была одной из самых противоречивых вещей в парадоксальной жизни Лавкрафта. Когда он встретился с Лавмэном в 1922 году в Нью-Йорке, он писал: «Лавмэн крайне восхитителен – изысканный, учтивый, чуткий и эстетичный, однако он вовсю старается скрыть свои артистические наклонности под скромной внешностью обычной общительности… Его скромность потрясающе исключительна… Лавмэн выражает языком музыку, поэзию, цвет…»[182 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Т. Реншоу, 3 марта 1922 г.; М. В. Мо, 18 мая 1922 г.]
Из всех своих друзей самую теплую привязанность Лавкрафт испытывал к Лавмэну. И в то же время, как это открылось в полемике с Исааксоном, он исповедовал юдофобию, общераспространенную среди «старых американцев» его поколения, таких, как, например, великий Генри Адаме. На третьем и четвертом десятке у Лавкрафта (вопреки усилиям Августа Дерлета обелить его) эта фобия выросла до настоящей ненависти. Он писал письма, щедро восхваляя ум, благородство и другие достоинства Лавмэна и в то же время понося евреев вообще. Одно письмо переворачивает обычные доводы за национальную терпимость: «Нет ничего глупее, чем ограниченная банальность идеалистически настроенного социального работника, говорящего нам, что мы должны извинять омерзительную психологию евреев, ибо мы, подвергая их гонениям, в некоторой степени ответственны за нее. Это отвратительный вздор… Мы презираем евреев не только из-за тех клейм, которые наложили на них наши преследования, но из-за их недостаточной стойкости… на своем пути, которая всецело и позволила нам их преследовать! Может ли кто-нибудь хоть на миг представить себе, что нордическую расу могли бы бить ее соседи на протяжении двух тысячелетий? О боже! Да они бы погибли, сражаясь до последнего человека, или бы восстали и стерли своих предполагаемых преследователей с лица земли!! Мы инстинктивно ненавидим евреев именно потому, что они сами позволили пинать их. Заметьте, насколько больше наше уважение к их собратьям-семитам арабам, которые имеют благородные сердца – проявляющиеся в бесстрашии… которое мы в душе понимаем и одобряем».
Доживи Лавкрафт до арабо-израильских войн последней четверти двадцатого века, он, возможно, нашел бы эти события поучительными. Он состряпал поразительное объяснение ненависти к евреям: они ответственны за христианство-иудаистскую ересь, – а христианство уничтожило античное язычество, которым он восхищался.
Сегодня из-за таких взглядов человек оказался бы среди крайне правых безумцев, хотя недавно и «новые левые» подняли схожий шум о «сионистских империалистах». В десятых-двадцатых годах двадцатого столетия, однако, такие убеждения были весьма распространены среди американской знати. Тогда у них не было такого зловещего подтекста, как сегодня, после Освенцима и Дахау.
Воображая себя объективным, холодным аналитическим мыслителем, Лавкрафт так никогда и не научился отличать объективный факт от субъективной реакции. Если некто говорит о ком-то, что тот «добрый, справедливый, превосходный, благородный» или «плохой, бесчестный, скверный, подлый», он не говорит о нем ничего существенного. Он лишь выказывает свое собственное отношение к этой личности. Когда Лавкрафт назвал еврейскую культуру (о которой он не знал практически ничего) «омерзительной»[183 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Ф. Б. Лонгу, 21 августа 1926 г.], его заявление о евреях не основывалось на фактах. Он лишь выражал свои эмоции по отношению к тому, что, по своему невежеству, представлял еврейской культурой. Кажется, ему не приходило на ум, что некоторые черты этой культуры, вроде воздержанности в употреблении спиртного, строгих сексуальных нравов, книжности и противоречивого, самовысмеивающего юмора, были в точности его качествами.
Когда Лавкрафт стал близким другом Сони Грин, он иногда озадаченно спрашивал ее, как кто-то может проявлять такие очевидные достоинства, как у Лавмэна, и при этом быть евреем. Он поступал так, как часто поступают люди с сильными расовыми предрассудками, чтобы оправдать свои предубеждения. Испытывая ненависть к какой-либо национальности, люди, встречая ее представителя с отвратительными качествами, объявляют его «типичным» для всего народа. Когда же они сталкиваются с другим представителем, которым не могут не восторгаться и к которому не могут не питать теплых чувств, они заявляют, что он, должно быть, является редким исключением.
Большинство писателей, по моему мнению, менее этноцентричны, нежели обычный человек, так как чтение открывает им множество точек зрения. Особенно это истинно для научных фантастов. После того как справишься с проблемой людей-пауков с Сириуса, ни один человек уже не кажется чужим. Лавкрафт, однако, продолжал писать в ксенофобском тоне почти двадцать лет, еще долго после того, как большинство американских интеллектуалов отказались от подобных взглядов. Он кардинально пересмотрел свои убеждения лишь на последнем десятке жизни.
В результате растущего круга знакомств корреспонденция Лавкрафта раздулась просто фантастически. Предполагается, что он написал по крайней мере сто тысяч писем общим объемом не менее десяти миллионов слов. Его письма одному только Кларку Эштону Смиту в среднем содержали около сорока тысяч слов в год. Обычно он вел от пятидесяти до ста переписок одновременно, в число которых входило и некоторое количество старух, считавших его всеведущим философом. В среднем он писал восемь-десять писем ежедневно, а когда опаздывал с ответами, эта цифра возрастала до пятнадцати. Большинство писем занимали четыре-восемь страниц, но некоторые достигали шестидесяти или восьмидесяти.
Лавкрафт старался ответить на все полученные письма в тот же день, задерживаясь же с ответом больше, чем на неделю или две, он расточался в извинениях. Отсюда около половины его рабочего времени уходило на письма. Он осознавал, что такая огромная корреспонденция отнимает у него время, которое он мог бы потратить с большей пользой. Лавкрафт часто зарекался сократить ее объем, но так и не сделал этого. Джентльмен, оправдывался он печально, просто не может быть так груб, чтобы ответить на дружественное письмо коротко, с опозданием или совсем не ответить.
У Лавкрафта были и другие причины для ведения переписки: в Провиденсе, по его словам, у него не было близких по духу друзей, так что письма заменяли ему общественную жизнь. Он писал: «…Эпистолярное выражение почти полностью заменяет мне разговоры, поскольку мое состояние нервного изнеможения становится все более и более острым. В настоящее время мне невыносимо вести долгие разговоры…» «…Изолированной личности необходима переписка, чтобы понимать, как его идеи видят другие, дабы избегать таким образом впадения в догматизм и сумасбродство отшельнических и неисправляемых размышлений…» Лавкрафт говорил, что неважно, сколь часто он встречается с человеком – он никогда не почувствует, что действительно знает его, пока не вступит с ним в переписку[184 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 23 декабря 1917 г.; 4 декабря 1918 г.; Ф. Б. Лонгу, 3 ноября 1930 г.; Donald Wandrei «Lovecraft in Providence» в Howard Phillips Lovecraft and Divers Hands «The Shuttered Room and Other Pieces», Sauk City: Arkham House, 1959, p. 125.]. Когда он жил в Нью-Йорке и у него был там круг сходных по духу друзей, он все равно продолжал маниакально писать письма.
Позже у Лавкрафта появилось значительное количество близких друзей, чьим обществом он наслаждался – по крайней мере, до определенного момента. С миром же в целом он, однако, действительно предпочитал личным контактам переписку. В течение многих лет он переписывался с Бертраном К. Хартом, литературным редактором «Провиденс Джорнал», но когда бы Харт ни пытался встретиться с ним, Лавкрафт всегда находил какой-нибудь предлог, чтобы уклониться от встречи. Очевидно, из-за своей застенчивости он боялся встречаться даже с самым благожелательным незнакомцем, тогда как касательно переписки у него не было никаких комплексов.
Дело заключалось в том, что Лавкрафт любил писать письма и не был дисциплинирован в отношении времени. При всем своем восхищении эпохой барокко, он никогда не относился серьезно к словам одного из ее великих авторов писем, четвертого графа Честерфилда: «Более всего я желаю, чтобы ты узнал – а это знают лишь очень немногие – истинную пользу и ценность времени… Никто не расточает свое время, слыша и видя изо дня в день, насколько необходимо использовать его с выгодой и как невосполнима его потеря… Я знал одного джентльмена, который так экономно расходовал свое время, что не мог даже потерять ту его крохотную часть, которую зовы природы вынуждали проводить его в уборной; в эти моменты он постепенно изучил всех латинских поэтов»[185 - Winfield Townley Scott «Exiles and Fabrications», Garden City: Doubleday & Co., Inc., 1961, p. 71; «Lord Chesterfield’s Letters to His Son», Letter xxi, 11 Dec. 1747 (по старому стилю).].
Лавкрафт продолжал переписку даже в своих путешествиях. Он писал на иллюстрированных почтовых открытках мелким, почти неразборчивым почерком и занимал не только всю площадь для сообщений на оборотной стороне открытки, но так же и большую часть раздела для адреса, едва оставляя место для него самого. Раздраженные почтовые служащие порой взимали с Лавкрафта плату за полное письмо, наклеивая на его открытки почтовые марки.
Остановившись где-либо, он использовал всё имеющееся под рукой. В отелях его выручали гостиничные печатные бланки. Он даже использовал оборотные стороны полученных писем, которые редко сохранял.
Получатели педантично именовались как «Esq», (эсквайр), вместо простого «Мг.» (мистер). В самом письме Лавкрафт поначалу приветствовал своего корреспондента формально, например, «Дорогой мистер Блох». Когда же он узнавал человека получше, то иногда обращался к нему только по фамилии, в британской манере: «Дорогой Блох», или по инициалам: «Дорогой А. У.» для Августа У. Дерлета. Позже он порой использовал фонетически переиначенное написание имени или инициалов адресата: «Бхо-Блок» для Роберта Блоха и «Джевиш-Эй» для Дж. Вернона Ши. Несомненное англосаксонское имя Кларка Эштона Смита превратилось в «Кларкэш-Тон», выглядящее как нечто с планеты Юггот.
Для своих друзей Лавкрафт выдумывал причудливые псевдонимы. Иногда он просто латинизировал имена: «Мортоний» для Мортона и «Белнапий» для Фрэнка Белнапа Лонга. Другие были «Боб с Двумя Пистолетами» для Роберта Э. Говарда из Техаса, «Малик Таус» или «Султан-Павлин» для Э. Хоффманна Прайса, автора рассказов в восточном стиле, «М. ле конт Д’Эрлетт» для Дерлета, «Джонкхеер» для Уилфреда Б. Талмана, имевшего голландское происхождение, и «Сатрап Фарнабазий» (сатрап – персидский правитель древнегреческих времен) для Фарнсуорта Райта, редактора «Виэрд Тэйлз».
Среди коллег по «Виэрд Тэйлз» Лавкрафт часто вместо обычного адреса отправителя и даты использовал образные подписи. Так, можно найти письмо, подписанное «Могила 66 – Некрополь Тана. Час Грохотания Нижней Решетки», или «Безымянные Руины Ийата – Час Сияющего Света у Запечатанной Башни», или «Кадаф в Холодной Пустыне: Час Ночных Мверзей». Такие формулировки усложняют задачу биографа по датировке писем.
Когда Лавкрафт заканчивал письмо, он мог подписать его «Сердечнейше и искреннейше ваш, Г. Ф. Лавкрафт». С близкими друзьями он использовал формулировку восемнадцатого века «Ваш покорный слуга, Г. Ф. Л.» или какую-нибудь игривую подпись вроде «Эйч-Пи-Эль» («ГэЭфЭл») или «Дедуля Теобальд». В некоторых ранних письмах он следовал стилю восемнадцатого века с поразительной точностью:
«Э. Шерману Коулу, эсквайру, Ист-Редхам, Массачусетс Милостивый государь, с благодарностью извещаю Вас о получении Вашего письма от 14 числа истекшего месяца и выражаю сожаления в связи с задержкой своего ответа…»[186 - В оригинале Лавкрафт также использует «длинные, s». (Примеч. перев.)]
Другие полны популярных жаргонных словечек, каламбуров и разных острот. Его письма учены, любезны (кроме случаев, когда он разражался тирадами), очаровательны и – особенно для человека, гордившегося своей аристократической сдержанностью, – весьма самообличающи. Можно проследить его триумфы и несчастья почти изо дня в день. Он рассуждает на темы антропологии, архитектуры, астрономии, истории, космологии, науки, оккультизма, политики, путешествий, религии, социологии, стиховедения, философии, художественного сочинительства и эстетики. Всегда можно натолкнуться на ученые изыскания по необычным темам: какова была речь жителей Британии после ухода римских легионов? Почему на часах четыре часа обозначаются «НН», а не «IV»? Когда в восемнадцатом веке мужчины перестали носить парики?
В 1916 году Мо предложил, чтобы он, Айра Коул, Лавкрафт и кто-нибудь еще образовали группу кругового письма. Лавкрафт предложил в качестве четвертого члена Кляйнера и назвал клуб «Кляйкомола», по первым слогам фамилий его членов. Совместное письмо пересылалось от Коула к Мо, затем Кляйнеру, Лавкрафту и снова Коулу. Когда кто-то из них получал пакет, он вынимал свое предыдущее письмо, добавлял новое и отправлял пакет дальше.
«Кляйкомола» процветал два года. Затем Коул был обращен евангелистом-пятидесятником, услышал голоса и стал странствующим проповедником, забросив любительскую печать. Когда выбыл Коул, Лавкрафт завербовал на его место Галпина и назвал клуб «Галламо». Кляйнер и Мо, однако, скоро вышли из клуба.
В 1918 году Лавкрафт узнал об оживлении активности британской любительской прессы. При содействии английского любителя по имени Маккиг он вступил в Британский клуб любительской прессы. В 1921–м он организовал англоамериканский клуб круговой переписки среди издателей-любителей под названием «Трансатлантический распространитель». Он использовал эту группу в качестве резонатора для своих ранних рассказов, посылая рукописи по кругу с просьбой о критическом отзыве.
Когда какой-нибудь участник подвергал один из рассказов Лавкрафта суровой критике, в следующем заходе он посылал длинное письмо, защищая свое произведение. Он не пишет, возражал он, об обычных людях, потому что они ему не интересны. Он не пишет для широких масс и будет удовлетворен, если его работы понравятся лишь немногим разборчивым читателям. В сентябре 1921 года он распрощался с группой.
Так Лавкрафт завел еще один обычай – отсылать для критики свои произведения друзьям, прежде чем выставлять их на продажу. Для начинающего писателя это здравый метод, если он может найти объективного и знающего Друга, который также помогал бы и в его литературном обучении.
Писатель, представляющий таким образом рукопись на рассмотрение, должен любезно принимать критику и не смущаться ею слишком сильно. Лавкрафт научился не оспаривать ее, но так и не научился не позволять, ей волновать или лишать себя уверенности. К концу своих дней он отсылая каждый рассказ полудюжине друзей, а затем, если кому-то из них произведение не нравилось, впадал в вялое отчаяние и говорил, что бросит писать совсем.
Чтобы переносить разочарования своего ремесла, писатель должен обладать крепостью, гибкостью и изрядной долей самомнения. Лавкрафту этих черт недоставало. С его стороны было довольно глупо продолжать показывать повсюду свои рукописи, поскольку в зрелости он знал о литературной технике больше, нежели его друзья. Они не могли сказать ему ничего полезного, и их критика лишь подавляла ту небольшую самоуверенность, которой он обладал.
Но Лавкрафт так и не усвоил этого. Вопреки своей болтовне о том, что он бесчувственная думающая машина, он оставался эмоциональным, сверхчувствительным человеком с хрупким эго, который по-детски жаждал похвалы и которого совершенно сокрушало неодобрение.
Письма Лавкрафта за период 1915–1921 годов содержат те же обращения к национализму, милитаризму, арийству и сухому закону, что появлялись в его передовицах, и те же резкости в адрес национальных меньшинств: «…Отчужденные пригороды, где царствует еврейское, итальянское и франко-канадское убожество». В письмах также выражаются философские воззрения Лавкрафта. Он так и не поколебался в своем «нон-теизме», который принял в детстве: «Я опасаюсь, что весь теизм в основном состоит из порочных рассуждений и гадания или выдумывания того, чего мы не знаем. Если Бог всесилен, тогда почему он выбрал этот единственный маленький период и мир для своего эксперимента над человечеством?»[187 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Э. Ш. Коулу, 16 января 1919 г.; Р. Кляйнеру, 14 октября 1919 г.; «Кляйкомола», октябрь 1916 г.]
Лавкрафт, однако, не отрицал всецело организованную религию. Подобно географу Страбону и Никколо Макиавелли, он полагал, что религия, даже ложная, служит полезной цели утешения и сдерживания глупых. Это один из «безвредных и несложных способов, с помощью которого мы можем обманывать себя, веря, что мы счастливы…» «Каковы бы ни были недостатки церкви, ее так никто и не превзошел или хотя бы сравнялся с ней в качестве агента по распространению добродетелей». «Честный агностик относится к церкви с уважением за то, что ею было сделано относительно добродетелей. Он даже поддерживает ее, если великодушен… Полезное воздействие христианства никогда не должно ни отрицаться, ни пренебрегаться, хотя, должен честно признать, лично я считаю его переоцененным»[188 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта «Кляйкомола», октябрь 1916 г.; Р. Кляйнеру, 25 ноября 1915 г.; М. В. Мо, 15 мая 1918 г.].
За неимением какой-либо сверхъестественной веры, собственная философия Лавкрафта была утонченным материалистическим исповеданием тщетности, нелепо сочетающимся с суровым аскетизмом личного поведения. Он оправдывал это атеистическое пуританство как «артистическое». Поскольку «наша человеческая раса является лишь незначительной случайностью в истории творения» и «через несколько миллионов лет человеческой расы не будет существовать вовсе», то дела человеческие не следует воспринимать всерьез. «С Ницше я был вынужден признать, что человечество в целом не имеет ни какой бы то ни было цели, ни предназначения… К чему следует стремиться человеку, так это к удовольствиям бесстрастного воображения – удовольствиям чистого рассудка, из тех, что обнаруживаются в осознании истин».
Он всячески поддерживал миф о собственной бесстрастности: «Я уверен, что я, едва ли имеющий представление о том, что есть чувство… намного менее обеспокоен, нежели тот, кто постоянно гоняется за новыми сенсациями…»[189 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта «Кляйкомола», 8 августа 1916 г.; Р. Кляйнеру, 23 февраля 1918 г.; 14 сентября 1919 г.] Шекспировский Гамлет, говорил он, не был безумцем или даже невротиком. Гамлет лишь осознал тщетность всех человеческих дел, и поэтому его больше ничто не побуждало к каким-либо действиям, хорошим или плохим.
Мало какие убеждения Лавкрафта предоставляют более удобную мишень для осмеяния, нежели его диванный милитаризм. Из своей безопасной кроличьей норы в Провиденсе он яростно разражался кровожадными похвалами и угрозами: «…За распространение идей о мире ответственна упадочническая трусость. Мир – идеал вырождающейся нации, сокрушенной расы…»
«…Станем ли мы когда-нибудь такими бабами, что предпочитают кастрированный писк арбитра мощному боевому кличу голубоглазого светлобородого воина? Есть только одна здоровая сила в мире – это сила волосатой мускулистой правой руки!»
«Я по природе северянин – белоснежный громадный тевтонский убийца из скандинавских или северогерманских лесов – викинг-берсерк-убийца – хищнический грабитель кровей Генгиста и Горсы – покоритель кельтов и полукровок, основатель Империй – сын громов и арктических ветров, брат морозов и полярных сияний – пьющий кровь врагов из свежесобранных черепов…»[190 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 10 августа 1915 г.; Дж. Ф. Мортону, 10 февраля 1923 г.; Ф. Б. Лонгу, 13 мая 1923 г. (Генгист и Горса – братья-предводители англосаксонских дружин, начавших завоевание романизованной Британии; согласно мифам, считаются правнуками Вотана. – Примеч. перев.)]
При всем этом этот нелепый, слабый, отнюдь не богатырского сложения человек вел самый уединенный, бездеятельный, лишенный всякого риска и воинственности образ жизни, какой только можно представить. (Он перестал насмехаться над кельтами, когда узнал, что один из его собственных предков носил фамилию Кази.) Однако он не был совершенно бездеятелен.
Угнетаемый собственной бесполезностью, Лавкрафт сделал одну серьезную попытку вырваться из-под опеки матери. 6 апреля 1917 года Соединенные Штаты объявили войну Германской империи. В следующем месяце Лавкрафт подал заявление о добровольном поступлении на службу в Национальную гвардию. Он прошел беглый медицинский осмотр, умолчав о своих болезнях, и был принят рядовым в береговую артиллерию.
Когда Сюзи Лавкрафт узнала об этом, то «от новости практически впала в прострацию». Последовали сцены, и она вместе с семейным врачом вынудила армию отменить зачисление. Когда замаячила перспектива воинского призыва, Лавкрафт написал: «Моя мать пригрозила пойти на всё, законное или нет, если я не расскажу о всех своих болезнях, которые делают меня непригодным для службы в армии».
Когда пришел его призывной опросный лист, Лавкрафт обсудил его с главой местной призывной комиссии. Зная его историю болезней, этот доктор, друг семьи и дальний родственник, велел ему классифицировать себя как «V, G» – полностью непригодным. Когда же Лавкрафт начал протестовать, доктор заявил ему, что он не думает, что Лавкрафт сможет выдержать воинскую жизнь, да и комиссия его не пропустит. Лавкрафт с горечью писал: «Я почти убежден, что если бы мое здоровье позволило, то к этому времени я стал бы по крайней мере офицером запаса, поскольку действительно намеревался серьезно заняться учебой. Я полагал, что если смогу выдержать достаточно долго, то даже смогу получить офицерский чин… Но я допускаю, как сказал доктор, что не имею действительного представления о том, что солдат должен физически переносить даже при самой спокойной лагерной или казарменной жизни. Во всяком случае, он решил, что человек, который не может бодрствовать весь день, будучи гражданским, совершенно не является тем, из кого выходят генералы»[191 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 23 мая 1917 г.; 23 февраля 1918 г.].
Неизвестно, к чему бы привела военная служба, осуществись она. Как писал Лавкрафт: «Она либо убила бы меня, либо исцелила». Он явно страдал от несомненных психосоматических болезней, и в обеих мировых войнах армия признавала негодными тысячи призывников со схожими недугами. С другой стороны, хорошие солдаты делаются и из такого малообещающего материала, а Лавкрафт, как сказал Кляйнер, поразительно расцветал, когда избавлялся от попечительства матери и теток.
После всего этого, когда два миллиона других американцев были одеты в цвет хаки для войны-до-победного-конца, бедного Лавкрафта оставили чувствовать себя еще более «бесполезным» и «брошенным и одиноким», чем когда-либо. Он говорил, что попытался бы поступить в медицинские войска, где физические ограничения были ниже, «если бы не почти безумное отношение моей матери, которая заставляла меня обещать всякий раз, когда я выходил из дома, что я не буду снова пытаться попасть в армию!»[192 - Письмо Г. Ф. Лавкрафта Р. Кляйнеру, 22 июня 1917 г.; 27 августа 1917 г.; М. В. Мо, 30 мая 1917 г. Эдвард Ш. Коул (Edward Н. Cole «Ave Atque Vale!» в George Т. Wetzel (ed.) «HPL: Memoirs, Critiques, and Bibliographies», North Tonawanda: SSR Publications, 1955, p. 14.) повторяет историю, которую слышал от Данна, коллеги Лавкрафта по Провиденсскому клубу любительской прессы, что Лавкрафт пытался завербоваться в британскую армию в 1914–1915 годах, но был разоблачен своими тетушками. Поскольку Лавкрафт никогда не упоминал подобного эпизода, это, вероятно, лишь искаженная версия истории его неудачного поступления на службу в Род-айлендскую Национальную гвардию.] Кажется, ему никогда не приходило в голову, что, поскольку он был взрослым, у его матери не было власти «заставлять» его что-либо делать. Так и закончилась карьера Лавкрафта как воина, нордического или какого-то там еще.
Глава восьмая. Призрачный джентльмен
В действительности Безденежный Эдгар [По] всю свою жизнь играл одну роль, особенно горькую в стране вроде нашей, где, несмотря на значимость звезды, под которой мы рождены, полагается, что положение в обществе должно быть достигнуто, нежели предписано. То была роль Аристократа, Лишенного Наследства. Особенно горькая, но и особенно притягательная. Сколько американцев перед лицом своих личных неудач (в бизнесе, любви, жизни) нашли огромное утешение в осознании того, что, существуй на свете правда и справедливость, их признавали бы так же, как Потерянного дофина Франции, Наполеона, подлинного графа Ренвикского или законного Маклеода с острова Скай[193 - Daniel Hoffman «Рое Рое Рое Рое Рое Рое Рое», Garden City: Double – day & Co., Inc., 1972, p. 199.].