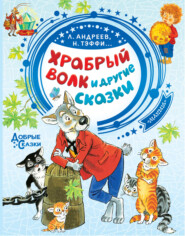По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Реквием
Год написания книги
1915
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Леонид Николаевич Андреев
«Все действие происходит в пустоте.
Подобие маленького театра. Левую часть сцены занимает эстрада, на которой представляют актеры, – широкий помост, по самой середине разделенный тонкой сценической перегородкой. Левая часть являет собою интимную сторону маленького театра, его закулисы; на правой совершается сценическое действо. И та, и другая видимы одинаково хорошо, но на левой стороне освещение скудно и стоит сумрак, и движения смутны, – правая же озарена ярким светом рампы, располагает к громкой речи, движениям размеренным и точным…»
Леонид Николаевич Андреев
Реквием
Все действие происходит в пустоте.
Подобие маленького театра. Левую часть сцены занимает эстрада, на которой представляют актеры, – широкий помост, по самой середине разделенный тонкой сценической перегородкой. Левая часть являет собою интимную сторону маленького театра, его закулисы; на правой совершается сценическое действо. И та, и другая видимы одинаково хорошо, но на левой стороне освещение скудно и стоит сумрак, и движения смутны, – правая же озарена ярким светом рампы, располагает к громкой речи, движениям размеренным и точным. Но вот горе! В маленьком театре нет зрителей. Их заменяют собою куклы, плоские деревянные фигуры, вырезанные плотником из тонких досок и раскрашенные маляром. Двумя плоскими рядами, сидя на воображаемых стульях, они полукругом обнимают эстраду, смотрят неотступно нарисованными глазами, не двигаются, не дышат, молчат. Свет рампы отраженно падает на их мертвые румяные лица, дает им призрак жизни; колеблясь, как бы колеблет их. Ударяясь о плоские фигуры, возвращаются назад на эстраду и звуки громких речей – кажется, что куклы говорят, смеются, даже плачут. Директор и актеры называют их зрителями.
Игра
Ночь накануне первого представления. Темно и глухо. Эстрада окутана мраком, и лишь слабый свет нескольких лампочек озаряет пространство между эстрадой и зрителями, смутно намечая их намалеванные лица, неподвижно-деревянные фигуры. Тихо разговаривают двое: Режиссер и Художник. Художник беспокоен, слишком ласков, слишком подвижен – Режиссер молчалив и темен.
Художник. Простите, мой дорогой, что я к вам врываюсь ночью. Правда, здесь так глухо. Но вы, дорогой мой, вы сами режиссер и прикосновенны к искусству, вы поймете мое волнение, как художника. Мне бы хотелось еще раз взглянуть на эти удивительные фигуры, созданные моей кистью. Нельзя ли, дорогой мой, осветить их ярче?
Режиссер. Нельзя.
Художник. Но почему? Мне все кажется, что вон тот, третий с краю, не вполне закончен. Два-три штриха… О, вы не знаете, что значит один только штрих, когда он родится вдохновением!
Режиссер. Нельзя.
Художник. Я бы тронул только щеку. Мне кажется, она недостаточно ярка и выпукла. Ведь он же толстый человек, поймите меня, мой дорогой!
Режиссер. Нельзя. Я жду директора и Его светлость.
Художник (почтительно кланяется). А-а, и Его светлость! Тогда дело другое, и я молчу. Я молчу, мой дорогой. Я вполне уверен, что Его светлость, как никто другой, оценит мой труд. Мне сказали: нам не нужно живых зрителей в театре, мы боимся шума и неприличия, которые несет с собою толпа. Не так ли мне было передано?
Режиссер. Да, так.
Художник. Но мы не любим быть в театре и одни среди пустых стульев и пустых темных лож. Нарисуйте нам зрителей, но так, чтобы они были совсем как живые, чтобы милые актеры, которые, к сожалению, слишком любят толпу, не заметили обмана и восторженно твердили о полном бенефисном сборе. Не так ли, мой дорогой?
Режиссер. Да, так.
Художник. Гениальный каприз! Гениальная прихоть! Только в голове, осененной короной, могло зародиться такое очаровательное безумие. Театр полон – и нет никого. Нет никого – и театр полон! Очаровательно! Ну и что же, дорогой мой: разве мне не удалось?
Режиссер. Удалось.
Художник. Я думаю. Ах, дорогой мой, вы слишком флегматичны! На вашем месте я бы прыгал от восторга. Ведь они так живы – вы понимаете, так живы, что сам господь бог может обмануться и почесть их за свое творение. А вдруг он действительно обманется? Нет, вы подумайте, дорогой мой; вдруг, обманутый, он зовет их на Страшный суд и впервые – подумайте, впервые! – в недоумении останавливается перед вопросом: кто они – грешники или праведники? Они из дерева – кто они: грешники или праведники?
Режиссер. Это уже философия.
Художник. Да, да, вы правы. Долой философию и да здравствует чистое искусство! Мне нет дела до Страшного суда, мне важен только суд Его светлости и господина директора. Признаться, я немного боюсь вашего директора: он очень странный господин. А вы его не боитесь?
Режиссер. Нет.
Художник. Но он платит очень щедро. Не так ли?
Режиссер. Ему самому платят очень щедро.
Художник. Да? Так Его светлость очень богатый человек? Ну, конечно, о чем же я спрашиваю. Театр принадлежит Его светлости, а эти зрители за вход не платят. (Показывает рукой на намалеванных зрителей и хохочет.) До такой степени совершенства даже я довести их не могу. Не так ли?
Но одиноко погасает смех. Режиссер молчит. Наклонившись, Художник шепчет.
Конечно, тут нет ничего смешного. Вы правы, мой дорогой. Но не скажете ли вы мне теперь, когда мы совершенно одни – я думаю, что на десять миль в окружности вы не найдете живого существа возле этого театра, – когда мы совершенно одни, не скажете ли вы мне дружески: что все это значит? Конечно, это гениальный каприз… но что все это значит? Если быть откровенным, я немного боюсь, вернее, испытываю какое-то странное и неприятное волнение. Почему Его светлость носит черную маску?
Режиссер. Его лицо знает вся Европа, и он не хочет, чтобы его узнали.
Художник. Вся Европа?
Режиссер. И Америка.
Художник. И Америка? Так кто же он?
Режиссер. Не знаю.
Художник. Вы так молчаливы, мой дорогой, что я впадаю в отчаяние. Поймите же, что мне страшно, вернее, я испытываю какое-то странное и неприятное волнение… Почему я ни разу не видал никого из ваших актеров?
Режиссер. Одного вы знаете.
Художник. Да? Кто же он?
Режиссер. Вы.
Художник. Ах, оставьте: это старая и нелепая игра словами. Да, да, все мы актеры, а жизнь – театр, а зрители… Позвольте: но, быть может, у вас и актеры из дерева? Вот было бы славно.
Режиссер. Нет. Они страдают.
Художник. Да, да, конечно. Но получают ли они жалованье? Ах, мой дорогой: получаю жалованье – следовательно, существую, это даже не философия… Но где-то хлопнули двери!
Режиссер. Это идет директор.
Художник. Ах, боже мой! Вот опять хлопают двери. Я боюсь, как бы мое присутствие в этот час не показалось неуместным господину директору или Его светлости. Я ведь даже не имел еще чести быть представленным.
Режиссер. Директор очень любезный человек.
Художник. А Его светлость? У меня запотели руки от волнения. Я сошлюсь на вас, мой дорогой. Я сошлюсь на вас!
Голос директора (за сценой). Осторожнее, Ваша светлость, здесь ступеньки.
Входят двое: Его светлость – высокий человек, окутанный черным плащом, на лице черная полумаска. За ним, слегка согнувшись из почтительности, идет Директор, также высокий и также одет в черное. Лицо Директора, бритое, как у актера, сумрачно, но энергично. При малой подвижности черт оно отражает игру души лишь черными тенями. Держится он с достоинством; временами, скорее в оттенке голоса, нежели в смысле самой фразы, звучит легкое пренебрежение, почти недоброжелательство к высокому гостю.