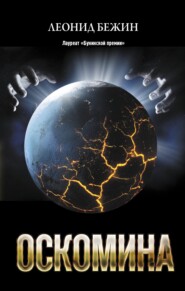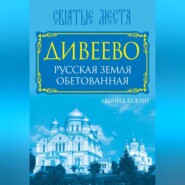По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разговорные тетради Сильвестра С.
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вообще Гаврилыч был большой любитель церковного пения. Любитель, каких когда-то было немало, а теперь осталась горстка, малый народец, с десяток на всю Москву. Особенно умилялся Гаврилыч песнопениям Страстной субботы, а «Свете тихий» не мог слышать без слез, за что корил себя, поскольку считал свои слезы признаком душевности, неуместной при храмовом действе.
И не только любитель, но и тонкий, искушенный знаток, своего рода эксперт, безошибочный оценщик (он и сам когда-то пел в хоре). Чуть поморщится Гаврилыч, досадливо кашлянет, глаза уклончиво в сторону отведет – считай, суровый разнос, беспощадный приговор, посрамление монастырскому хору, от которого потом не отмыться. Бдительно следил, чтобы выпевали всю службу целиком, без ужатий и сокращений. И всегда бранился, суковатой палкой гневливо в пол тыкал (стучал), если певчие сидели во время причастия: «Зады свои от стульев оторвать не могут, ироды окаянные!»
За все это Сильвестр Салтыков русского англичанина уважал и подолгу просиживал у него в каморке. Они вместе выпивали. Закусывали испеченными по случаю масленицы блинами с красной икрой (впрочем, икру Гаврилыч считал баловством, хотя и не брезгал ею), сваренными вкрутую яйцами или черным хлебом с селедкой, посыпанной мелко нарезанным укропом и зеленым луком.
При этом степенно беседовали о любимом предмете – любимом не только для Ричардсона, но и для самого Сильвестра, которого тот – в пару себе – считал обрусевшим итальянцем… Сильвио Салютатти (имя было изобретено Гаврилычем не без участливой помощи друга и собутыльника), помешавшимся на церковном пении.
Гаврилыч(спрашивая как бы «по роли» и от этого немного важничая). А ты, Сильвио, скучаешь по своей Италии?
Сильвестр(улыбаясь при мысли о том, что в Италии-то ему и не довелось побывать, но тем не менее тоже выдерживая «роль»). Скучаю, если по совести.
Гаврилыч. Снится она тебе?
Сильвестр. Почти каждую ночь, особенно Венеция, каналы, собор Святого Марка, тучи голубей на площади. Да и Рим тоже…
Гаврилыч(сурово подбирая губы, чтобы и самому не разнежиться и не заскучать). Ну и зря. Плюнь и разотри. Что нам эти Венеции! Там слишком сладко поют, а сладость – это не святость…
Тетрадь четвертая. Вот какой я Шиллер
1
К церковному пению я еще не раз вернусь в моих записках. Собственно, это мой основной сюжет, мой, с позволения сказать, гвоздь.
Гвоздь кованый и закаленный, с квадратной шляпкой – на нем-то все и держится. Ведь без него нам ровным счетом ничего не понять в музыкальных исканиях Сильвестра Салтыкова, может быть, последнего русского композитора, и в самой сути его великой Системы.
Впрочем, Сильвестр не очень-то и любил называть (величать) себя композитором и уж тем более последним, считая, что после него еще народятся и будут писать музыку не хуже… да что там не хуже – во много раз лучше, чем он. Но что действительно с ним уйдет и, может быть, навсегда, так это знание церковной службы, всех ее чинопоследований, молитв и акафистов, и любовь к церковному пению.
«Был дядя Коля… ну, еще, может, Гаврилыч, затем, пожалуй, – я, а после меня никого уж не будет. Вот и выходит, что тут я последний», – так он не раз говорил, имея в виду не себя лично, а особый, складывавшийся веками духовно-эстетический тип (образ) русского человека.
К этому типу он себя и причислял, завещая мне напоследок: «Если будете обо мне что-нибудь писать, марать бумагу – хотя бы и эпитафию, не забудьте упомянуть, что покойный был знатоком церковной службы и любителем церковного пения. Больше можно ничего не добавлять».
2
Но я все-таки решил добавить, раз уж мне достались эти тетради. Но что именно добавить и, главное, в какой пропорции, благо и сам Сильвестр считал пропорциональность синонимом музыкальной формы?
Как уже сказано, Сильвестр вел свои тетради всю жизнь, и я стараюсь хотя бы вкратце коснуться всех главных событий – перипетий – его жизненного пути, но все же больше пишу о детстве и юности. Собственно, там уже весь Сильвестр – вот он, есть, целиком, со всеми потрохами, страхами, восторгами, падениями, срывами, ранними прозрениями.
Не вундеркинд, хотя многие его прозрения поразительны, недаром мать и отец его даже побаиваются и называют загадочным азиатом. И все же не вундеркинд, но и не обычный – особый ребенок, в котором уже таинственно вызревала, обретала неповторимые очертания, формировалась его будущая музыка.
К тому же о его зрелом периоде уже пишут биографы, и я слышу, как – шур-шур-шур – поскрипывают их перья. Издатели их торопят, умоляют не затягивать, требуют рукопись к сроку, грозят за опоздание расторгнуть договор. Поэтому не буду отнимать у них хлеб – сдобную булку, хотя сам сижу на сухарях и воде.
Не буду, не буду (пусть не беспокоятся), тем более что о детстве и юности могу рассказать только я один, поскольку мои записки – это, пожалуй, еще и роман.
А романисту, замечу не без гордости, доступно проникновение в сферы, скрытые от рассудочного ума ученого.
Словом, в моих руках магический карбункул, хотя, может быть, я и обольщаюсь, и приписываю себе то, чего на самом деле начисто лишен. С магическим-то стал бы я забегать вперед, топтаться на месте или бежать вслед за своим поездом, благополучно покинувшим платформу вокзала?
3
Помимо разговорных тетрадей, этого главного источника сведений о Сильвестре, я, разумеется, пользовался и другими источниками. Источниками разной степени надежности, и, признаюсь, ненадежные как-то по-особому жаловал (жалел), предпочитал. Так сказать, не брезгал, не гнушался… Их ненадежность (а она бывает разная – вплоть до неблагонадежности) меня, романиста, и притягивала, как Сильвестра притягивали всякого рода музыкальные апокрифы вроде стихир Ивана Грозного. Попробуй разберись, он ли автор, а вот поди ж ты…
Я слышал от Салтыковых, что у них в семье хранилась эта реликвия – письмо Николая Карловича Метнера, композитора, пианиста, друга Рахманинова. Впрочем, реликвией оно долго не признавалось, и Салтыковы предпочитали лишний раз о нем не упоминать – помалкивали и уж тем более не выносили из дальней комнаты и никому не показывали. Они опасались (и на это были веские причины), как бы письмо им не навредило, не бросило на них подозрения, не навлекло беды.
Все-таки Метнер – при всей своей честности и благородстве – эмигрант, живет за границей, и, хотя мечтает вернуться, возвращение на родину ему заказано. Один раз впустили на гастроли, дали ангажемент, что называется, и на этом оборвалась веревочка (слава богу, не обернулась петлей).
Отсюда и риски для них, Салтыковых. Не дай бог обнаружат это письмо при обыске (а сейчас от обысков никто не застрахован, был бы предлог: могут нагрянуть в любой момент), и как тогда оправдываться, объясняться? Правда, адресовано это письмо не им, а Александру Федоровичу Гедике, композитору, органисту, человеку милейшему и тишайшему, всегда при галстуке, с усами и седенькой интеллигентской бородкой.
Но все равно спросят, станут допытываться: «Откуда письмо? Как оно к вам попало? Зачем храните?»
Правду сказать – не поверят. А выворачиваться, финтить, что-то придумывать – еще хуже: обличат во лжи, вымажут грязью, ярлыков навешают так, что и не отмоешься. Сам поверишь, что ты затаившийся враг и вредитель.
И хотели Салтыковы от письма тихонько избавиться – разорвать на клочки и сжечь или выбросить. Но Сильвестр не позволил, унес к себе и спрятал подальше (так оно в конце концов попало ко мне). Объяснил это тем, что письмо было передано ему на хранение самим адресатом – тишайшим и милейшим Александром Федоровичем.
Тишайшим и – хочется добавить – трусоватым. Оттого и руки у него дрожали. Очень уж боялся, как бы не всплыло, что у него есть родственник за границей – Николай Карлович Метнер. Родственник, правда, дальний, седьмая вода на киселе, но все-таки этим киселем ему могут при случае и физиономию вымазать, в этот кисель носом ткнуть.
Ткнуть так, чтобы он забулькал, чтобы от вашего дыхания (сопения) пузыри пошли.
Что ж вы, – скажут, – мараете нотную бумагу, воспеваете подвиги наших летчиков, славите Великий Октябрь, о Сталинской премии мечтаете, а сами? Сами-то камень за пазухой держите, лазейку для бегства ищете, с эмигрантским логовом переписываетесь.
И потянут на Лубянку, а там допросы, мордобой, этапы, тюрьмы, лагеря.
4
Вот Александр Федорович и попросил Сильвестра забрать письмо – от греха подальше. Он даже не решился произнести свою просьбу вслух (разговор происходил в консерваторском классе, куда то и дело заглядывали студенты), а написал на клочке бумаги: «Умоляю, заберите это».
Написал неразборчиво – руки дрожали и буквы прыгали. Сильвестру даже не показал – не захотел позориться, а скомкал, разорвал и выбросил в окно. Тогда Сильвестр достал и раскрыл на чистой странице свою тетрадь. Александр Федорович немного успокоился, и произошел меж ними такой разговор:
Гедике(озираясь по сторонам и доставая письмо). Вот хотел вам показать сию корреспонденцию… Может, заинтересуетесь. От Метнера.
Сильвестр. От Николая Карловича? Он же ваш родственник…
Гедике(с выражением панического испуга в глазах). Т-с-с. Родственник – не родственник, а что вы тут, знаете ли, подчеркиваете, акцентируете… Я не анкету заполняю.
Сильвестр. Да я бы гордился… замечательный композитор, слава России…
Гедике. А я, сударь мой, не горжусь. Вот представьте себе, не горжусь. В наше время иметь родственника за границей… Можно потерять все самое дорогое.
Сильвестр. Вы о семье, о детях?
Гедике. Голубчик, у нас с женой нет своих детей. Мы воспитываем моих племянниц.
Сильвестр. Тогда что же вы так боитесь потерять?
Гедике. Господи боже мой, орган! Мой любимый орган из Большого зала консерватории. Это же сокровище. Ему цены нет.
Сильвестр. Куда же он денется? Как стоял, так и будет стоять.
Гедике. Милый мой, спросите лучше, куда я денусь. На Колыму, в Магадан, в мордовские лагеря?
И не только любитель, но и тонкий, искушенный знаток, своего рода эксперт, безошибочный оценщик (он и сам когда-то пел в хоре). Чуть поморщится Гаврилыч, досадливо кашлянет, глаза уклончиво в сторону отведет – считай, суровый разнос, беспощадный приговор, посрамление монастырскому хору, от которого потом не отмыться. Бдительно следил, чтобы выпевали всю службу целиком, без ужатий и сокращений. И всегда бранился, суковатой палкой гневливо в пол тыкал (стучал), если певчие сидели во время причастия: «Зады свои от стульев оторвать не могут, ироды окаянные!»
За все это Сильвестр Салтыков русского англичанина уважал и подолгу просиживал у него в каморке. Они вместе выпивали. Закусывали испеченными по случаю масленицы блинами с красной икрой (впрочем, икру Гаврилыч считал баловством, хотя и не брезгал ею), сваренными вкрутую яйцами или черным хлебом с селедкой, посыпанной мелко нарезанным укропом и зеленым луком.
При этом степенно беседовали о любимом предмете – любимом не только для Ричардсона, но и для самого Сильвестра, которого тот – в пару себе – считал обрусевшим итальянцем… Сильвио Салютатти (имя было изобретено Гаврилычем не без участливой помощи друга и собутыльника), помешавшимся на церковном пении.
Гаврилыч(спрашивая как бы «по роли» и от этого немного важничая). А ты, Сильвио, скучаешь по своей Италии?
Сильвестр(улыбаясь при мысли о том, что в Италии-то ему и не довелось побывать, но тем не менее тоже выдерживая «роль»). Скучаю, если по совести.
Гаврилыч. Снится она тебе?
Сильвестр. Почти каждую ночь, особенно Венеция, каналы, собор Святого Марка, тучи голубей на площади. Да и Рим тоже…
Гаврилыч(сурово подбирая губы, чтобы и самому не разнежиться и не заскучать). Ну и зря. Плюнь и разотри. Что нам эти Венеции! Там слишком сладко поют, а сладость – это не святость…
Тетрадь четвертая. Вот какой я Шиллер
1
К церковному пению я еще не раз вернусь в моих записках. Собственно, это мой основной сюжет, мой, с позволения сказать, гвоздь.
Гвоздь кованый и закаленный, с квадратной шляпкой – на нем-то все и держится. Ведь без него нам ровным счетом ничего не понять в музыкальных исканиях Сильвестра Салтыкова, может быть, последнего русского композитора, и в самой сути его великой Системы.
Впрочем, Сильвестр не очень-то и любил называть (величать) себя композитором и уж тем более последним, считая, что после него еще народятся и будут писать музыку не хуже… да что там не хуже – во много раз лучше, чем он. Но что действительно с ним уйдет и, может быть, навсегда, так это знание церковной службы, всех ее чинопоследований, молитв и акафистов, и любовь к церковному пению.
«Был дядя Коля… ну, еще, может, Гаврилыч, затем, пожалуй, – я, а после меня никого уж не будет. Вот и выходит, что тут я последний», – так он не раз говорил, имея в виду не себя лично, а особый, складывавшийся веками духовно-эстетический тип (образ) русского человека.
К этому типу он себя и причислял, завещая мне напоследок: «Если будете обо мне что-нибудь писать, марать бумагу – хотя бы и эпитафию, не забудьте упомянуть, что покойный был знатоком церковной службы и любителем церковного пения. Больше можно ничего не добавлять».
2
Но я все-таки решил добавить, раз уж мне достались эти тетради. Но что именно добавить и, главное, в какой пропорции, благо и сам Сильвестр считал пропорциональность синонимом музыкальной формы?
Как уже сказано, Сильвестр вел свои тетради всю жизнь, и я стараюсь хотя бы вкратце коснуться всех главных событий – перипетий – его жизненного пути, но все же больше пишу о детстве и юности. Собственно, там уже весь Сильвестр – вот он, есть, целиком, со всеми потрохами, страхами, восторгами, падениями, срывами, ранними прозрениями.
Не вундеркинд, хотя многие его прозрения поразительны, недаром мать и отец его даже побаиваются и называют загадочным азиатом. И все же не вундеркинд, но и не обычный – особый ребенок, в котором уже таинственно вызревала, обретала неповторимые очертания, формировалась его будущая музыка.
К тому же о его зрелом периоде уже пишут биографы, и я слышу, как – шур-шур-шур – поскрипывают их перья. Издатели их торопят, умоляют не затягивать, требуют рукопись к сроку, грозят за опоздание расторгнуть договор. Поэтому не буду отнимать у них хлеб – сдобную булку, хотя сам сижу на сухарях и воде.
Не буду, не буду (пусть не беспокоятся), тем более что о детстве и юности могу рассказать только я один, поскольку мои записки – это, пожалуй, еще и роман.
А романисту, замечу не без гордости, доступно проникновение в сферы, скрытые от рассудочного ума ученого.
Словом, в моих руках магический карбункул, хотя, может быть, я и обольщаюсь, и приписываю себе то, чего на самом деле начисто лишен. С магическим-то стал бы я забегать вперед, топтаться на месте или бежать вслед за своим поездом, благополучно покинувшим платформу вокзала?
3
Помимо разговорных тетрадей, этого главного источника сведений о Сильвестре, я, разумеется, пользовался и другими источниками. Источниками разной степени надежности, и, признаюсь, ненадежные как-то по-особому жаловал (жалел), предпочитал. Так сказать, не брезгал, не гнушался… Их ненадежность (а она бывает разная – вплоть до неблагонадежности) меня, романиста, и притягивала, как Сильвестра притягивали всякого рода музыкальные апокрифы вроде стихир Ивана Грозного. Попробуй разберись, он ли автор, а вот поди ж ты…
Я слышал от Салтыковых, что у них в семье хранилась эта реликвия – письмо Николая Карловича Метнера, композитора, пианиста, друга Рахманинова. Впрочем, реликвией оно долго не признавалось, и Салтыковы предпочитали лишний раз о нем не упоминать – помалкивали и уж тем более не выносили из дальней комнаты и никому не показывали. Они опасались (и на это были веские причины), как бы письмо им не навредило, не бросило на них подозрения, не навлекло беды.
Все-таки Метнер – при всей своей честности и благородстве – эмигрант, живет за границей, и, хотя мечтает вернуться, возвращение на родину ему заказано. Один раз впустили на гастроли, дали ангажемент, что называется, и на этом оборвалась веревочка (слава богу, не обернулась петлей).
Отсюда и риски для них, Салтыковых. Не дай бог обнаружат это письмо при обыске (а сейчас от обысков никто не застрахован, был бы предлог: могут нагрянуть в любой момент), и как тогда оправдываться, объясняться? Правда, адресовано это письмо не им, а Александру Федоровичу Гедике, композитору, органисту, человеку милейшему и тишайшему, всегда при галстуке, с усами и седенькой интеллигентской бородкой.
Но все равно спросят, станут допытываться: «Откуда письмо? Как оно к вам попало? Зачем храните?»
Правду сказать – не поверят. А выворачиваться, финтить, что-то придумывать – еще хуже: обличат во лжи, вымажут грязью, ярлыков навешают так, что и не отмоешься. Сам поверишь, что ты затаившийся враг и вредитель.
И хотели Салтыковы от письма тихонько избавиться – разорвать на клочки и сжечь или выбросить. Но Сильвестр не позволил, унес к себе и спрятал подальше (так оно в конце концов попало ко мне). Объяснил это тем, что письмо было передано ему на хранение самим адресатом – тишайшим и милейшим Александром Федоровичем.
Тишайшим и – хочется добавить – трусоватым. Оттого и руки у него дрожали. Очень уж боялся, как бы не всплыло, что у него есть родственник за границей – Николай Карлович Метнер. Родственник, правда, дальний, седьмая вода на киселе, но все-таки этим киселем ему могут при случае и физиономию вымазать, в этот кисель носом ткнуть.
Ткнуть так, чтобы он забулькал, чтобы от вашего дыхания (сопения) пузыри пошли.
Что ж вы, – скажут, – мараете нотную бумагу, воспеваете подвиги наших летчиков, славите Великий Октябрь, о Сталинской премии мечтаете, а сами? Сами-то камень за пазухой держите, лазейку для бегства ищете, с эмигрантским логовом переписываетесь.
И потянут на Лубянку, а там допросы, мордобой, этапы, тюрьмы, лагеря.
4
Вот Александр Федорович и попросил Сильвестра забрать письмо – от греха подальше. Он даже не решился произнести свою просьбу вслух (разговор происходил в консерваторском классе, куда то и дело заглядывали студенты), а написал на клочке бумаги: «Умоляю, заберите это».
Написал неразборчиво – руки дрожали и буквы прыгали. Сильвестру даже не показал – не захотел позориться, а скомкал, разорвал и выбросил в окно. Тогда Сильвестр достал и раскрыл на чистой странице свою тетрадь. Александр Федорович немного успокоился, и произошел меж ними такой разговор:
Гедике(озираясь по сторонам и доставая письмо). Вот хотел вам показать сию корреспонденцию… Может, заинтересуетесь. От Метнера.
Сильвестр. От Николая Карловича? Он же ваш родственник…
Гедике(с выражением панического испуга в глазах). Т-с-с. Родственник – не родственник, а что вы тут, знаете ли, подчеркиваете, акцентируете… Я не анкету заполняю.
Сильвестр. Да я бы гордился… замечательный композитор, слава России…
Гедике. А я, сударь мой, не горжусь. Вот представьте себе, не горжусь. В наше время иметь родственника за границей… Можно потерять все самое дорогое.
Сильвестр. Вы о семье, о детях?
Гедике. Голубчик, у нас с женой нет своих детей. Мы воспитываем моих племянниц.
Сильвестр. Тогда что же вы так боитесь потерять?
Гедике. Господи боже мой, орган! Мой любимый орган из Большого зала консерватории. Это же сокровище. Ему цены нет.
Сильвестр. Куда же он денется? Как стоял, так и будет стоять.
Гедике. Милый мой, спросите лучше, куда я денусь. На Колыму, в Магадан, в мордовские лагеря?