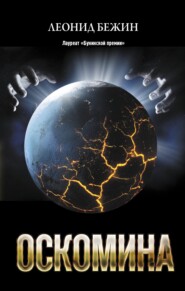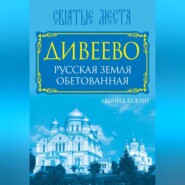По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разговорные тетради Сильвестра С.
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я. У друзей занимает. Однажды у самого Николая Яковлевича Мясковского – своего консерваторского профессора – одолжился. Тот не отказал, добрейший и деликатнейший человек. Зато Сильвестр дарил ему к дням рождения галстуки, ноты и грибные корзины, чтобы тот не рассовывал найденные грибы по карманам и не завертывал их в носовой платок.
Елена Оскаровна. Ну уж это вряд ли… Подарить-то он может, но мой сын слишком горд, чтобы одалживаться. Вы, наверное, его кредитуете…
Я. Бывает и так. По мере возможностей.
Елена Оскаровна. А что за девицы с ним?
Я. Разные… Есть и бывшие монахини, и бывшие актрисы.
Елена Оскаровна. Откуда он их берет?
Я. Они сами его находят.
Елена Оскаровна. Жениться не собирается?
Я. Нет. Для него пример – одинокий Мясковский, верный рыцарь музыки. А если женится, то лишь с вашего благословения.
Елена Оскаровна. Спасибо. Успокоил.
…Лет через семь, за год до войны, я отправлял Сильвестру в лагерь посылки с едой и теплыми вещами. Судя по письмам, он уже был не тот, что раньше. Исхудал. Посуровел. А когда его сослали под Караганду, где он покаялся и обратился, то я как добровольный келейник служил Сильвестру в его одиноком молитвенном затворничестве (запасал дрова, собирал ягоды, сушил грибы, ставил перед дверью чугунок с кашей).
Поэтому не отрекаюсь, нет.
Напротив, готов постоять за истину – поручиться и откровенно всем поведать, как мне попали в руки эти тетради. Да, готов, готов в любую минуту, лишь бы нашлись желающие выслушать, пусть даже обмануть меня выражением показного сочувствия и притворной участливости, ведь я сам обманываться рад.
Но куда там – слушать-то никто и не хочет: как это часто бывает, неподдельный интерес оказывается грубой, аляповатой подделкой. Зато все помешались на том, чтобы плодить и множить свои собственные фантастические домыслы и догадки о происхождении тетрадей.
Иными словами, самозабвенно высиживать яйца, снесенные химерой – курицей с ослиной головой, ястребиным клювом и павлиньими перьями.
Тетрадь третья. Русский англичанин
1
По самому распространенному мнению, Сильвестр Салтыков завещал мне эти тетради, о чем якобы свидетельствует документ на трех страницах, заверенный купоросным старичком нотариусом, прошитый красным шнурком и скрепленный сургучной (цвета забродившей винной ягоды) печатью. И якобы хранится этот документ в моем банковском колумбарии, под наборным замком, что доказывает мою избранность, мою особую близость к учителю, мое, если угодно, апостольство.
Я бы, конечно, хотел – даже мечтал, чтобы это было так. Но, увы, если и способен быть служкой и нянькой, выставлять перед дверью чугунок с кашей (или распаренной репой), в апостолы все же не гожусь и подобной чести не достоин.
Не достоин, хотя Сильвестр Салтыков и пробовал возводить меня в апостольство. Он терпеливо, методично, по своей системе занимался со мной крюками и знаменами, учил их названиям, подробно втолковывал, в чем отличие Пути от Демества. Но – при всем моем почтительном отношении к знаменному распеву – мне эта наука (если честно, без лукавства) давалась с превеликим трудом.
Впрочем, буду до конца откровенен: совсем не давалась.
Иной раз упарюсь и взмокну, толку же никакого – что твой отрок Варфоломей до явления ему старца. Уж я, простите, привык к обычным пяти линеечкам – до, ре, ми, фа, соль. А всякие там голубцы, стрелы, киноварные пометы – для меня темный лес, непроходимые дебри.
Я и службы-то церковной до конца выстоять не могу. Все малодушно и воровато поглядываю по сторонам, куда бы присесть (ноги гудят и подгибаются).
А уж подпевать моим дрожащим, козлиным тенорком хору и вовсе не пытаюсь.
Избавьте! Увольте!
2
Но не гожусь не только поэтому, а еще и потому, что никогда не дерзал уподобиться учителю в главном священнодействии – сочинении музыки. Тайком, для себя я, может быть, что-то и пробовал черкнуть и набросать, марал нотную бумагу. И даже по ночам, когда пламя свечи выхватывало из аспидной тьмы резной пюпитр рояля, часть пожелтевшей от времени клавиатуры, граненую, рюмочно-тонкую у основания ногу с раздвоенным медным колесиком, тускло мерцавшие педали, разведенные головками в противоположные стороны, и полную окурков мраморную пепельницу, когда кружилась голова от лихорадочных восторгов и упоения собственным творчеством, готов был произвести себя в гении.
Но утром, стоило зыбко высветиться, а затем окраситься в цвет раздавленной клюквы краю облачного неба, от моих восторгов ничего не оставалось. Я сам себя разжаловал из гениев в рядовые. Мне не хотелось смотреть на измаранную за ночь нотную бумагу. Я все зачеркивал, комкал и выбрасывал в корзину.
Нет, не дано, не сподобил Господь, не стоит и пытаться.
И уж, конечно же, ничего из написанного учителю я не показывал – упаси боже. И не потому, что так уж боялся разноса: нет, причина в другом. Чего греха таить – я ведь преступил: был у меня такой период (к счастью, недолгий). Был, был – чего уж там – поддался я наваждению (от сознания собственного бессилия, конечно). Подражая Новой венской школе, великим Арнольду и Антону (Шёнбергу и Веберну), я тайком испытывал себя в серии, додекафонной технике, атональном письме. Да и джазовых гармоний и ритмов подчас норовил подпустить – каюсь.
А для учителя, узнай он о моих опытах, это был бы поцелуй Иуды (или примешанный к вину яд Сальери).
Но и в джазе, и додекафонной технике я, увы, не преуспел: музыки от этого не прибавилось…
Наверное, я из той породы музыкантов, которые разберут вам по косточкам сюиту Баха, симфонию Бетховена, оперу Вагнера, балет Чайковского или Прокофьева, скрипичный концерт Берга, но сами не напишут и двух тактов настоящей музыки. Нас называют музыковедами, теоретиками, биографами великих. И порой мы отважно писательствуем, бойко строчим и выпускаем книги, даже в романистику можем удариться и сорвать шумный успех, как иному скверному и порочному старичку удается сорвать поцелуй молодой, красивой, безоружной перед наглостью женщины, но все это от бессилия.
Бессилия перед музыкой, которая гораздо выше вымученных романов и поэтому есть единственное истинное избранничество, единственное апостольство. А тем более такая божественная музыка, какую писал, вернее, воскрешал из небытия Сильвестр Салтыков…
3
Однако вернемся к мнениям.
Итак, наследства я не получал. Таким образом, одно из мнений можно отнести в разряд вздорных, нелепых, даже фантастических и со спокойной совестью похерить. Р-раз, два – и нету!
С этим покончено.
Другие считают, что, воспользовавшись бедственным положением семьи умершего, я выкупил разговорные тетради, причем заплатил за них по щедрости своей жалкие гроши. Попутно прихватил и антикварную, старинной работы лаковую мебель: кресла, диваны, инкрустированные слоновой костью бюро, секретеры, орехового цвета фисгармонию с накрывающей клавиши вышитой дорожкой (рукоделие Елены Оскаровны), поставец эпохи Лжедмитрия.
В шестидесятые годы все это москвичи без всякой жалости выбрасывали, выносили во двор как старую рухлядь. А Сильвестр жалел, восстанавливал, ремонтировал. Где-то для крепости клинышек вобьет, где-то недостающую резьбу искусно выточит, где лаком покроет и еще умудрится этот лак состарить, затемнить, лишить ненужного блеска.
Помню его в фартуке, пропахшего столярным клеем, обсыпанного стружками, с рубанками, фуганками, молотками и молоточками разного калибра.
Волосы схвачены красным шнурком, как у мастерового, губы от усердия сжаты, втянуты вовнутрь…
Я. Бог в помощь, учитель. Не помешаю? А вы и в этом деле мастер.
Сильвестр(сметая с верстака стружки и опилки). Меня в детстве учили. У нас был сосед – столяр-краснодеревщик. И тоже музыку сочинял, хотя и не записывал. Сочинял для гармошки и балалайки.
Я(присаживаясь на край верстака). Так что, получается, эти искусства родственные, от единого корня – сочинение музыки и столярное дело.
Сильвестр(тоже присаживаясь, снимая фартук и вешая на гвоздь). И к тому же у каждой старинной вещи свой распев. Есть мебель украшенная, концертная, партесная, как церковная музыка при Петре. Мебель для услаждения чресел, покоя и неги, но не для молитвы. А есть – простая, суровая, одноголосная, как знаменный распев: молитвенная…
Я. И все это со свалки?
Сильвестр. Кое-что из брошенных домов. Хозяева уехали, а мебель оставили. Кое-что по знакомству мне отдали, зная, что я столярничаю. И главное, никто не попросил после ремонта вернуть. Никому она не нужна.
Я. Это такая красота-то?
Сильвестр. И не только красота. Здесь есть письменный стол композитора Ребикова, написавшего оперу «Елка». Есть шарик, свинченный с кровати Танеева. Есть треснувшее зеркало, в которое перед смертью смотрелся Скрябин. Реликвии! Но и они оказались не нужны потомкам. Один из потомков мне так и сказал: «Забирайте вы эту рухлядь». Я и забрал.
Елена Оскаровна. Ну уж это вряд ли… Подарить-то он может, но мой сын слишком горд, чтобы одалживаться. Вы, наверное, его кредитуете…
Я. Бывает и так. По мере возможностей.
Елена Оскаровна. А что за девицы с ним?
Я. Разные… Есть и бывшие монахини, и бывшие актрисы.
Елена Оскаровна. Откуда он их берет?
Я. Они сами его находят.
Елена Оскаровна. Жениться не собирается?
Я. Нет. Для него пример – одинокий Мясковский, верный рыцарь музыки. А если женится, то лишь с вашего благословения.
Елена Оскаровна. Спасибо. Успокоил.
…Лет через семь, за год до войны, я отправлял Сильвестру в лагерь посылки с едой и теплыми вещами. Судя по письмам, он уже был не тот, что раньше. Исхудал. Посуровел. А когда его сослали под Караганду, где он покаялся и обратился, то я как добровольный келейник служил Сильвестру в его одиноком молитвенном затворничестве (запасал дрова, собирал ягоды, сушил грибы, ставил перед дверью чугунок с кашей).
Поэтому не отрекаюсь, нет.
Напротив, готов постоять за истину – поручиться и откровенно всем поведать, как мне попали в руки эти тетради. Да, готов, готов в любую минуту, лишь бы нашлись желающие выслушать, пусть даже обмануть меня выражением показного сочувствия и притворной участливости, ведь я сам обманываться рад.
Но куда там – слушать-то никто и не хочет: как это часто бывает, неподдельный интерес оказывается грубой, аляповатой подделкой. Зато все помешались на том, чтобы плодить и множить свои собственные фантастические домыслы и догадки о происхождении тетрадей.
Иными словами, самозабвенно высиживать яйца, снесенные химерой – курицей с ослиной головой, ястребиным клювом и павлиньими перьями.
Тетрадь третья. Русский англичанин
1
По самому распространенному мнению, Сильвестр Салтыков завещал мне эти тетради, о чем якобы свидетельствует документ на трех страницах, заверенный купоросным старичком нотариусом, прошитый красным шнурком и скрепленный сургучной (цвета забродившей винной ягоды) печатью. И якобы хранится этот документ в моем банковском колумбарии, под наборным замком, что доказывает мою избранность, мою особую близость к учителю, мое, если угодно, апостольство.
Я бы, конечно, хотел – даже мечтал, чтобы это было так. Но, увы, если и способен быть служкой и нянькой, выставлять перед дверью чугунок с кашей (или распаренной репой), в апостолы все же не гожусь и подобной чести не достоин.
Не достоин, хотя Сильвестр Салтыков и пробовал возводить меня в апостольство. Он терпеливо, методично, по своей системе занимался со мной крюками и знаменами, учил их названиям, подробно втолковывал, в чем отличие Пути от Демества. Но – при всем моем почтительном отношении к знаменному распеву – мне эта наука (если честно, без лукавства) давалась с превеликим трудом.
Впрочем, буду до конца откровенен: совсем не давалась.
Иной раз упарюсь и взмокну, толку же никакого – что твой отрок Варфоломей до явления ему старца. Уж я, простите, привык к обычным пяти линеечкам – до, ре, ми, фа, соль. А всякие там голубцы, стрелы, киноварные пометы – для меня темный лес, непроходимые дебри.
Я и службы-то церковной до конца выстоять не могу. Все малодушно и воровато поглядываю по сторонам, куда бы присесть (ноги гудят и подгибаются).
А уж подпевать моим дрожащим, козлиным тенорком хору и вовсе не пытаюсь.
Избавьте! Увольте!
2
Но не гожусь не только поэтому, а еще и потому, что никогда не дерзал уподобиться учителю в главном священнодействии – сочинении музыки. Тайком, для себя я, может быть, что-то и пробовал черкнуть и набросать, марал нотную бумагу. И даже по ночам, когда пламя свечи выхватывало из аспидной тьмы резной пюпитр рояля, часть пожелтевшей от времени клавиатуры, граненую, рюмочно-тонкую у основания ногу с раздвоенным медным колесиком, тускло мерцавшие педали, разведенные головками в противоположные стороны, и полную окурков мраморную пепельницу, когда кружилась голова от лихорадочных восторгов и упоения собственным творчеством, готов был произвести себя в гении.
Но утром, стоило зыбко высветиться, а затем окраситься в цвет раздавленной клюквы краю облачного неба, от моих восторгов ничего не оставалось. Я сам себя разжаловал из гениев в рядовые. Мне не хотелось смотреть на измаранную за ночь нотную бумагу. Я все зачеркивал, комкал и выбрасывал в корзину.
Нет, не дано, не сподобил Господь, не стоит и пытаться.
И уж, конечно же, ничего из написанного учителю я не показывал – упаси боже. И не потому, что так уж боялся разноса: нет, причина в другом. Чего греха таить – я ведь преступил: был у меня такой период (к счастью, недолгий). Был, был – чего уж там – поддался я наваждению (от сознания собственного бессилия, конечно). Подражая Новой венской школе, великим Арнольду и Антону (Шёнбергу и Веберну), я тайком испытывал себя в серии, додекафонной технике, атональном письме. Да и джазовых гармоний и ритмов подчас норовил подпустить – каюсь.
А для учителя, узнай он о моих опытах, это был бы поцелуй Иуды (или примешанный к вину яд Сальери).
Но и в джазе, и додекафонной технике я, увы, не преуспел: музыки от этого не прибавилось…
Наверное, я из той породы музыкантов, которые разберут вам по косточкам сюиту Баха, симфонию Бетховена, оперу Вагнера, балет Чайковского или Прокофьева, скрипичный концерт Берга, но сами не напишут и двух тактов настоящей музыки. Нас называют музыковедами, теоретиками, биографами великих. И порой мы отважно писательствуем, бойко строчим и выпускаем книги, даже в романистику можем удариться и сорвать шумный успех, как иному скверному и порочному старичку удается сорвать поцелуй молодой, красивой, безоружной перед наглостью женщины, но все это от бессилия.
Бессилия перед музыкой, которая гораздо выше вымученных романов и поэтому есть единственное истинное избранничество, единственное апостольство. А тем более такая божественная музыка, какую писал, вернее, воскрешал из небытия Сильвестр Салтыков…
3
Однако вернемся к мнениям.
Итак, наследства я не получал. Таким образом, одно из мнений можно отнести в разряд вздорных, нелепых, даже фантастических и со спокойной совестью похерить. Р-раз, два – и нету!
С этим покончено.
Другие считают, что, воспользовавшись бедственным положением семьи умершего, я выкупил разговорные тетради, причем заплатил за них по щедрости своей жалкие гроши. Попутно прихватил и антикварную, старинной работы лаковую мебель: кресла, диваны, инкрустированные слоновой костью бюро, секретеры, орехового цвета фисгармонию с накрывающей клавиши вышитой дорожкой (рукоделие Елены Оскаровны), поставец эпохи Лжедмитрия.
В шестидесятые годы все это москвичи без всякой жалости выбрасывали, выносили во двор как старую рухлядь. А Сильвестр жалел, восстанавливал, ремонтировал. Где-то для крепости клинышек вобьет, где-то недостающую резьбу искусно выточит, где лаком покроет и еще умудрится этот лак состарить, затемнить, лишить ненужного блеска.
Помню его в фартуке, пропахшего столярным клеем, обсыпанного стружками, с рубанками, фуганками, молотками и молоточками разного калибра.
Волосы схвачены красным шнурком, как у мастерового, губы от усердия сжаты, втянуты вовнутрь…
Я. Бог в помощь, учитель. Не помешаю? А вы и в этом деле мастер.
Сильвестр(сметая с верстака стружки и опилки). Меня в детстве учили. У нас был сосед – столяр-краснодеревщик. И тоже музыку сочинял, хотя и не записывал. Сочинял для гармошки и балалайки.
Я(присаживаясь на край верстака). Так что, получается, эти искусства родственные, от единого корня – сочинение музыки и столярное дело.
Сильвестр(тоже присаживаясь, снимая фартук и вешая на гвоздь). И к тому же у каждой старинной вещи свой распев. Есть мебель украшенная, концертная, партесная, как церковная музыка при Петре. Мебель для услаждения чресел, покоя и неги, но не для молитвы. А есть – простая, суровая, одноголосная, как знаменный распев: молитвенная…
Я. И все это со свалки?
Сильвестр. Кое-что из брошенных домов. Хозяева уехали, а мебель оставили. Кое-что по знакомству мне отдали, зная, что я столярничаю. И главное, никто не попросил после ремонта вернуть. Никому она не нужна.
Я. Это такая красота-то?
Сильвестр. И не только красота. Здесь есть письменный стол композитора Ребикова, написавшего оперу «Елка». Есть шарик, свинченный с кровати Танеева. Есть треснувшее зеркало, в которое перед смертью смотрелся Скрябин. Реликвии! Но и они оказались не нужны потомкам. Один из потомков мне так и сказал: «Забирайте вы эту рухлядь». Я и забрал.