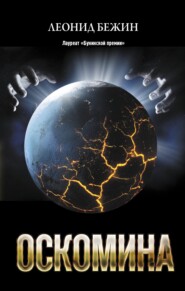По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Подлинная история Любки Фейгельман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но рядом с аптекой нет никакой библиотеки.
– Есть. Ее недавно открыли.
– Так-так. В таком случае поведай мне, дружок, – она принимала позу проводящей опрос учительницы, – где находится Флибустьерское море?
Я не мог ничего ответить, кроме как:
– В Флибустьерии.
Такой ответ ее не удовлетворял, хотя как мудрая учительница она старалась и поругать, и похвалить:
– Пятерка за находчивость и двойка за знания. Флибустьерское море – это море Карибское.
В кафе мы танцевали – под музыку джаз-банда. Любка забрасывала руки мне на плечи, смотрела в лицо, приглаживала волосы, оглядывала меня и говорила с задумчивостью:
– Зимой ты перестаешь быть белобрысым, а становишься шатеном или даже брюнетом.
На нас все смотрели, особенно нагло и беззастенчиво трубач. Его наглость меня бесила, я не знал, чем ему ответить, и назло трубачу, а вместе с ним – всему кафе и всему миру жадно целовал Любку. Целовал так, словно мы одни и никого вокруг.
После этого трубач мне однажды сказал с затаенной угрозой, выждав момент, когда нас никто больше не слышал:
– Молодой человек, это пошло – так демонстрировать права на вашу девушку.
Сказал – как ударил, хлестко, наотмашь, как дают пощечину. Хотя лучше, если б и впрямь ударил, нежели сказал, поскольку тогда я мог бы ему ответить, а сейчас пристыженно промолчал и с независимым видом отвернулся.
Отвернулся, покраснев до корней волос, и в этом лихорадочном румянце независимости было явно меньше, чем стыда.
А может, и не было вовсе.
Глава тринадцатая. Зверски и загадочно
Или ты забыла
кресло бельэтажа,
оперу «Русалка»,
пьесу «Ревизор»,
гладкие дорожки
сада «Эрмитажа»,
долгий несерьезный
тихий разговор?
Ночи до рассвета,
до моих трамваев?
Что это случилось?
Как это поймешь?
Почему сегодня
Ты стоишь другая?
Почему с другими
ходишь и поешь?
Нет, разговор был очень серьезный, и происходил он не на гладких дорожках сада «Эрмитаж», а совсем в другом месте. Когда так говорят, то обычно подразумевают под другим местом Лубянку, но, слава богу, в этом смысле обошлось. И я подверстал другое место к строкам: «ты стоишь другая», «с другими ходишь и поешь». Хотя меня так и подмывает внести поправку – этакую поправочку (от слова попрать): не ходишь и поешь, а пляшешь и поешь, поскольку Любка и впрямь отплясывала – будь здоров! – с другими-то (не со мной, способным лишь старомодно и неумело вальсировать). Но об этом после, после…
Лубянка же попалась мне на язык потому, что пьесу «Ревизор» мы смотрели в Театре имени Мейерхольда. Смотрели в день его закрытия карающими органами рабоче-крестьянской власти, аккурат на 440-м представлении. Сам Мейерхольд был арестован 20 июня 1939 года, когда мы с Любкой вновь катались на лодке в ВЦПКиО (по воде плавал тополиный пух), а затем прыгали с парашютом. Через двадцать четыре дня Москву облетела ужасная весть: в своей квартире была зверски и загадочно убита Зинаида Райх, немка по отцу, жена Мейерхольда.
Кто убил – неизвестно, но об этом наш долгий и тихий разговор. Автор не решился назвать его серьезным, поскольку это воспринималось бы как прозрачный намек. За серьезные разговоры можно было и срок схлопотать. Поэтому он правильно поступил, и лучше не рисковать: долгий несерьезный тихий разговор.
Во всяком случае, вполне безопасно, да и не сбиваешься с ритма. Хотя по смыслу – да и по стилистике, коей я как дворовый поэт, пишущий прозой на стенах, не чужд – несерьезный с долгим и тихим никак не вяжется. Тут явное противоречие или, как любила повторять сестра Любки, музыкантша, игравшая на пианино, привезенном из Риги, явный диссонанс.
Вот в какие темные дебри увела нас пьеса «Ревизор» и какие связаны с ней события, с этой пьесой. Автор стихов о них умалчивает, я же не могу хотя бы вскользь не упомянуть, поскольку от них «кровавый отсвет в лицах есть», как сказано другим поэтом, покрупнее, хотя и умершим намного раньше.
Словом, было это, похожее на тот самый тополиный пух, а теперь начинается другое…
«Русалку» мы слушали и смотрели, понятное дело, в Большом театре. Билеты нам достал отец Любки (чудом успел за несколько дней до своего ареста). Автор стихов прав: кресла у нас были в бельэтаже. И Любка весь спектакль толкала меня локтем в бок: «Смотри! Смотри!» Ей мало было, чтобы я слушал, слегка прикрыв ладонью глаза, а требовалось, чтобы я непременно смотрел.
Смотрел на знаменитые декорации Федора Федоровского тридцать седьмого года, который окажется роковым для семейства Фойгельман, хотя мы тогда еще об этом не знали…
Ну а дорожки сада «Эрмитаж»? Неужели лишь всуе помянуты и нами с Любкой не хожены? Нет, на этих дорожках встречен мною соперник, и соперник посерьезнее, чем тот трубач в кафе, где блистала Любка…
Глава четырнадцатая. Цфасман неотразимый
Не помню, как появился в нашей дворовой компании сын Цфасмана. Кажется, его привел Ленька Чуков-Бобылев, выпивоха и художник из соседнего двора. Ленька малевал малярной кистью плакаты и писал аршинными буквами на кумаче лозунги. При этом он еще и с прихотливой фантазией оформлял детские книги и считал себя вторым Конашевичем, признанным иллюстратором Корнея Чуковского.
Конашевич жил в Ленинграде, но часто бывал в Москве, где окончил когда-то Училище живописи, ваяния и зодчества. Он останавливался у друзей неподалеку от нас, и Ленька пальцами на ладони изображал шагающего человечка, чтобы показать: от нас до Конашевича всего два шага. Ленька у него бывал вместе с сыном Цфасмана Робертом, своим дружком, который позднее погиб, почти как Миша Берлиоз, поскользнувшись на троллейбусной остановке (под ногу попала ледышка) и попав под колеса троллейбуса.
Я знаю об этом от Леньки, которому довелось всеми правдами и неправдами, хитростями и изворотливостью попасть на чтение Булгаковым первых глав романа про Берлиоза, а заодно – и Понтия Пилата. И он, сидя рядом с зеленой лампой и кремовыми шторами, символами домашнего уюта, разинув рот, слушал, а затем перед всеми хвастался, хотя ничего толком сказать не мог, кроме слов:
– Ну, это такое… такое…
– Какое такое? – допытывались у него приятели, в том числе и Роберт Цфасман, и он, очерчивая длинными руками в воздухе магический круг, свистящим шепотом добавлял к сказанному:
– Фантасмагорическое…
Такой он, наш Ленька Чуков-Бобылев из соседнего двора. Соседний двор… кажется, я опять повторяюсь.
Словом, Ленька у всех бывал, всюду умудрялся проскользнуть благодаря своей хитрости и пронырливости, и пол-Москвы числилась у него в приятелях и знакомых.
Роберта, тихого и скромного, мы приняли в компанию лишь потому, что Ленька о нем сказал:
– Это сын Цфасмана, того самого… Контрамарки нам обеспечены.
Ленька не обманул. Благодаря ему мы стали бывать в респектабельном саду «Эрмитаж», где публика гуляла, развлекалась, танцевала фокстрот, сидела у фонтана, пила пиво, янтарно желтевшее под шапками пены. Публика смеялась заезженным остротам конферансье с неизменной бабочкой, во фраке и лаковых ботинках и слушала первый советский джаз, такой же символ индустриализации, как и Днепрогэс.
Вездесущий Ленька проводил нас в ресторан «Казино» на Триумфальной площади. Проводил мимо швейцара, с коим обменивался таинственными масонскими знаками, означавшими примерно следующее: ну, мы-то с вами знаем друг друга (Ленька)… А эта публика (швейцар, указывая на нас)?.. Не извольте беспокоиться, эта публика со мной (снова Ленька). Там, в «Казино», за кружкой пива мы просиживали весь вечер, бешено аплодируя Цфасману, солирующему за белым роялем. И нас – как поклонников джаза – не выпроваживали ни швейцар с галунами, нашитыми по рукавам и воротнику полувоенного мундира (всех приучали к военной форме), ни администратор в короткой жокейской безрукавке и роговых очках: такова сила протекции.
Мы также слушали Цфасмана в фойе кинотеатров «Малая Дмитровка» (позднее театр «Ленком») и «Первый Госкино» (позднее «Художественный»). Туда мы пробирались заранее, чтобы занять первый ряд специально поставленных стульев, и после выступления Цфасмана оставались на киносеанс лишь в том случае, если фильм был не про любовь, а про войну. При этом нас с Любкой дразнили и подкалывали: мол, нам, конечно же, хотелось про любовь…
Разумеется, мы всячески наседали на Леньку, чтобы он познакомил нас с мэтром – самим Александром Наумовичем Цфасманом, нашим идолом и кумиром. И Ленька обещал, клялся, божился, но все откладывал: после, после, вот он вернется с гастролей… вот он отыграет новую премьеру… Но дело было не в гастролях и премьере. Ленька наслаждался тем, что он единственный был вхож к Цфасману в дом благодаря дружбе с его сыном и не хотел делиться с нами этим правом, старался оттянуть, отсрочить.
Но была и еще причина: обязательства Леньки перед другом, коего он очень хорошо понимал, и хотя тот не всегда был с ним откровенен, Ленька о многом догадывался.