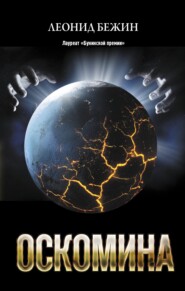По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Подлинная история Любки Фейгельман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Моряк,
С печки бряк,
Растянулся как червяк.
Вот я и есть тот моряк…
Я-то, однако, еще как-то выжил, пристроился (друзья подобрали), дирижеру же нашему Мансуру, утонченной артистической натуре, пришлось куда хуже: он, выходец с Кавказа, теперь дирижирует кахетинскими скакунами – кидает лассо и джигитует в захудалом конном цирке. Такто, братцы…
Следующий 2001-й станет началом нового века, как говорят ученые люди. Тут было много споров, всяких недоумений, догадок, но все-таки пришли к согласию: век начнется с первым января. Так что пока, будем считать, – промежуток, этакая расщелинка, скважина, норка, куда можно спрятаться и затаиться. Слава богу, конец света, которого все ждали в 2000 году, так и не наступил: Господь нас еще потерпит. Поэтому забиться в норку будет в самый раз.
Собственно, все мы из такой расщелинки – люди промежуточные, ничего нам не надо. Наши альты и скрипки никому не нужны, джигитовать мы не умеем, да и не хотим. Прошлое мы потеряли, будущего, скорее всего, у нас уже нет. Поэтому наша нора – единственное, что нам осталось.
Раньше мы могли себе позволить шикануть, потрапезовать среди богемы – в ЦДРИ или ЦДЛ, но там теперь другие посетители, бывшим же – таким, как мы, оставили лишь нижний буфет или подвал, где мы изредка все же бываем. Не гнушаемся такой возможностью, хотя пускают нас неохотно, подозрительно оглядывают. Одежду нашу в гардероб не берут: мол, сложите, умните и рядом положите, а то, чего доброго, номерок сопрете.
Таких, как мы, теперь с чьей-то легкой руки так и зовут небожителями подвала – не только подвала ЦДЛ, но и подвала жизни. Горько, конечно. Утешает лишь то, что мы – небожители.
Впрочем, один из наших небожителей, читающий Британскую энциклопедию (я о нем еще расскажу), выискал в ней, что китайцы называли небожителей сянями, а великий поэт Ли Бо написал где-то, что он – изгнанный сянь. Изгнанный из заоблачных обителей отшельников и святых за чрезмерное пристрастие к вину.
Нам это понравилось, и мы тоже стали именовать себя изгнанными, поскольку любим – назло всем бедам и несчастьям – осушить чарку доброго вина, которое у нас – в отличие от Китая или какой иной державы – зовется водочкой. И первую чарку, конечно, считаем своим долгом поднять за здравие нашей Прекрасной дамы, о которой, собственно, и сказ.
II
Мы играем на Тверском бульваре, прямехонько напротив МХАТа – не того, что в Камергерском проезде, а здешнего. Я бы добавил: бульварного, но к бульварному скорее катится тот, наш же МХАТ держит марку. Он-то и есть истинный камергер.
Из сказанного – и сказанного не без пристрастия – вовсе не следует, что мы – бродячая труппа актеров, выступающих где придется и особенно предпочитающих места, осененные незримым присутствием божественной Мельпомены. Нам приходилось пользоваться ее покровительством (о чем я еще мимоходом упомяну). Но все-таки мы – музыканты и совсем по другой причине выбрали МХАТ, который когда-то называли новым, а теперь (я говорю, разумеется, лишь о внешнем антураже) его новизну сдунуло, как цветочную пыльцу с поверхности дачного зеркала, поставленного напротив распахнутого в сад окна, и он благополучно стареет вместе со своей великой и несказанно красивой Хозяйкой.
Впрочем, т-ссс (прижимаю палец к губам)… так, может быть, каждый из нас иногда и подумает, но тотчас гонит прочь эти порочные мысли. Вслух мы их никогда не выскажем, поскольку Хозяйка для нас – святое, и мы ей по-прежнему поклоняемся, хотя сами поистерлись, поизносились, поистрепались за эти злополучные годы – что твой МХАТ.
Ах, как же она хороша – несмотря на свои годы, и хороша этак, знаете, по-русски, что совсем уже редкость, хотя характером не голубица и сластить никому не станет. Напротив, может и рявкнуть, и рыкнуть, и шикнуть – не хуже той забубенной клаки, что часто ее же ошикивает на сцене. Вернее, ошикивала, пока мы не вмешались и с ней не разобрались…
Нас четверо: гитарист, трубач, ударник и саксофонист, и играем мы джаз. Вернее, полуджаз – полушлягер: Цфасмана, Варламова, Лундстрема – то, что когда-то было в моде, да и сейчас на слуху, нравится публике. Не юнцам длинноволосым в размалеванных майках и драных джинсах, а публике солидной, умеющей откупорить бутылку шампанского в буфете так, чтобы из горлышка картинно вился голубой дымок. Нравится нашим ровесникам – из тех, что родились перед самой войной или сразу после войны, слушали Утесова, ходили в сад «Эрмитаж» и сад имени Баумана, бывали по выходным в цирке на Цветном бульваре, смеялись до упаду над шутовскими выходками комично-серьезного Карандаша и его верной собаки Кляксы.
Вот им-то мы и играем. И они не жмутся, кидают нам не медяки, а достают из бумажников солидные купюры, иногда даже иноземные, цвета морской волны. Достают и выкладывают, как на торгах, где продается их ушедшая молодость, их лучшие годы, их неразличимо далекое, подернутое дымкой прошлое, их несбывшаяся жизнь.
Прошу извинить, но, когда я говорю об этом, то становлюсь немного сентиментальным…
III
Деньги мы собираем в футляр из-под саксофона, делим по-братски и садимся играть. Что – снова джаз? Нет, теперь уже – в шахматы: есть у нас такая страстишка. Кто-то приносил на бульвар карты, но мы перекинулись раз-другой и бросили, не стали себя ронять.
Мы – великие шахматисты, особенно наш гитарист Буба Чак-Митрофанов, Король ладейных эндшпилей, влюбчивый и ревнивый. Чаком он себя величает в честь прославленного гитариста Чака Берри, хотя сам он русский из русских, наш Митрофанушка, и никакой не Буба, а Борис, Боренька, Борюнчик, которого все мы любим за толстый живот, короткие, но ловкие пальцы и светящееся сквозь пух волос розовое темя.
В дебюте и миттельшпиле он путается, но, если дотянет до эндшпиля, тем более ладейного, с ним не совладает никто. Даже мастера проигрывали.
К нам на бульвар приходят иногда разрядники и бывалые мастера, подсаживаются, лениво и неохотно расставляют фигуры и еще заботятся, чтобы каждая – и фигура, и пешка – стояли точно по клеточке. Иными словами, вытряхивают из мундштука трубы скопившуюся там слюну. Своего рода педанты. Трубе, саксофону, ударнику удается продержаться ходов двадцать, и мастер всю их защиту разваливает, повторяя при этом известную среди шахматистов присказку: мол, в детстве надо было развиваться.
Но наш Митрофанушка единственный не пасует, недаром он второклассником посещал очковый цыплятник (по другой версии, очковый змеюшник) – шахматный кружок в Доме пионеров, где занимались одни высоколобые очкарики. Там он и развился, но не до конца, а почему-то лишь до середины, по части ладейных эндшпилей. И если ему удается сохранить ладей, то он с блеском выигрывает у любого мастера, за что его у нас называют не Чак-Митрофанов, а Гросс-Митрофанов – гроссмейстер.
Но Чака Берри он со своей гитарой тоже достоин: Хозяйка не раз заслушивалась, когда Чак-Митрофанов выдавал соло, просила повторить, могла и прослезиться, тронуть платочком свои прекрасные глаза, а это для нас всех – высшая похвала.
Наш ударник Вилли Кукс (он же Витя Куприянов), драный и тощий, каким, по его словам, и надлежит быть мужчине, носит один и тот же свитерок в шахматную клеточку и такой же черно-белый шарфик, обмотанный вокруг шеи. Вилли как шахматист умеет выстраивать крепости в дебюте. Поэтому он, матерый крепостник, особенно любит Защиту бегемота. Мы долго отказывались ему верить, что есть такая защита, но однажды он принес дебютный справочник и отыскал страницу, где черным по белому (это выражение здесь более чем уместно) была обозначена бегемотова защита.
Уже поэтому можно догадаться, что Вилли – книжник, хотя дебютный справочник для него так, шалости, детские игрушки. Когда-то в букинистическом магазине на улице Качалова (Малой Никитской) он купил из-под прилавка три тома Британской энциклопедии. И теперь к каждой нашей встрече что-то из нее выуживает, чтобы сразить нас своими энциклопедическими познаниями. Изгнанными сянями, между прочим, именно он нас окрестил, за что мы ему благодарны.
Сам Витя учил английский лишь в школе, да и то был троечником, поэтому язык у него слабоват. Но этого хватает, чтобы навести Витю на цель, переводит же для него древняя старушка Августа Карловна еще из первой волны эмиграции, когда-то чудом вернувшаяся в Россию. За свой труд она ничего не берет (разве что Витя ходит для нее в гастроном и аптеку), поскольку своими переводами из Британской энциклопедии – по некоему причудливому убеждению – искупает вину перед родиной, хотя родина ее давно простила, да и забыла.
Наш трубач Богдан Мартос под кожаной курткой носит майку с глубоким вырезом на каракулевой (как мы ее называем) груди, словно цирковой борец, и джинсы с бахромой, метущей пол. Он вечно смолит «Беломор», платит огромные пени за просрочку коммунальных платежей и ухаживает за парализованной матерью – возит ее в кресле на сдувшихся шинах.
В отличие от нас, грешных, он никогда не позволяет себе ругнуться матом, даже при дамах. Я не оговорился, хотя, казалось бы, должно быть наоборот: не позволяет – тем более при дамах. Но сейчас такие времена и такие дамы… они и курят на ходу, что раньше считалось моветоном. И, сидя вдвоем – без спутника – в кафе, бутылку вызывающе держат на виду, а не прячут подальше от глаз под столик. И к тому же сами не прочь выругаться.
Во всяком случае, в их присутствии мужчины матерятся с особым азартом, смаком и апломбом.
Но вот наш Богдан – вопреки моде, принятой среди высшей богемы (а мы, лабухи, тоже богема), – не позволяет. Мы тоже не матерщинники, но все-таки богема есть богема, и иногда заборное словцо нет-нет да и сорвется с языка. Богдан же при этом только брезгливо поморщится, поскольку, по его мнению, мат у нас детский.
Этим он отчасти мстит нам за то, что в шахматах нам, бывает, удается поставить ему детский мат. Удается, поскольку он играет рассеянно, не следит за ходами партнера, зевает фигуры и часто перехаживает – несмотря на наши возражения и даже негодующие протесты. Вот такой он у нас циркач, наш Богдан.
Получив детский мат, он ничуть не огорчается, не ругает себя последними словами за позорный проигрыш, но с презрением смотрит на победителя (вернее, даже не смотрит, а отворачивается), явно осуждая его за столь примитивный выигрыш.
Главная же его привилегия, признаваемая нами, его услада и самое изысканное наслаждение – упрекнуть нас за детский мат, не шахматный, а словесный. Богдан терпеть не может, когда заборным лексиконом пользуются грубо, топорно, неумело, бесцветно. Сам же он по этой части – не только изысканный эстет и непревзойденный виртуоз, но и кропотливый, скрупулезный, дотошный собиратель мата.
Услышит словечко или оборотец и тотчас запишет своими каракулями в книжечку. Мечтает когда-нибудь издать словарь тиражом в сто именных экземпляров. Намеревается преподнести по экземпляру членам правительства и депутатам Думы (по части мата они тоже дохляки), обещает подарить также нам и самым близким друзьям.
Его воздержанность от мата заронила в нас сомнение. Словарь словарем, а не блефует ли он? Умеет ли он и в самом деле ругаться? В ответ на наши сомнения он однажды не выдержал и, снисходя к нашей недоверчивости, матюгнулся. Причем без напряга, без той натуги, с какой выдувает пронзительное соло из своей трубы, а легко и непринужденно.
О, мы оторопели! Мы заслушались! Это был великий, могучий русский язык, какой не снился Тургеневу и какого мы никогда не слышали.
IV
Впрочем, нет – слышали, но лишь единственный раз, когда, осерчав на что-то, при нас не сдержалась и выругалась Хозяйка. Выругалась с хрипотцой, с простецким шармом, вульгарно, и мы замерли от восхищения, словно это был такой же перл, как ее лучшие монологи на сцене. По словам нашего энциклопедиста Вилли, так на Руси умели ругаться только старые барыни, опростившиеся в деревенской глуши, вдовые солдатки и особенно юродивые – похабы, обличавшие своей руганью (так же, как и прочей срамотой) людские грехи и пороки.
Недаром наша Хозяйка носит на запястье браслет из маленьких иконок – Спаса, Богородицы и блаженной, юродивой Христа ради Матрены Босоножки…
V
Наш саксофонист Коля (иначе его никто не называет) – маленький, худенький, субтильной наружности, с колечком рыжеватых волос вместо бородки и такой же рыжей, но подкрашенной хной завитушкой вместо чуба. Коля начисто лишен признаков возраста, способен в зависимости от настроения выглядеть и на тридцать, и на шестьдесят.
При этом он из нас самый… не то чтобы набожный, но проявляющий известный интерес. Проявлять интерес у него означает уметь всем ненавязчиво намекнуть, дать понять, что это не просто так, что за этим кроется нечто, о чем он не хочет распространяться, но и умалчивать тоже не считает нужным.
Такой интерес он проявляет к вере. Коля носит с собой, часто достает и листает карманную Библию, украденную некогда в гостинице Брюсселя. Там ему довелось побывать вместе с дедом (дед у него знаменитый психиатр: отсюда страсть Коли всем ставить диагнозы). Коля сопровождал знаменитого деда на конгресс, и в гостинице на телефонном столике была выложена маленькая, черная Библия. Он не удержался… прихватил ее с собой, сунул в чемодан вместе с вещами, оправдывая себя тем, что не может без нее обойтись, поскольку с ним случился духовный переворот.
Есть у него и другой способ намекнуть – уже за шахматами. Коля играет только защиту Святого Георгия и только блиц, поскольку, во-первых, надеется на помощь своего небесного покровителя (жаль, что Николай Чудотворец не покровительствует шахматным защитам), а во-вторых, не успевая в блице задумываться над ходами, делает меньше ошибок.
Саксофоном он владеет божественно. Тут и намеков никаких не нужно: достаточно хотя бы немного послушать, какие он выкидывает коленца, как выигрывает самые головоломные пассажи, выдувая из своего сакса и медь, и благородный металл, и при этом умеет показать, будто они даются ему сами собой – легко.
«Легко» – любимое словечко Коли. На любой вопрос: «А ты сможешь?..» Коля привычно отвечает: «Легко».
Играя джаз, мы иногда нарочно замолкаем, чувствуя, что Коля в настроении, и позволяя ему свободно импровизировать. И уж тут он проявляет себя во всем блеске. Даже Хозяйка, услышав его однажды, Колю расцеловала. Я перечислил всех из нашей четверки и никого не забыл. Да, никого, кроме себя. Такова уж моя скорбная доля: я так восхищаюсь моими друзьями, так люблю и боготворю их всех (могу часами о них рассказывать), что о себе совершенно забываю. Словно бы и нет меня: «Где вы, Сергей Николаевич?» – а в ответ молчание, никто не отвечает.
Между тем как музыкант я тоже не промах, и контрабас у меня иногда звучит и как виолончель, и как альт, и как скрипка. Впрочем, тут я слегка соврамши: до скрипки не дотягиваю и в солисты не гожусь. Но джазовое бормотание – без смычка, пальцами по струнам – мне удается как никому.