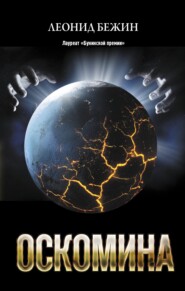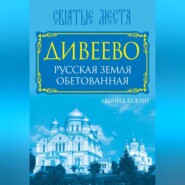По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Подлинная история Любки Фейгельман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Посредине лета
высыхают губы.
Отойдем в сторонку,
сядем на диван.
Вспомним, погорюем,
сядем, моя Люба.
Сядем посмеемся,
Любка Фейгельман.
Гражданин Вертинский
вертится. Спокойно
девочки танцуют
английский фокстрот.
Я не понимаю,
что это такое,
как это такое
за сердце берет.
Гражданин Вертинский вертится, девочки танцуют… у нас и правда ставили пластинку с Вертинским, под которую танцевали девочки, и все-таки могу поручиться, положив на сердце руку: с Любкой все было не так, как описано в этих стихах. При этом не знаю, насколько моя голова, не отягощенная здравым рассудком, способна послужить мне надежной гарантией. Но моя рука, исцарапанная торчащими из забора гвоздями, покусанная бездомными шавками, покрытая пунцовыми ожогами от крапивы, с коей за нами гоняется Зинаида Лаврентьевна Цыбульская за то, что мы топчем траву в ее палисаднике… рука, украшенная (боевые раны украшают) глубокими порезами от осколков разорвавшейся бутылки с карбидом, – эта рука – лучшая гарантия моего ручательства. Она куда надежнее каких-то там стихов.
Стихи все читают, наивно полагая, что это и есть подлинная история Любки. Нет, это именно стихи, может быть, и неплохие (не мне судить), но за них ручаться никак нельзя, поскольку так называемое вдохновение способно унести поэта куда угодно – выше пожарной лестницы с нижними перехватами, забитыми досками.
По этой лестнице мы, сверкая подошвами дешевых белых тапочек, кои из-за их копеечной дешевизны шьют лишь для покойников и дворовой шантрапы, забираемся на крышу нашего восьмиэтажного дома. Забираемся и сидим там, надвинув на лоб кепку козырьком назад, свесив ноги над обморочной, тошнотворной пропастью, и затягиваемся папиросой, последней в пачке, найденной на дне урны для мусора.
Урны, подобной рупору для созыва комсомольцев, пионеров и прочих дураков (вроде меня) на митинги, где они будут дудеть в свои горны, салютовать и клясться (божиться). Клясться в верности идеалам Розы и Карла – вождей рабочего класса Карла Либкнехта и Розы Люксембург. И невдомек дуракам, что эта Роза наверняка носила ажурные чулки и меховое манто, как по праздникам Зинаида Лаврентьевна Цыбульская, бывшая нэпманша, и по части крапивы была такая же выдра.
Ну и Карл, конечно, не отставал от нее. Во всяком случае, он под покровом ночи украл кораллы у своей сестры Клары и заложил их в ломбард за кругленькую сумму.
Поэтому мы, дворовая шантрапа в белых тапочках, не дудим и не клянемся, хотя нас принимают в пионеры и комсомольцы, повязывают нам галстуки и привинчивают значки. Но при этом мы держим в кармане большую фигу. Как первые христиане оставались, по сути, язычниками и продолжали любить своих идолов, так и мы в школе остаемся дворовыми, и наши идолы – фонарные столбы с безглазыми лампочками (побили выстрелами из рогатки), сараи, чердаки и полусгнивший тополь с дуплом, где мы ворошим палкой, чтобы выгнать оттуда ос, а те, рассвирепев, нас жалят и гонят до тех пор, пока мы не спрячемся в подъезде черного хода, воняющем кошками и помойкой.
И рупор для нас – урна, куда бросают окурки, мы же их выискиваем, достаем, обтираем подолом рубашки и до одурения в башке пускаем дым, спрятавшись за сараями или забравшись на крышу дома.
Мы не побирушки и не беспризорные дворомыги, но в табачной лавке нам курево не продают, да и денег на него нет. А собирать папиросы по урнам – особый азарт и мальчишеская доблесть, благодаря которой из дворовой ребятни получаются настоящие пацаны – будущая смена воров в законе.
Что – поверили насчет свешенных с крыши ног и будущей смены?
Ну и напрасно, поскольку мы не такие отчаянные храбрецы, чтобы сидеть, свесив ноги, а то и вовсе пройтись по карнизу, и до настоящих пацанов нам далеко. Я насчет этого не то чтобы соврал, а, скажем мягче, доверился своему воображению, ведь я тоже поэт, хотя и дворовый, пишущий мелом на стенах если и не стихи, то отменную по достоинствам прозу.
Я говорю это к тому, что поэтов меньше всего заботит подлинность, а заботят рифмы и всякие словесные выкрутасы, именуемые красотами стиля. Поэтому стихам верить нельзя – в том числе и стихотворению про Любку, хотя оно мне и нравится – потрафляет, а местами трогает до слез.
Глава третья. Нет чтобы в тридцать шестом
Вспомним, дорогая,
осень или зиму,
синие вагоны,
ветер в сентябре,
как мы целовались,
проезжая мимо,
что мы говорили
на твоем дворе.
Затоскуем, вспомним
пушкинские травы,
дачную платформу,
пятизвездный лед,
как мы целовались
у твоей заставы
рядом с телеграфом
около ворот.
Пушкинские травы… Наверное, имеются в виду травы подмосковного Пушкина, названного в честь поэта, хотя сам он там отродясь не бывал, не квартировал, не сочинял, не скучал… и что там еще с частицей не? Ну, наверное, не выпивал, не шалил и не проказничал, хотя был дока по части проказ и шалостей – в том числе и любовных, как рассказывал нам учитель геометрии, поскольку учитель литературы опасался себя скомпрометировать. Кстати, Любка училась в восьмом «Б», а я в седьмом «Г» (букву «В» часто пропускали, поскольку иначе она бы путалась в «Б» и вообще выглядела подозрительно – по написанию русская и при этом английская). Но учителя у нас были одни и те же, о Пушкине весьма осведомленные, потому что в тридцать седьмом, кажется, праздновалось столетие, как его… шлепнули.
Ну, не шлепнули, а что-то там, связанное с дуэлью. Хотя можно сказать, что и шлепнули, поскольку в тридцать седьмом всех расстреливали, тем более дворянского происхождения, всяких там камер-юнкеров и прочих. Такой уж это был год, и все испытывали некое неудобство, неловкость оттого, что юбилей Пушкина падал именно на него.
Вернее, Пушкин падал на снег Черной речки, сраженный пулей, попавшей, кажется, в живот. И почему-то именно в тридцать седьмом – нет чтобы в тридцать шестом или тридцать пятом. Тогда не было бы этой неловкости, этого неудобства, и все не испытывали бы чувства вины и стыдливости, произнося о Пушкине торжественные юбилейные речи.
Кажется, кажется – все-то мне кажется после того, как Любка тогда сказала, что ее отца тоже арестовали в тридцать седьмом и, наверное, расстреляли, хотя мать надеется, и тетя Роза надеется, и бабушка Ревекка надеется, и какой-то полусумасшедший Борис Исаакович тоже надеется. И что ее понесло такое сказать! Мы разговаривали о выпускных экзаменах, на которых наверняка будут вопросы о Пушкине. Любка же вспомнила, как их семья снимала дачу в Пушкине, куда приехали за отцом, развернулись у калитки и посигналили, чтобы кто-то вышел…
Вот вам и пушкинские травы…
Врут поэты. Тем более что у нас во дворе был свой Пушкин – кудрявый и смуглый Сашка Ахмедшин, прозванный Александром Сергеевичем, поэтому пойди разберись…
И соседка тоже врет. Соседка с соседней дачи, верещавшая так, чтобы ее все слышали: «Всюду измена! Всюду измена! Надо проводить чистки во всех эшелонах!» Как будто проводники у нас эшелоны не чистят. Я сам видел, как они метут коридоры и прыскают водой – какие еще чистки!
И не может быть изменником тот, кто починил мне самокат и заменил на нем передний подшипник, который скривился, застревал, не крутился, а лишь царапал землю.
Отец же Любки Рувим Александрович починил и заменил. Какой же он после этого изменник! Он совершил, пожалуй, лишь одну диверсию: дал дочери свое отчество – Рувимовна, которое я с трудом выговариваю. Любка же меня поправляет: «Не Румивовна, а Рувимовна. Какой же ты бестолковый!»
Пятизвездный лед оставляю на совести автора: сам я, хоть убей, не знаю, что это такое. Ну ладно были бы это искорки или звездочки инея, комариным столбиком стоящие надо льдом и золотящиеся на солнце, но почему этих звездочек именно пять? Не могу ответить и не пытаюсь разгадать сию загадку. Кто это сочинил, тот пускай и разгадывает, у меня же и без того забот хватает.
Ведь для меня главное не пропустить, когда Любка, хлопнув дверью своего подъезда, выйдет из дома с портфельчиком, доставшимся ей в наследство от тети-стенографистки, и мне надо будет догнать ее, пока она не свернула за угол и не исчезла среди осаждающей трамвай толпы.
Синие вагоны… вагоны трамваев вообще-то были красные. Во всяком случае, мы с Любкой катались только на красных, поскольку к синим она относилась с недоверием и неприязнью из-за того, что это был ненавистный для нее цвет фуражек НКВД.
Поэтому она не любила и троллейбусы, преимущественно синие. Впрочем, троллейбус некоторое время курсировал по Москве один, поскольку второй своей тяжестью проломил пол в троллейбусном гараже Щепетильниковского трамвайного депо и провалился.
Слава богу, провалился не в преисподнюю, а в яму фундамента, но его долго не могли вытащить. Когда тягачом все же вытащили, пришлось ремонтировать и устранять… наваждения. Не наваждения, конечно, а повреждения, но их было столько, что это – самое настоящее наваждение. Во всяком случае, так рассказывал дядя Сема Кувшинников, по прозвищу Кувшинное Рыло (лицо у него обожгло автогеном), слесаривший в депо и видевший все собственными глазами.
Глава четвертая. Тридцать семь сидячих мест
Отмечу одну весьма важную деталь. Автор стихотворения про Любку умалчивает о таком знаменательном факте: первые троллейбусы были марки ЛК – Лазарь Каганович, к коему Любка испытывала личную неприязнь, вызванную тем, что ее отец некогда работал под начальством ЛК и остался о нем не лучшего мнения.
Кроме того, в салоне было ровно тридцать семь сидячих мест. Сначала мы не придали этому значения, а затем в тридцать седьмом году, когда арестовали ее отца, вспомнили, и Люба сказала со странным сожалением:
– Не надо было ездить на троллейбусе, тем более синем…
– Ну, знаешь, этак можно вообще пешком ходить. Не бери в голову.
– Пешком – не пешком, а не надо. Тем более беспечно сидеть на этих местах и смотреть в окошко…
высыхают губы.
Отойдем в сторонку,
сядем на диван.
Вспомним, погорюем,
сядем, моя Люба.
Сядем посмеемся,
Любка Фейгельман.
Гражданин Вертинский
вертится. Спокойно
девочки танцуют
английский фокстрот.
Я не понимаю,
что это такое,
как это такое
за сердце берет.
Гражданин Вертинский вертится, девочки танцуют… у нас и правда ставили пластинку с Вертинским, под которую танцевали девочки, и все-таки могу поручиться, положив на сердце руку: с Любкой все было не так, как описано в этих стихах. При этом не знаю, насколько моя голова, не отягощенная здравым рассудком, способна послужить мне надежной гарантией. Но моя рука, исцарапанная торчащими из забора гвоздями, покусанная бездомными шавками, покрытая пунцовыми ожогами от крапивы, с коей за нами гоняется Зинаида Лаврентьевна Цыбульская за то, что мы топчем траву в ее палисаднике… рука, украшенная (боевые раны украшают) глубокими порезами от осколков разорвавшейся бутылки с карбидом, – эта рука – лучшая гарантия моего ручательства. Она куда надежнее каких-то там стихов.
Стихи все читают, наивно полагая, что это и есть подлинная история Любки. Нет, это именно стихи, может быть, и неплохие (не мне судить), но за них ручаться никак нельзя, поскольку так называемое вдохновение способно унести поэта куда угодно – выше пожарной лестницы с нижними перехватами, забитыми досками.
По этой лестнице мы, сверкая подошвами дешевых белых тапочек, кои из-за их копеечной дешевизны шьют лишь для покойников и дворовой шантрапы, забираемся на крышу нашего восьмиэтажного дома. Забираемся и сидим там, надвинув на лоб кепку козырьком назад, свесив ноги над обморочной, тошнотворной пропастью, и затягиваемся папиросой, последней в пачке, найденной на дне урны для мусора.
Урны, подобной рупору для созыва комсомольцев, пионеров и прочих дураков (вроде меня) на митинги, где они будут дудеть в свои горны, салютовать и клясться (божиться). Клясться в верности идеалам Розы и Карла – вождей рабочего класса Карла Либкнехта и Розы Люксембург. И невдомек дуракам, что эта Роза наверняка носила ажурные чулки и меховое манто, как по праздникам Зинаида Лаврентьевна Цыбульская, бывшая нэпманша, и по части крапивы была такая же выдра.
Ну и Карл, конечно, не отставал от нее. Во всяком случае, он под покровом ночи украл кораллы у своей сестры Клары и заложил их в ломбард за кругленькую сумму.
Поэтому мы, дворовая шантрапа в белых тапочках, не дудим и не клянемся, хотя нас принимают в пионеры и комсомольцы, повязывают нам галстуки и привинчивают значки. Но при этом мы держим в кармане большую фигу. Как первые христиане оставались, по сути, язычниками и продолжали любить своих идолов, так и мы в школе остаемся дворовыми, и наши идолы – фонарные столбы с безглазыми лампочками (побили выстрелами из рогатки), сараи, чердаки и полусгнивший тополь с дуплом, где мы ворошим палкой, чтобы выгнать оттуда ос, а те, рассвирепев, нас жалят и гонят до тех пор, пока мы не спрячемся в подъезде черного хода, воняющем кошками и помойкой.
И рупор для нас – урна, куда бросают окурки, мы же их выискиваем, достаем, обтираем подолом рубашки и до одурения в башке пускаем дым, спрятавшись за сараями или забравшись на крышу дома.
Мы не побирушки и не беспризорные дворомыги, но в табачной лавке нам курево не продают, да и денег на него нет. А собирать папиросы по урнам – особый азарт и мальчишеская доблесть, благодаря которой из дворовой ребятни получаются настоящие пацаны – будущая смена воров в законе.
Что – поверили насчет свешенных с крыши ног и будущей смены?
Ну и напрасно, поскольку мы не такие отчаянные храбрецы, чтобы сидеть, свесив ноги, а то и вовсе пройтись по карнизу, и до настоящих пацанов нам далеко. Я насчет этого не то чтобы соврал, а, скажем мягче, доверился своему воображению, ведь я тоже поэт, хотя и дворовый, пишущий мелом на стенах если и не стихи, то отменную по достоинствам прозу.
Я говорю это к тому, что поэтов меньше всего заботит подлинность, а заботят рифмы и всякие словесные выкрутасы, именуемые красотами стиля. Поэтому стихам верить нельзя – в том числе и стихотворению про Любку, хотя оно мне и нравится – потрафляет, а местами трогает до слез.
Глава третья. Нет чтобы в тридцать шестом
Вспомним, дорогая,
осень или зиму,
синие вагоны,
ветер в сентябре,
как мы целовались,
проезжая мимо,
что мы говорили
на твоем дворе.
Затоскуем, вспомним
пушкинские травы,
дачную платформу,
пятизвездный лед,
как мы целовались
у твоей заставы
рядом с телеграфом
около ворот.
Пушкинские травы… Наверное, имеются в виду травы подмосковного Пушкина, названного в честь поэта, хотя сам он там отродясь не бывал, не квартировал, не сочинял, не скучал… и что там еще с частицей не? Ну, наверное, не выпивал, не шалил и не проказничал, хотя был дока по части проказ и шалостей – в том числе и любовных, как рассказывал нам учитель геометрии, поскольку учитель литературы опасался себя скомпрометировать. Кстати, Любка училась в восьмом «Б», а я в седьмом «Г» (букву «В» часто пропускали, поскольку иначе она бы путалась в «Б» и вообще выглядела подозрительно – по написанию русская и при этом английская). Но учителя у нас были одни и те же, о Пушкине весьма осведомленные, потому что в тридцать седьмом, кажется, праздновалось столетие, как его… шлепнули.
Ну, не шлепнули, а что-то там, связанное с дуэлью. Хотя можно сказать, что и шлепнули, поскольку в тридцать седьмом всех расстреливали, тем более дворянского происхождения, всяких там камер-юнкеров и прочих. Такой уж это был год, и все испытывали некое неудобство, неловкость оттого, что юбилей Пушкина падал именно на него.
Вернее, Пушкин падал на снег Черной речки, сраженный пулей, попавшей, кажется, в живот. И почему-то именно в тридцать седьмом – нет чтобы в тридцать шестом или тридцать пятом. Тогда не было бы этой неловкости, этого неудобства, и все не испытывали бы чувства вины и стыдливости, произнося о Пушкине торжественные юбилейные речи.
Кажется, кажется – все-то мне кажется после того, как Любка тогда сказала, что ее отца тоже арестовали в тридцать седьмом и, наверное, расстреляли, хотя мать надеется, и тетя Роза надеется, и бабушка Ревекка надеется, и какой-то полусумасшедший Борис Исаакович тоже надеется. И что ее понесло такое сказать! Мы разговаривали о выпускных экзаменах, на которых наверняка будут вопросы о Пушкине. Любка же вспомнила, как их семья снимала дачу в Пушкине, куда приехали за отцом, развернулись у калитки и посигналили, чтобы кто-то вышел…
Вот вам и пушкинские травы…
Врут поэты. Тем более что у нас во дворе был свой Пушкин – кудрявый и смуглый Сашка Ахмедшин, прозванный Александром Сергеевичем, поэтому пойди разберись…
И соседка тоже врет. Соседка с соседней дачи, верещавшая так, чтобы ее все слышали: «Всюду измена! Всюду измена! Надо проводить чистки во всех эшелонах!» Как будто проводники у нас эшелоны не чистят. Я сам видел, как они метут коридоры и прыскают водой – какие еще чистки!
И не может быть изменником тот, кто починил мне самокат и заменил на нем передний подшипник, который скривился, застревал, не крутился, а лишь царапал землю.
Отец же Любки Рувим Александрович починил и заменил. Какой же он после этого изменник! Он совершил, пожалуй, лишь одну диверсию: дал дочери свое отчество – Рувимовна, которое я с трудом выговариваю. Любка же меня поправляет: «Не Румивовна, а Рувимовна. Какой же ты бестолковый!»
Пятизвездный лед оставляю на совести автора: сам я, хоть убей, не знаю, что это такое. Ну ладно были бы это искорки или звездочки инея, комариным столбиком стоящие надо льдом и золотящиеся на солнце, но почему этих звездочек именно пять? Не могу ответить и не пытаюсь разгадать сию загадку. Кто это сочинил, тот пускай и разгадывает, у меня же и без того забот хватает.
Ведь для меня главное не пропустить, когда Любка, хлопнув дверью своего подъезда, выйдет из дома с портфельчиком, доставшимся ей в наследство от тети-стенографистки, и мне надо будет догнать ее, пока она не свернула за угол и не исчезла среди осаждающей трамвай толпы.
Синие вагоны… вагоны трамваев вообще-то были красные. Во всяком случае, мы с Любкой катались только на красных, поскольку к синим она относилась с недоверием и неприязнью из-за того, что это был ненавистный для нее цвет фуражек НКВД.
Поэтому она не любила и троллейбусы, преимущественно синие. Впрочем, троллейбус некоторое время курсировал по Москве один, поскольку второй своей тяжестью проломил пол в троллейбусном гараже Щепетильниковского трамвайного депо и провалился.
Слава богу, провалился не в преисподнюю, а в яму фундамента, но его долго не могли вытащить. Когда тягачом все же вытащили, пришлось ремонтировать и устранять… наваждения. Не наваждения, конечно, а повреждения, но их было столько, что это – самое настоящее наваждение. Во всяком случае, так рассказывал дядя Сема Кувшинников, по прозвищу Кувшинное Рыло (лицо у него обожгло автогеном), слесаривший в депо и видевший все собственными глазами.
Глава четвертая. Тридцать семь сидячих мест
Отмечу одну весьма важную деталь. Автор стихотворения про Любку умалчивает о таком знаменательном факте: первые троллейбусы были марки ЛК – Лазарь Каганович, к коему Любка испытывала личную неприязнь, вызванную тем, что ее отец некогда работал под начальством ЛК и остался о нем не лучшего мнения.
Кроме того, в салоне было ровно тридцать семь сидячих мест. Сначала мы не придали этому значения, а затем в тридцать седьмом году, когда арестовали ее отца, вспомнили, и Люба сказала со странным сожалением:
– Не надо было ездить на троллейбусе, тем более синем…
– Ну, знаешь, этак можно вообще пешком ходить. Не бери в голову.
– Пешком – не пешком, а не надо. Тем более беспечно сидеть на этих местах и смотреть в окошко…