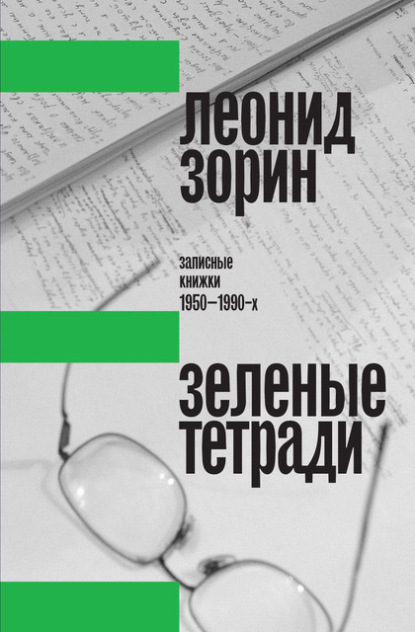По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зеленые тетради. Записные книжки 1950–1990-х
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ах ты, боже, вот видишь, лапунечка… я тут сыграл не лучшим образом… Не рассчитал я всех последствий…
– Рассчитывай, подсчитывай, гад… Лабазная душа… счетовод… Играй, раздолбай, играй, пока жив…
Партия продолжается в том же регистре. В конце концов, сценарист делает пат и оба довольные ничейным исходом идут вкушать санаторный ужин.
Я говорю Юлию Райзману: «Вот так это происходило в семнадцатом… Двенадцать играют с беднягой Блоком… Но тогда о ничьей не могло быть и речи».
В пору борьбы с низкопоклонством «французскую булку» поименовали «городской», Петергоф назвали Петродворцом. В издательствах сразу же появились бдительные борцы с иностранщиной. Один такой лихач предложил переименовать «Дюймовочку». Было предложено и название: «Девочка длиной в два с половиной сантиметра».
Веревка и пуля – наши вечные спутники. Что касается первой, то она – почти мистически – возникает на всех трагических перекрестках. Всегда нужда в ней, всегда с ней заминка, всегда, однако, ее разыщут. В июле 1826-го казнь декабристов была задержана, требовалась веревка покрепче, впрочем, ее живо достали. Случалось, что ее не хватало для «столыпинских галстуков», но и тут выходили из положения. В октябре 1917-го замедлился штурм Зимнего дворца – ее искали, чтоб вздернуть фонарь на флагштоке – подать сигнал. И снова нашли!
В пору беды познаешь людей, друга познаешь в час удачи.
Интерлюдия (19 сентября 1968 г.)
И вот однажды, в февральскую ночь, на исходе влажной бакинской зимы, был зачат и, через положенный срок, вытолкнут в мир, где я должен жить и – что еще важней – уцелеть. Должно быть, мне выпало доказать, что южное пламя и меланхолия совсем не исключают друг друга. Так рано я стал обращаться к памяти – вдруг выхватишь какое-то звенышко, день или час, и тот и другой кажутся вовсе не примечательными. Вдруг вспомнилось лето сорокового. Едем с отцом на месяц в Москву. Поезд тащится ни шатко ни валко, идет неспешная купейная жизнь. В Мичуринске на перроне женщины торгуют пуховыми беретами, в Лозовой – изобилие жареных кур, в Прохладной – полно арбузов и яблок. Пассажиры, заспанные, размягченные, с красными полосами на щеках, небрежно, на скорую руку одетые, хозяйски разгуливают на платформе, как будто только что взяли станцию после внезапного налета.
Я все посматривал на циферблат – скоро ли тронемся? Нет терпения. Подумать, одна, нет, две еще ночи, и мы – в Москве. Есть ли большее счастье?!
…Двадцать лет я живу в своей Мекке. Вдоволь хлебнул московского счастья.
Вот что пишет Суворин о «Трех сестрах» обожаемого им Чехова.
«Скучно, кроме первого акта… Три сестры на сцене плачут, а публика нимало… Все какая-то дрянь на сцене. Живут, как миллионы живут у нас и везде». Последняя фраза весьма характерна. Обыденность воплощенной жизни, ее «знакомость» рождали раздражение. Зрителю (даже такому зрителю) хочется иных впечатлений, несхожего с его повседневностью. Впрочем, тут надо иметь в виду, что отношения Суворина с Чеховым переживали свое охлаждение в связи с их реакцией на дело Дрейфуса. Возможно, суворинское раздражение оказывало свое влияние на эстетическую оценку. И все же, все же…
Биография литератора – это его произведения. С ними связаны и от них зависят все сюжеты его личной судьбы.
Самые милые люди – эклектики. Даже незаурядные личности, однажды решившись служить догматам, мало-помалу превращаются в пародию на самих себя. Умы обуживаются, души мелеют. Читаешь последние откровения Немировича-Данченко и только вздыхаешь: где его вкус? Его критерии? Он, который один против всех когда-то отстаивал театр Чехова, теперь восхищается Корнейчуком. Умозаключения плоски, оценки искусства политизированы, напыщенный, непререкаемый тон – в духе и стиле тридцатых годов. Счастье, что на девятом десятке он бросился за спасением к Чехову. Не по известному изречению, на сей раз живой ухватился за мертвого, и мертвый помог – вдохнул в него жизнь.
Семен Межинский был одним из самых мощных талантов Малого театра. Нельзя сказать, что официальное признание соответствовало силе его дара. Возможно, в какой-то мере мешало и его семитское происхождение, не слишком уместное в Доме Островского. Он испытывал стойкий дискомфорт, но старался его не обнаруживать. Однажды встречает меня на Петровке, смотрит совиными глазами, в них вековечная печаль, житейский опыт, усталость, скука.
– Ну, напишите для нас пьесу. Послушайте старого актера. Малый театр – живой театр. Не верьте вы тем, кто его хоронит. Вы принесите, а мы сыграем. Вениамин Цыганков вас любит, поставит ее хорошо и быстро. Он – режиссер, а не балаболка. Как говорится, профессионал. Есть и артисты – не самые худшие. Хотя бы ваш покорный слуга. Сыграю, угожу, не обижу, будете старым актером довольны.
– Вот уж в чем я не сомневаюсь. Бог с ней, с пьесой. Как идет ваша жизнь?
Он грустно вздыхает, машет рукой:
– Идет, ползет. Передвигается. В театре – тоска, мертвечина, болото. Распределяют разные блага. Квартиры, звания и медали. О творчестве никто и не думает. Втянули тут меня в одну пьеску, какая-то пустопорожняя дичь. Но объясняют, что надо ставить. Автор все-таки из соцлагеря, в общем, народно-демократический. Ну и мыкаемся. Актеры – холопы.
– А кто ее ставит?
– Ну, кто у нас ставит? Венька Цыганков, разумеется. По Сеньке – Венька. О чем говорить? Мрак или морок, как вам угодно. Поверьте уж старому актеру.
Полдень. Теплынь. В коридоре санатория уборщица балуется с монтером.
– Засранец… – воркует она, исходя от нежности. (Комментарий, сделанный в 1990-х: Занятно. Почти через двадцать лет из этой записи вырос рассказ «Процедура».)
Потерянное поколение кавычек и оговорок, навек изувеченное цитатами.
Вручая подарок (хмуро): На прощанье – шаль с каймою.
Какая чудесная подпись мудреца под автошаржем: «Я пришел в этот мир очень юным во времена очень древние».
Ум беседует с пространством, мудрость – со временем.
Что выше прощальной фразы Сократа в последнем слове его на суде? «Но уже пора идти отсюда, мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это никому не ведомо, кроме Бога».
(31 декабря 1969 г. Ессентуки.) По странной прихоти обстоятельств оказался я в этом курортном городе с его опостылевшей водой в самый канун семидесятого. Бесснежно, не холодно, очень сыро, промозглая влажная погода. Как странно, что именно здесь я встречаю новое грозное десятилетие. Минувшее начиналось с надежд, тут же пресеченных Манежем, кончилось Прагой и усилиями (вполне откровенными) реанимировать Сталина. То, что настает, будет хуже – ожесточенней и лицемерней. Беззвездное минераловодское небо и на дворе почти никого. Из окна я вижу: по другой стороне темной, почти безлюдной улицы какая-то чета поспешает встретить наступающий год. Войдут сейчас они в чью-то квартиру, компания за столом оживится: вот и Никитины пришли. Потом потеснятся, Никитины сядут, наполнят рюмки, и все дерябнут – встретят еще один Новый год. С новым счастьем! Где оно, счастье?
Чего же я себе пожелаю? Одного – написать «Медную бабушку».
…А сильным не хватает силы, Всех безоружнее бойцы. И сходят в ранние могилы Неистовые мудрецы. Не теребят, не верховодят. Спаслись от славы и обид. Порою смертных смерть обходит. Зато бессмертных – не щадит.
Манеж
Инспектор (с хлыстом в руке). Поклон вам от всей души. Перед вами – честное зеркало манежа. Чувствуйте себя в цирке, как дома. Не знаю другого такого места, где так вольно дышит человек. Итак, ваши аплодисменты. Артисты на выходе. Музыка, марш.
Хлебосол. Чем-то повеяло! Вы не находите?
Задумчивый человек (озабоченно). Да, не могу не согласиться.
Ветеран. Вот-вот и сяду за мемуары. Попрыгаете вы у меня.
Непримиримая женщина. Я им всем такое сказала! Там была минута молчания.
Евдоким (жовиален, улыбчив, не изменился). Сколь благородное чело, В очах – усталость гения. Лицо давно приобрело Цвет солнца в час затмения.
Совратитель. Страсть гремела в глазах этой женщины. Душное пиренейское пламя. Казалось, оно выжигает дотла все окружающее ее пространство.
Брюнетка. Вы внесли в мою жизнь сверкание люстр.
Тминов. Я мою ноги пять раз в день.
Сундуков. Так чистоплотны?
Тминов. Дело не в этом. Снимаю нервное напряжение.
Сундуков. Бросьте. Откуда у вас напряжение?
Куртуазный поэт. О, жизнь моя, я данник твой. Ужель, не я избранник твой?
Фальцет. Дайте ей человеческое лицо!
Задумчивый человек. Чистому сердцу искренность в радость.
Фальцет. Клянусь вам! Я обожаю родину. Просто я – мыслящий тростник.
Дама с внутренним миром. Вы часто беседуете с Богом?
– Рассчитывай, подсчитывай, гад… Лабазная душа… счетовод… Играй, раздолбай, играй, пока жив…
Партия продолжается в том же регистре. В конце концов, сценарист делает пат и оба довольные ничейным исходом идут вкушать санаторный ужин.
Я говорю Юлию Райзману: «Вот так это происходило в семнадцатом… Двенадцать играют с беднягой Блоком… Но тогда о ничьей не могло быть и речи».
В пору борьбы с низкопоклонством «французскую булку» поименовали «городской», Петергоф назвали Петродворцом. В издательствах сразу же появились бдительные борцы с иностранщиной. Один такой лихач предложил переименовать «Дюймовочку». Было предложено и название: «Девочка длиной в два с половиной сантиметра».
Веревка и пуля – наши вечные спутники. Что касается первой, то она – почти мистически – возникает на всех трагических перекрестках. Всегда нужда в ней, всегда с ней заминка, всегда, однако, ее разыщут. В июле 1826-го казнь декабристов была задержана, требовалась веревка покрепче, впрочем, ее живо достали. Случалось, что ее не хватало для «столыпинских галстуков», но и тут выходили из положения. В октябре 1917-го замедлился штурм Зимнего дворца – ее искали, чтоб вздернуть фонарь на флагштоке – подать сигнал. И снова нашли!
В пору беды познаешь людей, друга познаешь в час удачи.
Интерлюдия (19 сентября 1968 г.)
И вот однажды, в февральскую ночь, на исходе влажной бакинской зимы, был зачат и, через положенный срок, вытолкнут в мир, где я должен жить и – что еще важней – уцелеть. Должно быть, мне выпало доказать, что южное пламя и меланхолия совсем не исключают друг друга. Так рано я стал обращаться к памяти – вдруг выхватишь какое-то звенышко, день или час, и тот и другой кажутся вовсе не примечательными. Вдруг вспомнилось лето сорокового. Едем с отцом на месяц в Москву. Поезд тащится ни шатко ни валко, идет неспешная купейная жизнь. В Мичуринске на перроне женщины торгуют пуховыми беретами, в Лозовой – изобилие жареных кур, в Прохладной – полно арбузов и яблок. Пассажиры, заспанные, размягченные, с красными полосами на щеках, небрежно, на скорую руку одетые, хозяйски разгуливают на платформе, как будто только что взяли станцию после внезапного налета.
Я все посматривал на циферблат – скоро ли тронемся? Нет терпения. Подумать, одна, нет, две еще ночи, и мы – в Москве. Есть ли большее счастье?!
…Двадцать лет я живу в своей Мекке. Вдоволь хлебнул московского счастья.
Вот что пишет Суворин о «Трех сестрах» обожаемого им Чехова.
«Скучно, кроме первого акта… Три сестры на сцене плачут, а публика нимало… Все какая-то дрянь на сцене. Живут, как миллионы живут у нас и везде». Последняя фраза весьма характерна. Обыденность воплощенной жизни, ее «знакомость» рождали раздражение. Зрителю (даже такому зрителю) хочется иных впечатлений, несхожего с его повседневностью. Впрочем, тут надо иметь в виду, что отношения Суворина с Чеховым переживали свое охлаждение в связи с их реакцией на дело Дрейфуса. Возможно, суворинское раздражение оказывало свое влияние на эстетическую оценку. И все же, все же…
Биография литератора – это его произведения. С ними связаны и от них зависят все сюжеты его личной судьбы.
Самые милые люди – эклектики. Даже незаурядные личности, однажды решившись служить догматам, мало-помалу превращаются в пародию на самих себя. Умы обуживаются, души мелеют. Читаешь последние откровения Немировича-Данченко и только вздыхаешь: где его вкус? Его критерии? Он, который один против всех когда-то отстаивал театр Чехова, теперь восхищается Корнейчуком. Умозаключения плоски, оценки искусства политизированы, напыщенный, непререкаемый тон – в духе и стиле тридцатых годов. Счастье, что на девятом десятке он бросился за спасением к Чехову. Не по известному изречению, на сей раз живой ухватился за мертвого, и мертвый помог – вдохнул в него жизнь.
Семен Межинский был одним из самых мощных талантов Малого театра. Нельзя сказать, что официальное признание соответствовало силе его дара. Возможно, в какой-то мере мешало и его семитское происхождение, не слишком уместное в Доме Островского. Он испытывал стойкий дискомфорт, но старался его не обнаруживать. Однажды встречает меня на Петровке, смотрит совиными глазами, в них вековечная печаль, житейский опыт, усталость, скука.
– Ну, напишите для нас пьесу. Послушайте старого актера. Малый театр – живой театр. Не верьте вы тем, кто его хоронит. Вы принесите, а мы сыграем. Вениамин Цыганков вас любит, поставит ее хорошо и быстро. Он – режиссер, а не балаболка. Как говорится, профессионал. Есть и артисты – не самые худшие. Хотя бы ваш покорный слуга. Сыграю, угожу, не обижу, будете старым актером довольны.
– Вот уж в чем я не сомневаюсь. Бог с ней, с пьесой. Как идет ваша жизнь?
Он грустно вздыхает, машет рукой:
– Идет, ползет. Передвигается. В театре – тоска, мертвечина, болото. Распределяют разные блага. Квартиры, звания и медали. О творчестве никто и не думает. Втянули тут меня в одну пьеску, какая-то пустопорожняя дичь. Но объясняют, что надо ставить. Автор все-таки из соцлагеря, в общем, народно-демократический. Ну и мыкаемся. Актеры – холопы.
– А кто ее ставит?
– Ну, кто у нас ставит? Венька Цыганков, разумеется. По Сеньке – Венька. О чем говорить? Мрак или морок, как вам угодно. Поверьте уж старому актеру.
Полдень. Теплынь. В коридоре санатория уборщица балуется с монтером.
– Засранец… – воркует она, исходя от нежности. (Комментарий, сделанный в 1990-х: Занятно. Почти через двадцать лет из этой записи вырос рассказ «Процедура».)
Потерянное поколение кавычек и оговорок, навек изувеченное цитатами.
Вручая подарок (хмуро): На прощанье – шаль с каймою.
Какая чудесная подпись мудреца под автошаржем: «Я пришел в этот мир очень юным во времена очень древние».
Ум беседует с пространством, мудрость – со временем.
Что выше прощальной фразы Сократа в последнем слове его на суде? «Но уже пора идти отсюда, мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это никому не ведомо, кроме Бога».
(31 декабря 1969 г. Ессентуки.) По странной прихоти обстоятельств оказался я в этом курортном городе с его опостылевшей водой в самый канун семидесятого. Бесснежно, не холодно, очень сыро, промозглая влажная погода. Как странно, что именно здесь я встречаю новое грозное десятилетие. Минувшее начиналось с надежд, тут же пресеченных Манежем, кончилось Прагой и усилиями (вполне откровенными) реанимировать Сталина. То, что настает, будет хуже – ожесточенней и лицемерней. Беззвездное минераловодское небо и на дворе почти никого. Из окна я вижу: по другой стороне темной, почти безлюдной улицы какая-то чета поспешает встретить наступающий год. Войдут сейчас они в чью-то квартиру, компания за столом оживится: вот и Никитины пришли. Потом потеснятся, Никитины сядут, наполнят рюмки, и все дерябнут – встретят еще один Новый год. С новым счастьем! Где оно, счастье?
Чего же я себе пожелаю? Одного – написать «Медную бабушку».
…А сильным не хватает силы, Всех безоружнее бойцы. И сходят в ранние могилы Неистовые мудрецы. Не теребят, не верховодят. Спаслись от славы и обид. Порою смертных смерть обходит. Зато бессмертных – не щадит.
Манеж
Инспектор (с хлыстом в руке). Поклон вам от всей души. Перед вами – честное зеркало манежа. Чувствуйте себя в цирке, как дома. Не знаю другого такого места, где так вольно дышит человек. Итак, ваши аплодисменты. Артисты на выходе. Музыка, марш.
Хлебосол. Чем-то повеяло! Вы не находите?
Задумчивый человек (озабоченно). Да, не могу не согласиться.
Ветеран. Вот-вот и сяду за мемуары. Попрыгаете вы у меня.
Непримиримая женщина. Я им всем такое сказала! Там была минута молчания.
Евдоким (жовиален, улыбчив, не изменился). Сколь благородное чело, В очах – усталость гения. Лицо давно приобрело Цвет солнца в час затмения.
Совратитель. Страсть гремела в глазах этой женщины. Душное пиренейское пламя. Казалось, оно выжигает дотла все окружающее ее пространство.
Брюнетка. Вы внесли в мою жизнь сверкание люстр.
Тминов. Я мою ноги пять раз в день.
Сундуков. Так чистоплотны?
Тминов. Дело не в этом. Снимаю нервное напряжение.
Сундуков. Бросьте. Откуда у вас напряжение?
Куртуазный поэт. О, жизнь моя, я данник твой. Ужель, не я избранник твой?
Фальцет. Дайте ей человеческое лицо!
Задумчивый человек. Чистому сердцу искренность в радость.
Фальцет. Клянусь вам! Я обожаю родину. Просто я – мыслящий тростник.
Дама с внутренним миром. Вы часто беседуете с Богом?