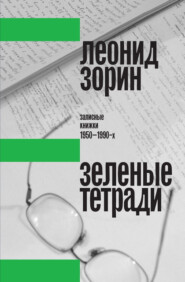По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кнут
Автор
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В словах твоих есть кусочек истины, – сказал он задумчиво, – но, как всегда, ты и неряшлив, и неточен, и шизофренически непоследователен. В твоей всклокоченной голове по обыкновению – каша.
– Само собой! – губы Подколзина дрогнули. – Что может быть в моей голове?
– Ни ладу, ни складу, – сказал Яков Дьяков. – Следует рассуждать системно. Либеральность не отменяет ступенек, в этом ты прав, но ее основа – не столько буржуйство, сколь патрицианство. Это существенное различие. Отвергается, прежде всего, массовидность. Эгалитарность – любовь твоя, мечта твоя – это путь к вырождению.
Густая баритональная музыка, звучавшая в голосе Якова Дьякова, разительным образом отличалась от подколзинского тенорового плача. Баритон был урчащий, словно захлебывающийся, при этом динамично стремительный, заряженный какой-то утробной энергией. Он, бесспорно, подчинял собеседника.
– Что это за палочка у тебя? – спросил Подколзин с невольной робостью.
– В прежней жизни она была смычком, – охотно пояснил Яков Дьяков. – Я ее выпросил на память у даровитой виолончелистки, когда-то посещавшей мой дом. Мне она сразу пришлась по руке. Имею в виду, естественно, палочку.
– Вот оно как, – прошептал Подколзин, – были женщина, виолончель, смычок. И нет женщины, нет виолончели, нет и смычка, исторгавшего звук. А палочка без души осталась, и ты ею взмахиваешь, как жезлом.
– Да, это жезл, – согласился Дьяков. – Вашего брата-разночинца нужно осаживать время от времени.
– Я же сказал, зачем я тебе, – горько проговорил Подколзин. – Лишь для того, чтоб своим ничтожеством я оттенял наше неравенство.
– А ты хочешь равенства? – спросил Дьяков.
– А кто же не хочет?
– Все не хотят! – неожиданно резко отрезал Дьяков. – Это девиз, которым клянутся, втайне отвергая его. Маска на старте перед забегом, на финише от нее избавляются. Присяга лицемеров и троечников, страстно мечтающих преуспеть и поскорее ее нарушить. И ты еще ополчался на ложь! Не равенства жаждешь ты, а поклонения. Причем в его самой вульгарной форме. Многократно описанный вельский синдром.
– При чем тут Вельск? – закричал Подколзин. – Можешь хоть Вельск оставить в покое?
– Очень при чем, – сказал Яков Дьяков. – Все эти вельские молодцы скроены на один манер – днем кучкуются в своих подворотнях, вечером пьют бочковое пиво, а ночью им снится, что правят миром. Ты хочешь, чтоб на тебя лупились: «Смотрите, смотрите, идет Подколзин». Чтоб каждое твое слово подхватывали, как будто ты министр финансов. Чтоб редактор «Дорожника» тряс твою руку двумя руками, а Зоя Кузьминишна замирала при твоем появлении. Это и есть вельский синдром.
Черный клок, ниспадавший на бледный лоб, победно взметнулся. Бывший смычок больно уперся в грудь Подколзина, требуя правды, только правды и ничего, кроме нее. Подколзин спрятал лицо в ладонях.
– Хочу, – простонал он помимо воли. – Что тут дурного?
– А что хорошего? Внедрись в свою бессмертную душу и обнаружишь один утиль. Завистливость, суетность, воспаленность. И это еще далеко не все. В тебе, мой милый, такой коктейль – кто попробует, долго будет отхаркиваться.
– Какие вы, люди, мастера по части каиновых печатей, – с тяжелым вздохом сказал Подколзин. – Каждый у вас то жалок, то мелок. Скоры на суд и на расправу. Зато, когда рядом Сократ погибал, вы даже пальцем не шевельнули.
– Нет, каков! – возмутился Дьяков. – «Вы, люди…» А ты что за птеродактиль?
– А я другой, – всхлипнул Подколзин. – Без вашей толстой слоновой кожи. Искренний, непосредственный, честный. Что чувствую, то я и говорю.
– Сначала я тебя расколол.
– Да. Я не могу запираться. Я естествен.
– Ты нетрезв, – сказал Дьяков.
– Сам и споил меня, – крикнул Подколзин. – И вообще, не тебе упрекать.
– Нетрезв и по-девичьи непоследователен, – неумолимо продолжил Дьяков. – Не одобряешь нас, а заискиваешь. Да, гуманоиды негуманны. Так что ж ты томишься, сучишь ногами и жаришься на своей сковородке? Можно вести себя так нелепо?
– А Пушкину можно? – спросил Подколзин. – Вспомни стихи «Желание славы».
– Пушкину – можно, – сказал Яков Дьяков. – Он медный всадник на бронзовом Пегасе. Можно и бедному Сократу, помянутому тобою всуе. А ты обойдись без амбивалентности. Безумствуй, но не сходи с ума. Помни, что имя твое – Подколзин. Тогда я готов прийти на помощь.
– Готов ты… – гость печально вздохнул. – Никто не придет, и ты не придешь. Если готов, то разве на то, чтоб уничтожить и сделать посмешищем. Да, разумеется, я смешон. Все хочется найти путь к спасению или хотя бы человека, к которому можно прислониться. Глупо, невыразимо глупо. Только в метро с тобой разговаривают без экивоков. Во всех переходах начертано, что «выхода нет», а в вагонах, на дверцах: «Не прислоняться». Грубо, но честно. Не пудрят мозги.
Подколзин сделал поползновение схватить подушку с тахты хозяина, но Дьяков остановил его взглядом.
– Ты лучше выпей, – сказал он участливо.
Подколзин прерывисто застонал.
– О чем это ты? – спросил его Дьяков.
– Вспомнилось старое кино, – чуть слышно проговорил Подколзин. – Конь отощал, не может подняться, а хозяин его – кнутом! По бокам. Вставай и шагай на живодерню.
– Везде у тебя – животный мир, – задумчиво констатировал Дьяков. – Какая-то странная упертость. Щенок приблудился, конь отощал. Басня, переходящая в драму. Впрочем, про лошадь – совсем не худо…
Дьяков прервал себя. Молча выпил. В опасных зеленых глазах запрыгали хмельные бесовские огоньки.
– Кнутом, говоришь? По бокам, говоришь? Неплохо, неплохо. Взбодрись, Егорий. Я дам тебе то, чего ты просишь. Славу и общее помешательство. Тася будет кусать себе локти. Но только предайся мне безусловно.
– Вот ты и открыл себя, дьявол, – не то страдая, не то торжествуя, воскликнул Подколзин. – Чего ж ты потребуешь? Душу мою?
– Зачем она мне? Что мне с ней делать? – спросил Яков Дьяков. – Нет, я потребую подчинения. Совсем немного за воплощенье твоей геростратовой вельской мечты. Ты обязуешься не прекословить. Не возражать. Не качать права. Мой первый приказ – не высовывать носу. Пока не позволю – нигде не показываться. Уходишь в глубокое подполье.
– Но я должен снести в «Московский дорожник» заказанную ими статью.
– Так не снесешь. Статья не яйцо.
– Но мне, между прочим, надо жить, – дрожащим фальцетом пропел Подколзин.
– Не спорю, надо. Я дам тебе денег.
– Не стану я есть твой хлеб. Он горек, – сказал Подколзин с громадным достоинством. – Я журналист, а не приживал.
– Сделаешь то, что я говорю, – сурово оборвал его Дьяков. – Я вынужден идти на расходы. Эксперимент без затрат невозможен. Вот будешь славен, как Кочубей, возможно, даже богат и славен – тогда и вернешь все до копейки.
– Так значит, я – кролик? А может быть, мышь? – Подколзин усмехнулся. – Сподобился.
– Не можешь без животного мира. Напрасно ты так переживаешь. Сегодня ты мышь, а завтра – лев. Закон истории, – сказал Дьяков. – Если желаешь жить курчаво, надо суметь жить стадиально. Получишь все, но ходи по струнке. Всего-то и требуется от тебя. Слишком много самосознания у всех у вас в последнее время.
Урчащий баритон подавлял всякую волю к сопротивлению.
– Ты – Вельзевул… – прошептал Подколзин.
– Не надо мне льстить, – отмахнулся Дьяков. – Теперь иди. И сиди взаперти. Не вздумай разгуливать по Разгуляю.
На пороге Подколзин остановился.
– Само собой! – губы Подколзина дрогнули. – Что может быть в моей голове?
– Ни ладу, ни складу, – сказал Яков Дьяков. – Следует рассуждать системно. Либеральность не отменяет ступенек, в этом ты прав, но ее основа – не столько буржуйство, сколь патрицианство. Это существенное различие. Отвергается, прежде всего, массовидность. Эгалитарность – любовь твоя, мечта твоя – это путь к вырождению.
Густая баритональная музыка, звучавшая в голосе Якова Дьякова, разительным образом отличалась от подколзинского тенорового плача. Баритон был урчащий, словно захлебывающийся, при этом динамично стремительный, заряженный какой-то утробной энергией. Он, бесспорно, подчинял собеседника.
– Что это за палочка у тебя? – спросил Подколзин с невольной робостью.
– В прежней жизни она была смычком, – охотно пояснил Яков Дьяков. – Я ее выпросил на память у даровитой виолончелистки, когда-то посещавшей мой дом. Мне она сразу пришлась по руке. Имею в виду, естественно, палочку.
– Вот оно как, – прошептал Подколзин, – были женщина, виолончель, смычок. И нет женщины, нет виолончели, нет и смычка, исторгавшего звук. А палочка без души осталась, и ты ею взмахиваешь, как жезлом.
– Да, это жезл, – согласился Дьяков. – Вашего брата-разночинца нужно осаживать время от времени.
– Я же сказал, зачем я тебе, – горько проговорил Подколзин. – Лишь для того, чтоб своим ничтожеством я оттенял наше неравенство.
– А ты хочешь равенства? – спросил Дьяков.
– А кто же не хочет?
– Все не хотят! – неожиданно резко отрезал Дьяков. – Это девиз, которым клянутся, втайне отвергая его. Маска на старте перед забегом, на финише от нее избавляются. Присяга лицемеров и троечников, страстно мечтающих преуспеть и поскорее ее нарушить. И ты еще ополчался на ложь! Не равенства жаждешь ты, а поклонения. Причем в его самой вульгарной форме. Многократно описанный вельский синдром.
– При чем тут Вельск? – закричал Подколзин. – Можешь хоть Вельск оставить в покое?
– Очень при чем, – сказал Яков Дьяков. – Все эти вельские молодцы скроены на один манер – днем кучкуются в своих подворотнях, вечером пьют бочковое пиво, а ночью им снится, что правят миром. Ты хочешь, чтоб на тебя лупились: «Смотрите, смотрите, идет Подколзин». Чтоб каждое твое слово подхватывали, как будто ты министр финансов. Чтоб редактор «Дорожника» тряс твою руку двумя руками, а Зоя Кузьминишна замирала при твоем появлении. Это и есть вельский синдром.
Черный клок, ниспадавший на бледный лоб, победно взметнулся. Бывший смычок больно уперся в грудь Подколзина, требуя правды, только правды и ничего, кроме нее. Подколзин спрятал лицо в ладонях.
– Хочу, – простонал он помимо воли. – Что тут дурного?
– А что хорошего? Внедрись в свою бессмертную душу и обнаружишь один утиль. Завистливость, суетность, воспаленность. И это еще далеко не все. В тебе, мой милый, такой коктейль – кто попробует, долго будет отхаркиваться.
– Какие вы, люди, мастера по части каиновых печатей, – с тяжелым вздохом сказал Подколзин. – Каждый у вас то жалок, то мелок. Скоры на суд и на расправу. Зато, когда рядом Сократ погибал, вы даже пальцем не шевельнули.
– Нет, каков! – возмутился Дьяков. – «Вы, люди…» А ты что за птеродактиль?
– А я другой, – всхлипнул Подколзин. – Без вашей толстой слоновой кожи. Искренний, непосредственный, честный. Что чувствую, то я и говорю.
– Сначала я тебя расколол.
– Да. Я не могу запираться. Я естествен.
– Ты нетрезв, – сказал Дьяков.
– Сам и споил меня, – крикнул Подколзин. – И вообще, не тебе упрекать.
– Нетрезв и по-девичьи непоследователен, – неумолимо продолжил Дьяков. – Не одобряешь нас, а заискиваешь. Да, гуманоиды негуманны. Так что ж ты томишься, сучишь ногами и жаришься на своей сковородке? Можно вести себя так нелепо?
– А Пушкину можно? – спросил Подколзин. – Вспомни стихи «Желание славы».
– Пушкину – можно, – сказал Яков Дьяков. – Он медный всадник на бронзовом Пегасе. Можно и бедному Сократу, помянутому тобою всуе. А ты обойдись без амбивалентности. Безумствуй, но не сходи с ума. Помни, что имя твое – Подколзин. Тогда я готов прийти на помощь.
– Готов ты… – гость печально вздохнул. – Никто не придет, и ты не придешь. Если готов, то разве на то, чтоб уничтожить и сделать посмешищем. Да, разумеется, я смешон. Все хочется найти путь к спасению или хотя бы человека, к которому можно прислониться. Глупо, невыразимо глупо. Только в метро с тобой разговаривают без экивоков. Во всех переходах начертано, что «выхода нет», а в вагонах, на дверцах: «Не прислоняться». Грубо, но честно. Не пудрят мозги.
Подколзин сделал поползновение схватить подушку с тахты хозяина, но Дьяков остановил его взглядом.
– Ты лучше выпей, – сказал он участливо.
Подколзин прерывисто застонал.
– О чем это ты? – спросил его Дьяков.
– Вспомнилось старое кино, – чуть слышно проговорил Подколзин. – Конь отощал, не может подняться, а хозяин его – кнутом! По бокам. Вставай и шагай на живодерню.
– Везде у тебя – животный мир, – задумчиво констатировал Дьяков. – Какая-то странная упертость. Щенок приблудился, конь отощал. Басня, переходящая в драму. Впрочем, про лошадь – совсем не худо…
Дьяков прервал себя. Молча выпил. В опасных зеленых глазах запрыгали хмельные бесовские огоньки.
– Кнутом, говоришь? По бокам, говоришь? Неплохо, неплохо. Взбодрись, Егорий. Я дам тебе то, чего ты просишь. Славу и общее помешательство. Тася будет кусать себе локти. Но только предайся мне безусловно.
– Вот ты и открыл себя, дьявол, – не то страдая, не то торжествуя, воскликнул Подколзин. – Чего ж ты потребуешь? Душу мою?
– Зачем она мне? Что мне с ней делать? – спросил Яков Дьяков. – Нет, я потребую подчинения. Совсем немного за воплощенье твоей геростратовой вельской мечты. Ты обязуешься не прекословить. Не возражать. Не качать права. Мой первый приказ – не высовывать носу. Пока не позволю – нигде не показываться. Уходишь в глубокое подполье.
– Но я должен снести в «Московский дорожник» заказанную ими статью.
– Так не снесешь. Статья не яйцо.
– Но мне, между прочим, надо жить, – дрожащим фальцетом пропел Подколзин.
– Не спорю, надо. Я дам тебе денег.
– Не стану я есть твой хлеб. Он горек, – сказал Подколзин с громадным достоинством. – Я журналист, а не приживал.
– Сделаешь то, что я говорю, – сурово оборвал его Дьяков. – Я вынужден идти на расходы. Эксперимент без затрат невозможен. Вот будешь славен, как Кочубей, возможно, даже богат и славен – тогда и вернешь все до копейки.
– Так значит, я – кролик? А может быть, мышь? – Подколзин усмехнулся. – Сподобился.
– Не можешь без животного мира. Напрасно ты так переживаешь. Сегодня ты мышь, а завтра – лев. Закон истории, – сказал Дьяков. – Если желаешь жить курчаво, надо суметь жить стадиально. Получишь все, но ходи по струнке. Всего-то и требуется от тебя. Слишком много самосознания у всех у вас в последнее время.
Урчащий баритон подавлял всякую волю к сопротивлению.
– Ты – Вельзевул… – прошептал Подколзин.
– Не надо мне льстить, – отмахнулся Дьяков. – Теперь иди. И сиди взаперти. Не вздумай разгуливать по Разгуляю.
На пороге Подколзин остановился.