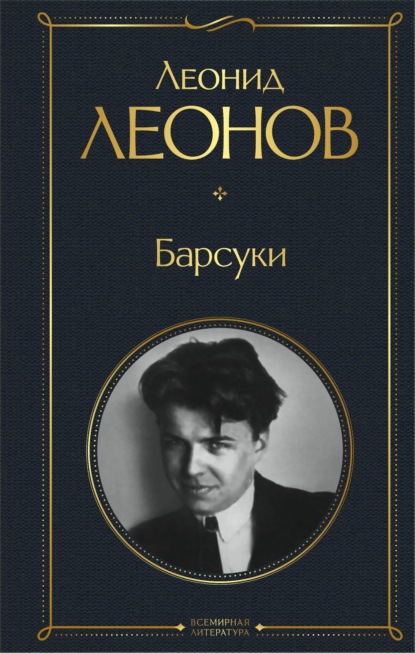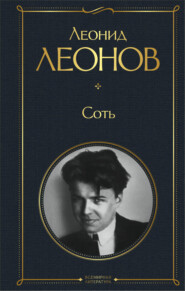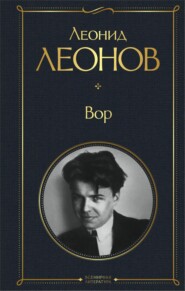По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Барсуки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чего фунтик? Гирьку, что ли, в фунтик? За стойкой, вместо Насти, теперь стоял сам Секретов, насмешливо постукивая по прилавку ножом.
– Нет, мне вот этого, – сказал Сеня, невпопад указывая на яйца.
– Яйца фунтами не продаем. Яйца мы десятками, – сухо поправил Секретов.
– Мне десяток, да, – сказал Сеня, ощущая себя так, словно катился под откос.
– Семнадцать копеек… Товар замечательный. Извольте сдачу… Сеня торопливыми глазами искал ту, из гераневого; ее уже не было. Казалось, весь трактир смотрит только на него и, изнывая от смеха, ждет, что еще выкинет этот потешный малый, набивающий карманы крутыми яйцами.
Когда он добрался до своего столика, брата уже не было. Он не дождался и ушел.
– Эй, земляк! – крикнул Сеня, не особенно огорчаясь уходом Павла. – А ну, получи с меня…
– Заплачено за этот стол, – мельком бросил половой, снова проносясь снежноподобным вихрем.
…Когда Сеня выходил на черную лестницу, по которой и пришел, «Венеция» зажигала огни; здесь и там вспыхивали газовые рожки. Позади снова загрохотал орган, но уже не жалобно, а вприпляс. Похоже было, будто развеселился на Сеню старик и пошел вкруговую, не стыдясь ни хромоты своей, ни обвисшего плеча.
XI. Сперва смеется Настя, а потом Сеня
Словно воды под ударом ветра, разволновалась Сенина душа. Неумолкающие круги, разбуженные первым восторгом, забегали по ее поверхности. Предчувствием любви заиграло Сенино воображение.
Теперь вечерами уже не к Катушину бежал Сеня. Едва запрут – закрытие лавки совпадало теперь как раз с наступлением темноты, – выбегал на осеннюю улицу, чтоб брести, куда поведут глаза, в надежде когда-нибудь повстречать свою Настюшу. Странно милы были ему головокружительное волнение мыслей о ней и ядовитая сладость бесцельных блужданий.
В том году как раз прогремели первые военные вести. Те, которым, как братьям, одну бы песню петь, стояли в больших полях друг против друга, засыпали чужую сторону железом, душили смрадом и уже много народу побили. Брали тогда и брили молоденьких, везли в самые погиблые места, где и земля-то сама, как воск, таяла и гнила стыдом. Тужились стороны, тужилось и Зарядье, посылая молодятину в пороховой чад…
Растеряв все свои ярославские румянцы, унылый и пьяный, выехал на фронт Иван Карасьев. Замело общей волной и Егора Брыкина, не успевшего и наследника по себе оставить. Выехал туда же и Пётр Быхалов с тайными намерениями. Он приходил прощаться к отцу и поцеловал его в жесткую щеку, а отец сказал: «Очистись, Пётр…» Тихо стало в Зарядье. В безмолвие, нарушаемое только звоном праздничных колоколов да похрустываньем жирных пирогов с вязигой, не доходили громы с далеких полей. Уже и до Сениной очереди оставался только год, а он и не думал.
…Была суббота. В зарядскую низинку моросило. Уличный мрак не рассеивался мутным светом убогих зарядских фонарей. Все дремало в предпраздничном отдохновении, когда Сеня вышел из ворот и привычно взглянул в окно противоположного дома, в гераневое. Огня в нем не было, и только Сенин глаз умел найти его в ряду других, таких же.
На тумбе сидел бездомный, с мокрой шерстью, кот. Сеня присвистнул на него, надвинул козырек на самые глаза и пошел вдоль переулка. Пальтецо распахнулось, тонкий сатин рубашки не защищал тела от пронизывающих веяний влаги, но это было приятно. Он уже миновал два переулка и проходил мимо бедноватой Зачатьевской церквушки, загнанной в самый угол Китайгородской стены. Где-то в колоколах свистела непогода. Всенощная отходила, – уже спускались с паперти невнятные подобия людей; их тотчас же поглощала ночная мгла. Внутренность церкви была трепетно и бедно освещена.
Сеня вошел.
Пели уже «Славу в вышних». Наступил тот промежуток в службе, когда в страхе потемок повергается на землю тело человеческой души. Смутное освещение немногих свечей не выпячивало на глаза назойливой церковной позолоты. На амвоне стоял дьякон, склоняя голову вниз, как во сне. Народу было мало. Вправо от себя, в темном углу, увидел Сеня Настю; он уже знал ее по имени. Она стояла, опустив голову, но вдруг обернулась, высоко подняв удивленные брови, и порозовела. По каким-то неуловимым признакам, может быть – биенью сердца, она догадалась о его присутствии.
Шло к концу. Уже давался отпуст, когда Сеня вышел на паперть. Там бежал дощатый заборчик, чуть не заваливаясь на тротуар. Прислонясь к нему, Сеня ждал. Проходившие мимо не замечали его: ближние фонари не горели. Сеня слышал разговоры прихожан.
Двое, борода и без бороды:
– Будто отца Василья-то к митре представили.
– Это что ж, дяденька, вроде как бы «Георгий» у солдат?.. Несколько минут совсем пустых, только ветер; потом старухи:
– Жена и напиши ему: куда мне безрукий? Я себе и с руками найду…
– Скажи-и пожалуйста!.. Наконец знакомые голоса:
– Нечистый-то ему и приказывает: ложись, говорит, спи! А Сергей-то Парамоныч покрестился, глянул, а перед ним пролубь… Он и отвечает: дак ведь это пролубь, говорит…
– А тот что?
– А бес-то и повянул весь. Сеня насторожился:
– …Так ведь вы, Матрёна Симанна, не видели!.. Две женщины, старая и молодая, подходили. Несмотря на мрак, Сеня сразу узнал свою. Настя шла дальнею от Сени, справа. С забившимся сердцем Сеня выждал, пока они приблизились совсем. Тогда он выступил из своего укрытия и пошел рядом. Старая – Матрёна Симанна – посторонилась было, давая пройти, но Сеня не собирался уходить, шел вместе, взволнованный и смущенный.
– Проходи, проходи, милый, – затрубила баском Матрёна Симанна, неспокойно приглядываясь к подозрительному молодцу. – Я вот людей кликну на тебя! – Она даже оглянулась, но никого не было кругом; из церкви Секретовы вышли последними.
Место здесь самое глухое – кондитерский оптовый склад, ящичное заведение, парикмахерская с подобающей вывеской: человек остригает голову человеку же огромными ножницами… Все это теперь закрыто на замок и отгорожено толстой стеною сна.
– Настя!.. – тихо позвал Сеня; многое хотел сказать, но все мысли, рожденные радостью этой встречи, уже слились в одном слове, и слово это было произнесено. Настя молчала, может быть, смеясь.
– Да отстанешь ли ты, мошенник, или нет?.. – загорячилась старая, пытаясь втолкнуться клином среди молодых. – Ишь какой напористый, – пыхтела она, отпихивая Сеню, отмахивая его, словно чурала, длиннющим рукавом салопа.
Сеня сперва как будто не замечал ее, потом обронил сердито:
– Ты погодь, старушка, не лезь. Что ты тут под ногами шариком вертишься?
– В самом деле, вы ступайте, Матрёна Симанна, позади. Троим тут очень трудно идти, – сказала Настя и впервые близко взглянула на Сеню. – Может, у него дело ко мне есть…
– Какое же, матушка, дело у ночного мошенника? – пуще затарахтела старуха. – Может, он убить нас с тобой хочет!..
– А ты веди себя кротко, не шуми, так и не убьет, – приказала Настя. – Я тебе за это… ну, одним словом, про скляницы твои рассказывать папане не буду!
Ей было и радостно, и чуть-чуть жутко; то и дело вынимала платочек из муфты, маленькой, как черный котенок, и терла зудевшие губы. Сеня шел рядом с ней, плечи их почти соприкасались.
– Так что же вам нужно от меня? – с опущенной головой начала Настя.
– Мне ничего от вас не нужно, – откровенно сознался он и даже приотстал на полшага.
Настя подождала его; игра казалась ей забавной.
– А… вот как! – и закусила губку. – Может, вы к папане в половые хотите поступить?
– Не-ет, – отвечал Сеня, готовый в любую подворотню вскочить от стыда за внезапную немоту свою.
Они уже прошли весь переулок, а еще ничего не было сказано из того, что думали они оба.
– Как вас зовут? – решился он наконец.
– Нас – Аниса Липатовна! – кинула Настя и с неожиданным раздражением обернулась к старухе: – Вы идите, тетя, домой. Скажите там, что к иконам осталась прикладываться!.. Ну, а вас как?
– Нас – Парфением, – резко сказал Сеня, удивляясь, кто дал ей эту власть – вести его за собой, как на веревочке.
– Что же вы замолкли совсем? Приятное что-нибудь скажите, раз уж на улице пристали… или какие у вас мысли про меня? – И, странно, это подергиванье веревочки доставляло Сене острое и неприятное удовольствие.
– Нет у меня никаких мыслей, – угрюмясь, отвечал Сеня.
– А зачем же вам голова дадена?