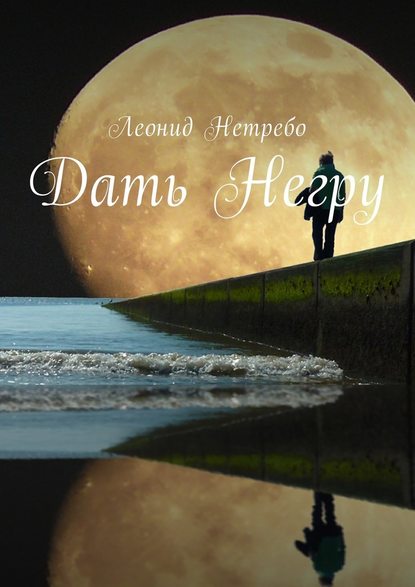По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дать Негру
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все думали, что меня затопчут. Но оно, горно-азиатское, хронически небритое множество стояло пораженное…
Опускаю подробности, дружище папарацци, скажу только, что с тех пор у меня установился непререкаемый авторитет «мужчины».
Пока я ездил домой, чтобы немного отлежаться: обычное дело для боксера – унять гул в голове от легкого сотрясения мозга и промыть брусничным морсом подбитые почки, – Анфиса «ушла к Иллариону». А вы думали, что после того, как я стал героем, пусть нокаутированным, то Анфиса – ах, ах?.. Ваш вариант выглядел бы красиво, но, увы! Бывают, конечно, чудеса, однако, согласитесь, они случаются редко.
Да и, в конце концов, что дороже чести мужчины, старина папарацци! Вы не хуже меня знаете, что честь стоит очень дорого. Иногда она стоит целой жизни.
Как в случае с Илларионом.
Который имел честь встать на защиту обижаемой хулиганом женщины, совершенно посторонней, кстати, что, несомненно, есть рыцарство. За что получил нож в брюшную область. Типичная плата за роскошь, коей является честь. (Извините, «честь-честь» – зачастил, как весенний щегол на репейной ветке).
А дело было так. Особым местом в свиданиях влюбленных, Иллариона и Анфисы, стала темная улица недалеко от общежития. Гуляя по окрестностям, возвращаясь с танцев, с кино (никаких неформальных сборищ – что вы, с кавказцем это не проходило!), они, перед тем как зайти в наше общее жилище, под занавес, так сказать, дня оказывались в начале этой улицы, у длинного, как крепостная стена, дома – непременно, как по расписанию. Я ведь уже говорил, что у каждой любви свои бзики. Здесь мнимый грек прислонял кудрявую пассию к стене, упирался ладонями в кирпичи возле девических плеч и целовал ее, похожую на эллинку, долго и страстно.
Там это и случилось. Поздним вечером, почти ночью. Всего через месяц после того, как я остался один, а их стало двое.
Когда они целовались у той самой стены, неподалеку в темноте закричала женщина, зовя на помощь. Грек поколебался, уговариваемый Анфисой не вмешиваться, но гордость не позволила поступить иначе, как побежать в темноту на крик…
Минутами позже она, «похожая на гречанку», в том самом темном пятне улицы и нашла своего «непохожего на грека», сидящего на тротуаре, прижимающего ладони к боку. Рядом стенала перепуганная женщина, причина переполоха.
Говорят, грек в Анфисе души не чаял, и все могло бы закончиться свадьбой. Могло – бы. Хотя уверенности в этом у меня до сих пор нет. Простите меня за пошлость, я имею в виду слова о перспективе свадьбы.
Самое интересное в том, что раненый грек, лежа в больнице, в температуре и бреду, обихаживаемый родственниками, прилетевшими из Грузии, и Анфисой, позвал меня.
Когда я подходил к больнице, там на двух-трех скамейках сидела вся греко-кавказская компания, вся «могучая кучка». Они были не такие, какими я их знал прежде, совсем другие, невероятно иные; даже не знаю, как выразить словами их переменчивость – свершившуюся, невозвратную. Одни – в солнцезащитных очках, казалось, философски запрокинули головы к небу; другие – опустивши руки, устало смотрели в сторону и вниз, словно труженики с лубочных картинок в стиле романтического реализма; третьи – устремили взгляды на меня, какие-то внутренне поющие, успокоенные. Возможно, все они впервые осознали, что такое настоящая мужественность, какова ей цена, и задумались, стоит ли примерять на себя ее белые и такие рискованные, оказывается, одежды. Все издали покивали мне довольно приветливо.
Когда я зашел к Иллариону в палату, в которой он лежал, как тяжело больной, один, у него была только Анфиса. Мы просто поговорили о том, о сем. Он ведь пригласил меня для того, чтобы показать: вот, мол, я мужчина, ты тогда был не совсем прав, а оно видишь как, сейчас уже никто не скажет, что… Наверное, в таком роде все крутилось в его температурящей голове. Во всяком случае, он был возвышен, одухотворен, пылал. Конечно, плюсом к этому огню было его физическое горение.
Поговорили вот так, ни о чем, и Анфиса вышла за какой-то микстурой, а мне было пора. Я поднялся со стула. Тогда грек сказал, почему-то виновато улыбаясь, что его «ужалила какая-то змея». Хотел показать, но двигаться ему было трудно, и он скосил глаза вниз, где лежали его большие руки поверх простыни, пояснив: небольшой укус, справа от пупка…
Он заговорил быстро, и это была тривиальная сцена: умирающий прощался, прощал и просил прощения. Просил, чтобы я «поддержал Анфису хотя бы в первое время», что он мне теперь не соперник, и чтобы я не обижался на нее.
Я отвернулся, чтобы уйти, избавиться от этой бульварщины.
Он спросил мне в спину:
«Я грэк?»
Я ответил уже у двери:
«Ты грек. И над тобой витает Ника, богиня Победы».
Он слабо улыбнулся и поднял глаза к потолку. И отвернулся – не всем телом со смертельным укусом, а только отвел голову – мне показалось, что в глазах блеснуло. Да, скорее, показалось. Погода была хорошая, солнечная, лучи проникали сквозь желтые занавески, и всё в палате чудилось омедненным и поблескивало…
Что вы там говорили про Бронзового Солдата? Не знаю, почему я вспомнил…
Я выполнил последнюю волю Иллариона, не всю, увы, но в той части, где он просил поддержать Анфису «в первое время». Мы вновь сблизились с Эллады дщерью, и это была дружба, пусть странная, но, наверное, настоящая, так, во всяком случае, казалось. В наших отношениях была печаль, которая возвышала эти отношения. Мы уже избегали шумных компаний и соответствующих заведений, большей частью сидя в театре, где смотрели драмы и трагедии, гуляли по улицам, обходя тот переулок, на котором состоялось злополучное свидание, где Илларион защитил незнакомую женщину, чтобы в глазах дамы своего сердца остаться мужчиной.
Кое-что запомнила та самая до конца жизни напуганная женщина. Несмотря на то, что хулиган и, как теперь ясно, убийца был в маске – в капроновом чулке, женщина смогла хоть как-то описать насильника, его рост и даже дыхание. Да-да, вдумайтесь – дыхание! Из студентов, косяком поваливших записываться в дружинники, создавались пятерки. Мы (мог ли я избежать той общей участи?) обходили улицы, угрюмые, сосредоточенные, возвышенные, в те вечера мы никого и ничего не боялись. Когда нас первый раз инструктировали в милиции, нам показали ту пострадавшую женщину. Она волновалась, заикалась, рассказывая, описывая «того самого», и, о Боже, имитировала его дыхание, откидываясь на спинку стула, закрывая лицо ладонью, охала.
Однажды во время вечернего рейда нашей пятерке показался подозрительным один молодой высокий человек. Мы окликнули его, он кинулся бежать, мы – следом. Все отстали, но я настиг его, не столько потому, что хотел его догнать, а скорее потому, что он зацепился за что-то ногой и упал. Отполз спиной вперед, затравленный, встал, прислонился к стене.
Я готов был бить его и даже привычно занес свой правый кулак, чтобы ударить левым. Но остановился, после того как он прошептал:
«Извини, я просто испугался!»
Я стоял напротив него и тяжело дышал, боясь, что мое дыхание сейчас похоже на то, что изображала женщина; хотя при чем здесь этот парень, который ее не слышал?
Я спросил его:
«Страшно?»
Он огляделся:
«Очень!..» – и обморочно закрыл глаза.
Я повернулся и пошел прочь.
Подобных случаев было несколько. Кого-то задерживали, водили на опознание. Потом все закончилось, сошло на нет.
Греки ходили еще группой, «могучей кучкой» в полном составе, но потом и они куда-то исчезли, распались, как будто лишенные ядра и вяжущих веществ. Опасными, хотя и такими красивыми, даже великолепными, оказались белые одежды мужественности – как саван, в котором уходил в песню и будущие тосты их яркий друг, – что… что растворилось оно, слывшее стадом…
Так прошла зима, в течение которой Эллады дщерь, казалось, жила как лунатик: сонной ходила на занятия, сонной гуляла со мной. А вот весной, не ранней, а уже разнузданной, когда деревья в сквере студгородка, еще недавно стоявшие кривыми шпалами и бросавшие черные тени на голые тела продуваемых аллей, оделись в листья, когда зеленые тропы, повороты и ниши обители загадок и надежд сменили собой тревожную ясность, – Анфиса проснулась.
Сначала она потянула меня на футбол. И уже в этом необычном желании я заподозрил ее пробуждение, или, точнее, воскрешение. На стадионе, как я и ожидал, она наблюдала не игру, в которой ничего не понимала, а эмоции зрителей. Эллады дщерь сидела в очках, смотрела по сторонам, повизгивала от удовольствия, когда окружающая масса недовольно ревела, радостно взрывалась, неопределенно гудела. В особенный восторг ее привела драка фанатов с милицией, долго шумевшая в верхних рядах, прямо над нами. О, если бы вы видели ее, любующуюся боем: одухотворенное лицо, крепко сжатые кулачки, вскинутый подбородок – Эллады дщерь, точнее не скажешь!
Назавтра был ипподром. Те же реакции. Но к ним нужно прибавить проигрыш приличной суммы, составлявшей половину стипендии, и окончательное решение моей опекаемой записаться в конноспортивную секцию. По дороге домой она спросила меня: неужели ты действительно бросил бокс? А передумать не поздно?
Не буду продолжать, старина папарацци, скажу коротко: проснулась.
«Пора делать последний аккорд!» – так любит говорить один мой знакомый, которого я очень люблю и жалею (он соло-музыкант, саксофонист в уютном кафе, что в цоколе моего дома; я там часто ужинаю).
Когда я понял, что пора?..
На следующий после ипподрома день Анфиса повела меня к речке, там убедила выпросить у рыбаков лодку напрокат. Естественно, рыбак, тронутый вниманием, как он полагал, влюбленных, отдал нам свое судно с удовольствием и, разумеется, бесплатно, даже без залога. Мы сплавали к тому берегу и обратно. Вода была парной, а Эллады дщерь восторженной и улыбчивой. Но улыбалась она не мне, мускулистому гондольеру, а оранжево-закатному небу, реке, теплому ветерку, трепавшему ее кудри. Она упиралась ладошками в лодочные борта, закинув голову, то распахивая ресницы, то надолго зажмуриваясь, и странно дышала: делала глубокий вдох, замирала, закрыв очи, словно стараясь задержать в себе всю прелесть вечера, затем шумно выдыхала – и глаза в этот момент были пьяные, смотрели мимо меня, поверх меня, сквозь меня. А я был гребцом – продолжением лодки, весельным приводом.
И вот тогда я понял: пора… Правда, всех нот в аккорде я еще не знал, многое, если не сказать основное, сложилось по ходу музыки – импровизация, как и наша с вами жизнь.
А сейчас, дружище папарацци, для продолжения нашего с вами разговора мне необходимо отвлечься, побормотать себе под нос, иначе не получается; во всяком случае – очень трудно…
Мы пошли от рыбаков, и я попросил тебя вспомнить, как все было. Целых несколько месяцев я не задавал тебе этого вопроса, хотя в нем, тяжком для меня и тебя, все же не было ничего чрезвычайного. Тебе было трудно, больно, но я настоял: только один раз, первый и последний, вот увидишь, тебе станет легче, в полной мере и окончательно. И, чтобы раскрепостить тебя, я первым принялся вспоминать, каким славным парнем был Илларион.
И ты, покорившись мне, вспоминала и вспоминала… Ты увлеклась и рассказывала, как хорошо, уверенно, надежно было с ним. Какой смешной казалась его неосведомленность в некоторых, казалось бы, общеизвестных вещах. Как ты просвещала его, умиляясь, смеясь, восторгаясь своей учительской ролью, какие вы с ним строили планы, как ты отучала его от чрезмерного коллективизма, уводила от друзей, как те обижались, и чего стоило ему преодоление азиатских привычек. А сейчас ты коришь себя: нужно ли было творить из азиата европейца, зачем было все это переучивание, в результате которого, если проследить причинно-следственную связь, новоявленный европеец-джентльмен и пострадал, отойдя от своего хора, став не то чтобы смелей и безрассудней, но приобретя принципы, диктующие жертвенное поведение, в котором гордость не позволяет отойти, уклониться, промолчать…
Потом ты повела меня к тому дню. День был, как и сегодня, чудесным, вы были там-то, виделись с теми-то, ты научила его тому-то.
Наконец, распаляясь, ты кротко призналась мне в своем небольшом грешке: это ты сама написала сценарий и все устроила на тех танцах – и Демиса Руссоса, и ай уил би е френд, и гудбай май лав, и беспардонные приглашения, закончившиеся боем «один на один». Все это было необычно, красиво, поэтично. И просто блеск твое судьбоносное условие экзотическому греку: если победишь, то… Оказывается, ты была уверена, что он победит, не предполагала иного варианта для такого человечища, супермена атлетической гимнастики. И ты смотрела в окно, наблюдала бой и всю его переменчивость, трагичность, и болела-болела-болела, конечно, уже за него, ведь все уже было решено, а как все драматически поворачивалось, ведь я, Шмель, не хотел – о, ужас – не хотел проигрывать!..
Ты спросила меня, оглушенного (впрочем, я не выдал потрясения), не обижаюсь ли я?
Другие электронные книги автора Леонид Нетребо
Фартовый Чарли




 4.5
4.5