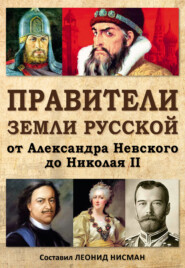По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лу Саломе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И ещё: «Не менее памятна мне изготовленная по распоряжению царя для моей матери нарядная игла, имитирующая золотую почётную саблю, с которой свисали все ордена моего отца – в крошечном, но точном воспроизведении».
Впрочем, впоследствии Лу признавала, что в её отношениях с обоими родителями отсутствовала, по сравнению с огромным большинством детей, пылкость в проявлении чувств, будь то утешение или любовь. Всегда оставалось пространство некоторой дистанции… или свободы.
Более душевными и, во всяком случае, специфически русскими были её воспоминания о кормилице и няне. Кормилица в семье была только у Лёли.
«Моя кормилица, мягкая красивая женщина, была очень привязана ко мне. Позже, после того как она совершила паломничество в Иерусалим, она даже достигла «Малого Святого Причастия», над чем мои братья громко хохотали и что меня сделало невероятно гордой за мою кормилицу.
Русские няньки справедливо славились своими удивительными материнскими чувствами (хотя, конечно же, гораздо меньшим искусством воспитания), и не всякая родная мать могла бы в этом с ними тягаться. Среди них нередко ещё встречались отпрыски крепостных крестьян.
Вообще же русские слуги в нашей семье были изрядно разбавлены «нерусскими элементами»: татарами-кучерами, которым отдавалось предпочтение из-за их воздержания от спиртного, и эстонцами.
В нашем доме смешались веры евангелическая, греко-католическая и магометанская, старый и новый календарный стили в отношении постов и выдачи жалования. Ещё более пёстрым всё это было в результате того, что нашим загородным домом в Петергофе управляли швабские колонисты, которые в одежде и в языке строго придерживались своих образцов, действующих на давно покинутой швабской родине».
Девочка росла самостоятельной, погружённой в себя и мечтательной. Она никогда не играла в куклы, она играла в выдуманные истории – разговаривала с цветами, растущими в саду в Петергофе, где проводила каждое утро, сочиняла сказки о людях, которых видела на улице.
«Я часто была непослушной девочкой, и из-за этого меня ужасно наказывали берёзовой веточкой, на которую я никогда не упускала случая пожаловаться Доброму Богу. И он был полностью на моей стороне и даже иногда разгневан…»
Конечно, строптивости и упрямства Лу было не занимать, но главная причина её разногласий с миром взрослых крылась в ином.
«Живость моего воображения постепенно подводила меня к расширению рамок каждодневной жизни видениями, которые я накладывала на реальные события и которые чаще всего вызывали улыбку.
Однажды летним днём, когда я возвращалась с прогулки с одной родственницей чуть старше меня, нас спросили: «Ну хорошо, что вы видели на прогулке?» Со множеством подробностей я рассказала целую драму. Моя маленькая спутница, по-детски честная и простодушная, посмотрела на меня с расстроенным видом и оборвала меня, крича ужасным голосом: «Но ты же лжёшь!» Мне кажется, что именно с того дня я старалась выражаться точно, пытаясь ничего не добавлять, даже самую малость, хотя эта ограниченность, которую мне навязывали, меня страшно расстраивала».
Дело было в том, что близкие Лу люди подчас не проводили различия между мифом и ложью. После этого случая Лу поняла, что ей нужно изменить слушателя своих историй на бесконечно щедрого и доверчивого. Свои сказки о подлинной жизни она начала рассказывать по вечерам в темноте Доброму Богу.
«Я ему изливала легко, без понукания, целые истории. Эти истории были особенными. Они возникали, мне кажется, из желания обладать властью, чтобы присоединить к Доброму Богу внешний мир, такой будничный рядом со скрытым миром. И совсем не случайно, если я заимствовала материал для своих историй в реальных событиях, во встречах с людьми, животными или предметами: иметь Бога в качестве слушателя было достаточным основанием, чтобы придать им сказочный характер, который мне не нужно было подчёркивать.
Напротив, речь шла только о том, чтобы убедиться в существовании реального мира. Конечно, я не могла рассказать ничего такого, чего Бог в своем вечном всеведении и могуществе уже бы не знал. Но это как раз и гарантировало в моих глазах несомненную реальность моих историй. Поэтому, не без удовлетворения, я начинала всегда с этих слов: „Как Тебе известно…“»
Луиза росла любимицей в семье, и ей прощалось буквально всё. Она вспоминала, что её не наказали даже тогда, когда она позволила себе швырнуть на пол семейную икону, заявив, что не будет ходить в церковь, потому что Бога нет иначе как он мог допустить смерть её любимой кошки?
Она наотрез отказалась от первого причастия, и родители не стали её принуждать. Точно так же они пошли навстречу дочери, когда Луиза потребовала, чтобы ей разрешили учиться дома и заниматься только теми предметами, которые она сама считала полезными: философией, литературой, историей.
Она мечтала стать то философом, то поэтессой, то террористкой, как Вера Засулич, портрет которой она хранила у себя. В ту пору женщины даже активнее мужчин участвовали в революционных движениях, и Луиза была убеждена, что именно слабый пол является носителем силы, а вовсе не мужчины.
Отношения Лу со школьными товарищами из частной английской школы (состав учеников был очень разношёрстным в национальном отношении) у неё не складывались в силу её глубокой интровертности (как известно, интроверты держат все свои чувства в себе), а также из-за её полного безразличия к модной тогда политической проблематике.
Отец её, строгий генерал, проявив неслыханный для себя либерализм, разрешил Лу не посещать школу, сказав: «Школьное принуждение тебе ни к чему». Лу об этом никогда не пожалела. Позднее в своих воспоминаниях («Опыт России») она утверждала, что ни в маленькой частной английской школе, которую она посещала сначала, ни в последующей большой она «ровным счётом ничему не научилась».
«Тогда повсюду, вплоть до школьных заведений, бродил дух восстания. Едва ли можно было быть молодым и оживлённым, не будучи захваченным этими настроениями. К тому же дух родительского дома, несмотря на лояльное отношение семьи к бывшему царю Николаю I, был проникнут атмосферой озабоченности и настороженности по отношению к существующей политической системе, в частности, после реакционных преобразований царя-освободителя Александра II».
Генерал махнул рукой на формальности образования, и Лу росла в полном смысле слова самоучкой. Отцовская терпимость дала великолепные плоды: трудно найти более страстно одержимого идеей постоянной учёбы человека, чем Лу, притом на протяжении всей её жизни.
Пренебрегавшая в школе русским языком, уже позже тридцатисемилетняя Лу вместе с Райнером Рильке будет жадно навёрстывать упущенное, одержимо штудируя русскую историю и литературу. Она будет много переводить с русского на немецкий и напишет серию эссе о русской культуре. И, наконец, рассказывая в воспоминаниях о том периоде своей жизни (Лу было уже за пятьдесят), когда её захватил психоанализ, она именно так и назвала это повествование – «В школе Фрейда».
Воистину отсутствие в детстве образовательной муштры обернулось для Лу тем, что учение стало её способом жизни.
Культурная гибкость, которая позволила Лу так органично влиться в европейский контекст, была во многом предзадана её образованием и особенностями повседневного быта. Но в Лу надолго остался открытым вопрос её подлинной культурной принадлежности. Годами она возвращалась к истокам, «врастала», как она выразилась, в свою «русскость».
Сам Санкт-Петербург, это притягательное соединение Парижа и Стокгольма, с его царским великолепием, с катаниями на санях и железными зданиями в иллюминации на Неве, с его поздними вёснами и горячими летами, производил на Лу впечатление чисто интернационального города.
Образ города детства стал первой ниточкой того волшебного клубка, который приведёт Лу к позднему открытию России. И потом всегда, всякий раз заново дымка белых петербургских ночей, голос кондуктора в вагоне, называющий её матушкой или голубушкой, тройной звонок – сигнал к отъезду – пробуждали в ней «незабываемое счастье родины».
Знаменательно, что Лу, жизнь которой была посвящена философским исканиям, родилась в 1861 году – переломном для России, когда крестьянская реформа положила начало небывалой разобщённости идейных взглядов, пугающе огромному количеству политических течений (социал-демократы, либералы, народники), каждое из которых имело ещё несколько ответвлений.
С детства она была ограждена от общественной борьбы, и, даже став взрослой, Лу долго не проявляла интерес к политике, но что-то от этой эпохи всё же было в характере «гениальной русской» (как называл её Ницше) – стремление к свободе, постоянная динамика мысли, внутреннее беспокойство и…утрата Бога.
В детстве она верила в Бога. В юности она перестала в него верить. В какой-то момент Бог для неё исчез, но осталось, как она сама пишет, «смутно пробудившееся чувство, которое уже никогда не исчезало – чувство беспредельного товарищества… со всем, что существует». Наверное, уже тогда судьба предопределила ей встречу с человеком, который на весь мир заявил, что Бог умер.
Как и когда это случилось? Пытливый ум ребёнка стали мучить «вечные вопросы», и Лу решила задать их Доброму Богу. Но ответа от него она не получила. С тех пор в своих мемуарах она будет говорить о богооставленности, которая навсегда связала её с действительностью и породила «ощущение безмерной, судьбоносной сопричастности всему, что существует».
Другими словами, Лу Саломе пришла своим собственным путём к так называемому пантеизму – философскому, религиозному и просто мировоззренческому направлению, обожествляющему, то есть отождествляющему с Богом всё сущее, весь мир, некий «всеобщий знаменатель». Пантеизм утверждает, что Бог и мир суть одно.
Кем же была Лу Саломе – музой или роковой женщиной? И чувствовала ли она себя счастливой, имея странное предназначение – обогащать мир гениями?
Те из них, которые, обуреваемые противоречиями, в своём духовном развитии достигали вершины (Фридрих Ницше, Пауль Рэ), часто не выносили собственного знания и срывались в пропасть под названием Смерть.
Эта женщина была призвана созидать, но созидать через разрушение. Казалось бы, парадокс, но в этом вся Лу Саломе. У неё был удивительный дар пробуждать творческие силы в других людях.
Она была привязана к России всю свою жизнь. Она не просто любила Россию и тосковала по ней. Она ощущала свою причастность ко всему, что происходило в далёкой северной стране, где оставались родные и близкие ей люди. Обретаясь в городах западной Европы, она была как бы посланником русской культуры.
Россия присутствует прямо или опосредованно почти во всех её книгах: в повестях «Руфь» (1895) и «Феничка» (1898), в сборниках рассказов «Дети человеческие» (1899), «Переходный возраст» (1902) и «Час без Бога» (1921), в романе «Ма» (1901), в письмах и воспоминаниях.
Главная тема её художественных произведений – детство и юность, раннее взросление, подростковый период, превращение девочки в девушку и женщину. Её героини проходят мучительный путь формирования личности. Упорно прислушиваясь к внутреннему голосу, подчиняясь своей «самости», они повергают в смятение родных и близких, учителей и воспитателей.
Поскольку почти все произведения Лу Саломе строятся на автобиографической основе, поскольку они отражают опыт детства и юности писательницы, в них так или иначе возникает тема России, всякий раз сопряжённая с темой богоборчества и богоискательства.
Не случайно книгу её воспоминаний открывает глава «Переживание Бога». И так же не случайно свой первый роман она назвала «В борьбе за Бога» (вышел в 1885 году под псевдонимом Генри Лу). Волновавшие её проблемы веры и безверия она всякий раз соотносила с впечатлениями и переживаниями детства и юности.
По словам одной хорошо знавшей её женщины, Гертруды Боймер, в Лу было нечто недостижимое и непостижимое, она как бы воплощала в себе частичку природы – живой, таинственной и самодостаточной. К тому же от природы она была наделена поразительным жизнелюбием.
В восемнадцать лет она весьма энергично убедила мать дать ей образование в лучших университетах Швейцарии.
А затем была «школа Ницше», по интенсивности подобная взрыву, с ночными бдениями и дискуссиями, сутками напролёт.
Но за год до этого произошла встреча, которая оказала влияние на всю её оставшуюся жизнь. Встреча с пастором Хендриком Гийо.
Юность. Пастор
Jugeng. Pastor
Youth. Pastor
Хендрик Гийо
Hendrik Gillot
(1836-1916)