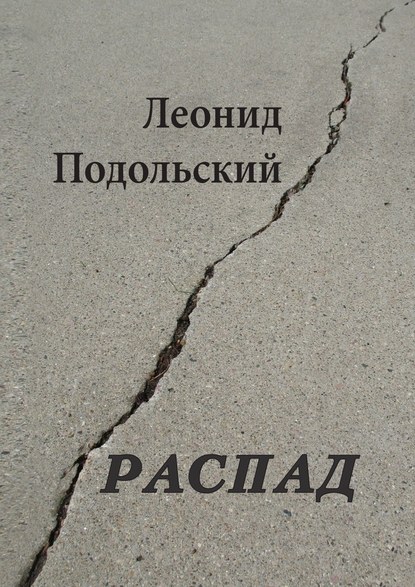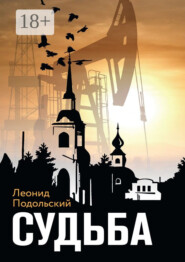По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Распад
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Соковцев слегка улыбнулся.
– Я не думаю, что нам из-за этого стоит поднимать шум. Для меня это такая же неожиданность, как и для вас. Вы не станете возражать, если мы удовлетворим его просьбу?
– Да, конечно, не стоит поднимать шум, – покорно согласилась Евгения Марковна. – Я не стану возражать.
Она была так расстроена, что даже не стала спорить из-за годовой заявки, почти полностью зарезанной Соковцевым. К чему, если всё равно распад…
– Кто же следующий? – думает Евгения Марковна, глядя в темноту, в промозглую нескончаемую ночь. Этот вопрос теперь всё время подспудно живет в ней, как будто это так важно: кто именно будет следующий?
– Нет, Юрий Борисович не уйдет. Куда он денется со своей анкетой? Сладков, Тарасевич – эти ещё аспиранты. Игорь Белогородский? Да, пожалуй, он. Честолюбив, хочет играть первые роли, у меня ему нечего ждать. Но и у него ведь пункт. Оттого, наверное, не ушел до сих пор. Значит, ему только и остаётся, что пойти к Соковцеву? Или уехать в Израиль. Этого ещё не хватало… Ведь всё пришьют ей… Она всегда у них виновата…
Евгения Марковна тяжело встает, подходит к окну, вздыхает. Лишь один человек мог бы ей помочь. Не спасти, конечно, но хоть замедлить её падение…
Человек этот – Коля…
ГЛАВА 13
Николай был старше Жени всего на четыре года. Но в тридцать восьмом, на заседании патофизиологического кружка, когда Женя увидела его впервые, он показался ей значительно старше, несмотря на юношеский румянец на щеках и по-мальчишески мягкие, редковатые усики. Коля был неизменным старостой кружка и как раз выступал с докладом. За сорок два года её впечатления давно потеряли первоначальную свежесть, поблекли и раздвоились. И теперь Евгении Марковне то представлялось, что Коля с первого взгляда показался им, первокурсницам, мудрым эрудитом, почти непререкаемым авторитетом, и они жадно внимали и верили всему, что он говорил, то, напротив, что он совсем не понравился, и что подружка, Валя, шепнула ей на ухо:
– Профессора из себя строит, – и обе они весело рассмеялись.
На заседании кружка по патологической физиологии Женя оказалась не случайно. Папа наставлял её перед отъездом: «Обязательно запишись в кружок к профессору Медведеву. Патофизиология – ключ ко всей медицине. И человек он необыкновенный, энциклопедист. Ты сама поймёшь, когда послушаешь его лекции».
В институте имя профессора Медведева было окружено легендами. Учёный с мировым именем, ещё из старых, дореволюционных профессоров, учился в Геттингене, стажировался у Людвига[34 - Людвиг Карл (1816—1895) – немецкий физиолог.], состоял в молодости в партии эсеров, побывал в тюрьме, но потом отошёл от политики, всецело посвятив себя науке. И лектор он был необыкновенный – сухонький, седенький Демосфен с молодым бархатистым голосом, блещущий эрудицией, строгой логикой и невероятно глубокой культурой. Потом Евгения Марковна часто сравнивала с ним Бессеменова. Они казались похожими, но это было не фамильное, не родственное сходство, скорее, на них обоих лежала печать иной эпохи и иной культуры. К тому же в манерах Александра Серафимовича проскальзывало что-то артистическое: взойдя на кафедру, он мгновенно преображался, молодел на глазах, увлекался так, что и он сам, и студенты забывали о времени и нередко опаздывали на следующие занятия. Он и умер на кафедре во время лекции, но это потом уже, вскоре после войны. А тогда, не надо и говорить, на лекциях его всегда было полно народу, хотя никто никогда не вёл учёт посещаемости, как на других кафедрах, и кружок его, наверное, был самый многочисленный в институте. Там студенты не только ставили эксперименты, но и вели дискуссии, подчас далеко выходившие за пределы предмета.
Рассказывали, что много лет назад, до революции ещё, в Петербурге, профессор как-то на лекции так увлёкся демонстрационным опытом, что совсем забыл об аудитории и даже не заметил, как потихоньку разошлись обиженные курсистки. Однако был вознагражден: именно в тот день он совершил открытие, принесшее ему широкую известность среди пеатофизиологов.
Теперь уже трудно вспомнить, слава ли и обаяние профессора Медведева, красноречивый ли красавец староста с серыми глазами и каштановыми кудрями, которых нет давно, мечты ли о научной славе – ведь тайно рядом с Марией Склодовской и Софьей Ковалевской виделась себе, никак не меньше, – но только с того самого дня стала Женя регулярно посещать все занятия кружка, так что вскоре красавчик Коля тоже заметил миловидную студенточку с ямочками на щеках, с толстыми косами, мечтательными карими глазами и такими ровными, белыми, красивыми зубами, что ей поневоле приходилось часто улыбаться. И не только улыбаться! Она ведь хохотушкой слыла, самой весёлой на курсе. Сейчас не поверят – укатала Женечку жизнь, но ведь было, слыла! О, какой у неё был смех, будто колокольчик из мягкого серебра. Они часто ходили с Колей в кино, в театры, гуляли в парке Горького, говорили о науке, о новых книгах, о войне в Европе, которая всё ближе подбиралась к советским границам, о профессоре Медведеве, и о своих мечтах. Да о чём только они не говорили! Даже коротких весенних вечеров им не хватало (наступил уже сорок первый) – так хорошо и интересно им было вместе. На всю жизнь запомнила Евгения Марковна (словно кадры в кино из чужой жизни), как много раз стояли они в темноте под тополями напротив общежития и ласковый ветерок обнимал их и шевелил их непокорные волосы, и где-то за яркими, раскрытыми окнами, бренчала гитара и пел патефон, и Коля нежно гладил её лицо, волосы, руки, и они прижимались друг к другу, и были долгие-долгие поцелуи, и вздохи, и слова любви. Они собирались пожениться осенью, после каникул. Летом Женя хотела пригласить Колю к себе домой, познакомиться с родителями, но тут впервые страшно сломалась жизнь – война, и почти сразу всё переменилось…
Начались занятия по гражданской обороне, дежурства по ПВО, работа в госпитале, ускоренные занятия в институте. Говорили, что студенток скоро призовут медсёстрами в армию. Впрочем, говорили много разного, в первые дни войны повсюду господствовала неразбериха и толком никто ничего не знал. И от этого, как и от фронтовых сводок, мысли стали совсем иные, очень тревожные, к тому же, гнетущее беспокойство за родителей. Отца в тридцать девятом послали работать на Западную Украину, во Львов. Город был занят немцами в первые же дни войны, а от родителей за всё время пришло лишь одно письмо, от двадцать второго июня, и с каждым днём, с каждой новой сводкой оставалось всё меньше надежды, что папа и мама живы. Приходили лишь панические письма от бабушки, из Днепропетровской области. Она совсем растерялась, то оплакивала родителей, то просила хоть на один день приехать, то, напротив, сообщала, что эвакуируется, но никак не решалась сорваться с места – надеялась, что однажды в доме появятся папа с мамой, и что папа всё, как всегда, решит за неё, и боялась оставить дом, вещи, и надеялась, вопреки событиям, что немцев вот-вот остановят, и погонят вспять. У Жени от предчувствий с тревогой сжималось сердце, она советовала бабушке немедленно уезжать. Родителям, если они остались живы, бабушка ничем не смогла бы помочь. Наконец, в сентябре объявили, что институт будут эвакуировать в Уфу, чтобы там ускоренно, год за два, закончить учёбу и пойти на фронт врачами. Женя тотчас написала бабушке, чтобы та тоже эвакуировалась в Уфу, но до бабушки письмо уже не дошло…
Всё это время Женя Колю почти не видела, он был занят какой-то срочной работой. Всё прежнее, что было между ними, сразу отошло в прошлое, даже сама она, прежняя, довоенная, казалась себе теперь совсем чужой.
Коля пришел к ней в общежитие почти перед самым её отъездом. Собирался со дня на день на фронт, во всяком случае, так он говорил. Он сидел рядом, большой, сильный, но какой-то отрешённый, раздавленный – мысли о фронте и о смерти неотступно преследовали его.
Нет, пожалуй, Коля не был трусом. Он не боялся прыгать с парашютом, и на лыжах катался с самых высоких гор, но он был махровым эгоистом, только это дошло до неё не один год спустя. Он всегда был занят собственными делами и планами, и не мог примириться, что какая-то нелепая случайность может перечеркнуть их навсегда. Он обнимал Женю как прежде, но даже объятия его стали холодными, словно смерть неотступно смотрела ему в глаза. Он и говорить ни о чём другом не мог – только о войне, о крови, о смерти, и о своей несчастной судьбе. Он почему-то был уверен, что на войне его должны убить. Даже к работе потерял интерес, говорил о ней, будто о чём-то прошлом, счастливом, но утерянном навсегда. Потом исступлённо, словно искал у неё защиты, припадал к её губам, ласкал и ласкал, а Жене хотелось плакать, потому что она чувствовала, что это конец, последняя их встреча, окончательное прощание и с ним, и с прошлым, которое не повторится никогда. Будущее, о котором Женя мечтала, вдруг исчезло, и у них осталось только настоящее – жестокое, короткое, словно шагреневая кожа, и надо было всё успеть, всё, в эти последние короткие часы перед отъездом. Всё успеть и всё забыть, пусть хоть на несколько часов. Эти оставшиеся часы принадлежали им, только им, прошлому, а там… не хотелось думать, что будет, и что может быть там. И она уступила его отчаянным, то жарким, то безнадёжным ласкам…
Потом, уже женщиной, Женя сжала его голову руками, и горячо и нежно, будто ребенка, целуя в лоб, шептала:
– Коля, не бойся. Всё будет хорошо. Только обязательно мне напиши. Я буду очень ждать. Очень. Главное – верить.
Но Коля её уже не слышал. Он торопливо и озабоченно возвратился в жестокий мир, который так ненадолго покинул. Его опять окружали прежние заботы и мысли, он замкнулся и сразу стал чужим и далёким, словно здесь, рядом, оставалась лишь его бренная плоть. Душа же бродила по полям сражений, там, где убивали и калечили, глядя на них невидящим, смятенным, погружённым в себя взором.
– Хорошо, я напишу. И ты отвечай. Обязательно отвечай… Даже если я не пойду на фронт…
– Тебя могут не взять в армию?
– Не знаю. У меня, может быть, есть возможность… – он осёкся и добавил уклончиво. – Мне предлагают одну, очень важную работу. Но ничего ещё не известно, – Коля, похоже, пожалел, что сказал что-то лишнее, да может, он и сам ничего не знал толком, или боялся сглазить везение. Хотя, везенье ли это было тогда? Или он уже всё решил, уже предал её и сделал свой нелёгкий, жестокий выбор?
Жене от этого стало горько. Нет, она вовсе не хотела, чтобы Коля обязательно ушёл на фронт, но теперь всё, что произошло между ними, становилось ложью. Он что-то скрывал и это, после всего, было самое обидное.
Потом они расстались. Говорили и делали всё, что положено говорить и делать при расставании, но слова их были пусты, и они хотели – да, да, хотели – побыстрее расстаться. Им стало тяжело друг с другом. И едва она втиснулась в тамбур до предела забитого вагона, едва поезд тронулся, и мимо поплыла незнакомая, тёмная, непривычно пустая Москва, образ Коли окончательно померк. В Уфе она еще получила несколько коротеньких, ничего не значащих писем, и почти так же коротко ответила на них по какой-то пустой инерции. А потом он женился – на ком, этого Женя в то время не знала. Он написал только, что женится, просил простить его и желал ей счастья. Произошло это в начале сорок второго года, и Женя решила, что между ними всё кончено. Даже, может быть, они никогда не встретятся больше. Сказать честно, она ждала этого письма, ждала с той самой минуты, когда он сказал, что, возможно, его не возьмут на фронт. Сама удивлялась потом своей проницательности. Но ещё больше, чем собственная проницательность, её поразило безразличие, с которым она восприняла последнее известие от Николая.
Стояло лето сорок четвёртого года. Небо было удивительно чистое, голубое, без единого облачка. Заливисто пели соловьи. А когда они на короткое время замолкали, вдруг наступала необыкновенная, до звона в ушах, прозрачная тишина, которую лишь изредка нарушали кузнечики. Женя с Борисом шли по опушке леса, среди редких малорослых ёлочек и осин, по густой, зелёной, влажной от росы, траве, а всего в нескольких шагах, у тихой, прозрачной речки, среди зарослей крапивы и полыни, наливались ягодами рябины.
– Смотри, вот целая семья белых грибов, – сказал Борис. Он аккуратно, чтобы не повредить грибницы, срезал ножки, сложил грибы в корзину, и они пошли дальше, к прозрачному ручью, искрившемуся на солнце.
– А здесь подберезовики, – первой увидела Женя.
– И здесь тоже.
– Ты хорошо разбираешься в грибах? Было бы обидно погибнуть на войне из-за грибов.
– Я не думал, что ты трусиха, – Борис взял Женю за руку и заглянул ей в глаза. – Правда, хорошо здесь?
– Да, очень.
– Ты не жалеешь, что встала так рано?
В ответ она пожала его руку.
– Здесь такая тишина, что кажется, будто нигде нет войны.
– И никто нигде не умирает.
– И солнце светит только для нас двоих.
– А ты хотел бы быть Робинзоном?
– Только если бы ты была рядом.
Борис подхватил её на руки и легко перенёс через ручей. Женя тесно к нему прижалась. Она охмелела от его объятий, от солнца, от тишины, от странной неги и желания, и Борис, тотчас почувствовав её настроение, прижался головой к её груди, потом медленно нашёл её губы, и понёс дальше, туда, где вместо тоненьких недоростков-ёлочек и скособоченных осин, тянулись ввысь гордые, стройные, целомудренные берёзы. И там, среди разноцветья трав, полевых цветов и пения птиц, он, как рыцарь, опустился на колени и нежно посадил её на землю. Снял с себя и подстелил гимнастёрку, и они забыли обо всём на свете…
Потом они снова шли, тесно прижавшись друг к другу, и всё было так чудесно: и тихий шелест листьев, и солнечные блики на траве, и стрекотание кузнечиков, и пролетавшие мимо бабочки и стрекозы.
– Смотри, вон муравейник, – показал Борис.
– Я никогда ещё в жизни не видела такой муравейник, – восторженно удивилась Женя.
– Конечно, в Москве муравейников нет, – Борис снова обнял её, и они опять поцеловались…
«Вот ты и ошибся», хотела сказать Женя, «Москва – это огромный муравейник. И люди как муравьи…»
Но она не сказала.
– Женя, – позвал Борис, и она почувствовала, что он очень волнуется, и снова, как заклинание, он повторил её имя, – Женечка… – Борис волновался сильнее, чем во время самой сложной операции, – Стань моей женой. Навсегда. Хорошо? Поедем ко мне в Херсон. Мама должна скоро вернуться из эвакуации…
Отец Бориса умер перед самой войной, старший брат, Аркадий, погиб под Сталинградом, а от младшего, Давида, давно не было писем. Тень тревоги на мгновение набежала на крупное, красивое лицо Бориса, и радостные лучи погасли в его глазах, карих, как у матери.