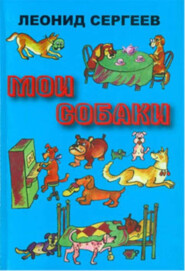По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Радость величиной в небо (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кольку все больше охватывал азарт: словно фехтовальщик, он то делал выпад к этюднику и наносил кистью очередной мазок, то отскакивал и, наклонив голову, сосредоточенно рассматривал свое произведение, и все время морщился.
– Не то, не то, – бормотал и мучительно искал новые цветовые решения.
Наверное, все это длилось около часа, не меньше, но мне показалось – прошло всего несколько минут. Наконец Колька вздохнул, отложил кисть и устало произнес:
– Ну вот теперь вроде получилось, как думаешь?
Он хотел услышать отзыв о своей работе, но я не смог выразить восхищение – только кивнул и еле слышно выдавил:
– Похоже!
Через некоторое время я очухался, разговорился и как-то само собой у меня вырвались слова о том, что все же он, Колька, мог бы красить и поаккуратней. Окончательно придя в себя, я обнаглел и сделал Кольке критическое замечание по поводу его слишком разноцветных домов и невероятно огромных деревьев.
– Этого ведь нет, разве ты не видишь? – возмущался я.
– Так не бывает!
– Не бывает, – согласился Колька, убирая этюд. – Но ведь так красивей. Художник ведь не фотограф, он рисует так, как хочет чтобы было.
Он вскинул этюдник на плечо, и мы пошли к поселку.
– Представляешь, как было бы красиво, если бы дома в вашем поселке раскрасить в разные яркие цвета… И сараи, и заборы… Вот было бы весело!..
Тот огненно-памятный день стал значительным событием: предельно ясно Колька объяснил мне основы живописи и так сумел увлечь меня, что за разговором я и не заметил, как мы прошли мост.
Искусство оказалось сильнее врожденного страха, оно навсегда сломало барьер трусости перед реальными мостами и, главное, излечило меня от нерешительности. Мосты стали для меня некими символами – переходами в новую жизнь. Повзрослев, я с невероятной легкостью переезжал на новое местожительство, устраивался на новую работу, заводил всевозможные знакомства и менял увлечения – как бы безбоязненно проходил невидимые мосты.
Иногда мне кажется, что вообще вся моя жизнь по сути дела – длинный мост: временами – величественный пролет без опор над цветущей равниной, то вдруг – зыбкая шаткая стлань над топью неведомой глубины – все зависит от житейских радостей и болей в то или иное время. Но что немаловажно – в юности этот мост казался бесконечным, уходящим в высь, в зрелости я заметил – мост выпрямился, местами даже снижается, а по сторонам нет-нет да мелькнет знак, извещающий о том, что каждая дорога когда-нибудь кончается; теперь, под старость, я четко вижу – мост стремительно уходит вниз и где-то там, в тумане низины, еще не видится – только угадывается – последний пролет и зияющая за ним пустота.
Ну, а начинается мой жизненный мост с того – над обрывом. Именно на том мосту я сделал немало значительных открытий (кроме положения о заземленности). Например, познакомился с мальчишкой, который не говорил ни одного слова правды, причем врал со все возрастающей мощью и, помнится, даже его родители с трудом представляли, что в конце концов получится из этого маленького чудовища.
Он был плотным подростком с прыщавым лицом, на котором постоянно играла хитрая ухмылка – она исчезала только когда он начинал говорить – в эти минуты его лицо выражало полнейшую серьезность – на нее все и покупались. Его звали Эдик. Он жил недалеко от поселка в заводских домах со множеством лестниц на «черные ходы». В день нашего знакомства я начал было рассказывать, как мы возвели плотину и сколотили плот, но Эдик перебил меня:
– Мы с отцом построили лодку и плавали по Волге.
Я попытался рассказать про Кольку, но он сразу нагловато махнул рукой:
– Я в прошлом году закончил художественную школу.
Мои работы сейчас в Москве на выставке.
Заметив мою растерянность он победоносно хмыкнул и ошарашил меня еще больше: сообщил, что учится на одни пятерки, является первоклассным спортсменом и обладателем кое-каких морских сокровищ. Под конец, чтобы окончательно доконать меня, он обещал назавтра продемонстрировать свое богатство и подарить одну из морских раковин. Я его не просил, он сам предложил. По нашим понятиям это выглядело невероятной щедростью, почти наградой, и я почувствовал – здесь что-то не то, но у меня еще не было оснований ему не верить.
На следующий день, совершенно забыв о своем обещании, Эдик выдал мне очередную порцию похвальбы, заявив, будто знаком со всеми знаменитостями города, после чего его ухмылка уже перемежалась едким смешком. В какой-то момент я осадил его и напомнил про раковину. Он, не моргнув, пообещал подарить ее через два дня.
Но два дня растянулись на неделю, потом на месяц, и все это время, выслушивая ложные обещания, я поддакивал ему, как бы позволяя себя дурачить; на самом деле с любопытством ждал, куда его заведет вранье.
Вскоре я заметил, что он врет не мне одному. Стоило кому-нибудь из ребят заикнуться про книгу, которой нет в школьной библиотеке, как он тут же, с полнейшей невозмутимостью, объявлял:
– Чепуха! У меня их несколько штук. Завтра дам.
И не давал.
Бывало, сидим на «черном ходу», а он заливает что-нибудь вроде того, что знаком с полярными летчиками. Если кто-нибудь из ребят подозрительно разглядывал его или, чего доброго, хихикал, он распалялся и загибал еще похлестче. Казалось, он просто-напросто издевается над нами, принимая за дураков. Это было какое-то патологическое вранье с определенным садистским уклоном, какое-то идиотское самоутверждение. Надо отдать ему должное – он никогда не повторялся, то есть был неистощим на выдумки.
После того, как Эдик обманул меня с раковиной (которую, ясно, так и не подарил), я перестал воспринимать его всерьез и много раз собирался высказать ему все, что о нем думаю, но так на это и не решился – в то время мать постоянно внушала мне, что «худой мир лучше доброй ссоры», и этим сомнительным правилом я руководствовался довольно долго.
Вскоре семья Эдика переехала в новый район, и больше мы не виделись.
Мы встретились через много лет, когда я был в том городе проездом; встретились случайно, около гостиницы, в которой я остановился. На нас обоих годы наложили след – мы с трудом узнали друг друга. Он отяжелел, стал внушительных габаритов, едкая ухмылка уступила место вполне доброжелательной улыбке, в движениях появилась неторопливость, уверенность. Он неподдельно обрадовался нашей встрече, предложил зайти в кафе «отметить событие» и, когда мы сели за стол, рассказал о себе.
Он работал инженером, был женат, имел сына; причем, как объяснил, женщины от него всегда шарахались, только одна считала талантливым – на ней он и женился.
После первого стакана вина он вдруг засмеялся.
– Знаешь, что сейчас вспомнил? Каким я был в детстве вралем. И как вы меня терпели?
Я ответил расплывчато, в том смысле, что в детстве все мы были хороши – не в одном, так в другом.
После второго стакана он расхохотался.
– А все же, скажу тебе, мое детское воображение пошло на пользу. Я иногда пишу рассказы. Фантастические. Пару даже напечатали в одном журнале, – он подмигнул мне, и я не понял – говорил ли он правду или шутил, или от вина его занесло и он попросту врал, точно так же, как мальчишкой когда-то.
После третьего стакана он внезапно стал серьезным.
– Недавно закончил роман. Хочу послать в центральное издательство.
Это сообщение меня насторожило; я подумал: «Неужели его детская патология пустила корни? Неужели он так и не вышел из образа, только его фантазия стала посолидней?». Но я ошибся.
Из кафе он повел меня к себе и по пути пересказал содержание романа, а дома подарил журнал с рассказом и сделал надпись: «Другу детства от бывшего трепача, с самыми добрыми пожеланиями».
На том мосту детства у меня произошла еще одна встреча – с девчонкой Алей. Когда я вспоминаю ту встречу, наш деревянный, расшатанный мост кажется мне легким, еле различимым, романтическим мостиком, меня охватывает элегический настрой, и все что было в детстве, представляется намного прекраснее того, что произошло в зрелом возрасте.
Аля жила в тех же домах, что и Эдик, и была некрасивой, нелюдимой тихоней; она ежедневно подходила к мосту, но никогда не принимала участия в наших играх; больше того – всячески выражала полное безразличие ко всему нашему клану – обычно стояла на противоположной стороне и, облокотившись на перила, смотрела вниз. Каждый раз когда мы звали ее к себе, она с брезгливой неприязнью качала головой и сбегала по склону оврага к ручью; разгоняя оводов, переходила вброд мелкие рукава ручья и исчезала в кустах шиповника. Всем своим видом эта дурнушка давала понять, что в жизни есть гораздо более стоящие занятия, чем какие-то глупые мальчишеские игры.
Как-то вечером я ждал отца у завода и вдруг увидел Алю – она сидела на дереве и смотрела на крышу своего дома.
– Что ты там высматриваешь? – спросил я.
– Лунатиков, – просто ответила Аля.
Я усмехнулся.
– Не веришь?! Залезай, сам увидишь. Только сейчас еще рано, лучше попозже, когда стемнеет.
Встретив отца, я прошелся с ним до дома и помчал назад.
Аля все еще восседала на дереве; когда я забрался к ней, она не отрываясь от крыши, объяснила, что лунатики взлетают на дома с помощью зонтов или залезают по водосточным трубам, что некоторые из лунатиков проникают на чердаки и в комнаты и что однажды она видела, как утром рабочие снимали одного лунатика, зацепившегося за трубу.