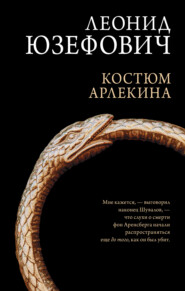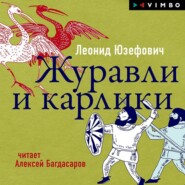По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Поход на Бар-Хото
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Их любовь к народу поднялась выше горы
Сумеру[7 - Мифическая гора, центр мироздания в буддийской космогонии.].
Их ненависть к угнетателям не имела пределов.
Их решимость была непреклонна.
Они свергли зло, что было неприкосновенно,
привольной Монголии дали свободу,
решили установить счастливое государство.
Я не питал иллюзий относительно этих «мудрых мужей» и их способности «установить счастливое государство», но в тот момент мне спазмом перехватило горло. Я понял, что уже люблю эту забытую Богом, дикую, нищую и прекрасную страну.
3
Через год после моего приезда в Монголию китайцы попытались вернуть контроль над мятежной провинцией.
Бои, вернее стычки, шли вдоль Калганского тракта. Здесь я с группой конных разведчиков наткнулся на разъезд гаминов[8 - От китайского «гэмин» – революция.], как монголы называют солдат республиканского Китая. Мы и они объезжали одну сопку с разных сторон – и одновременно увидели друг друга. Одного из них нам удалось подстрелить, двое ускакали к своим. Их бивак располагался неподалеку, и, если бы погоня нас настигла, на плен мог рассчитывать только я сам. Остальных убили бы на месте.
При мне находился молодой офицер Дамдин, сын влиятельного хошунного князя, прямой потомок небесного шефа нашей бригады, Абатай-хана. Его полное имя было вчетверо длиннее, для удобства друзей-европейцев он сократил его до двухсложного, а княжеский титул отбросил из демократических убеждений. Один из его старших братьев окончил военное училище в России, второй – аналогичное заведение в Германии, а Дамдин после читинской гимназии упросил отца послать его в Париж, в университет. Учился на юриста, но, когда Монголия провозгласила независимость, вернулся на родину. Происхождение и знание языков позволяли ему получить хорошую должность в Министерстве иностранных дел; он, однако, выбрал военную службу.
Отзывчивый, всегда готовый помочь и даже услужить товарищу, Дамдин не был создан для войны – и вступил в армию из ненависти к китайцам. Он видел в них расу эксплуататоров, беспощадных ко всем, кто не одной с ними крови. Наивные монголы оказались бессильны против их изощренной сметливости и вкрадчивого лицемерия. Трудолюбивые, как муравьи, прожорливые, как тля, они по-паучьи опутывали простодушных степных бабочек долговыми расписками и высасывали из них жизненные соки. Дамдин с понятной для интеллигента иронией относился к корявому пафосу рассчитанных на широкие народные массы правительственных воззваний, но обычное в них отождествление гаминов с инфернальными врагами буддизма, демонами-мангысами, не вызывало у него отторжения – он считал это необходимым для того, чтобы поднять народ на борьбу с угнетателями.
Когда мы с ним подъехали к убитому гамину, наши цырики уже успели его раздеть, забрать оружие и снять нагрудные амулеты. Он лежал голый до пояса, босой, с залитой кровью шеей. По его лицу я понял, что это не китаец, а монгол-чахар.
Чахары – племя изгнанников, лишенных родины, оттесненных ханьскими поселенцами в пустыню. Они промышляли разбоем, торговали женщинами, ячьей шерстью и собственной храбростью, но после крушения Поднебесной империи их отвага превратилась в лежалый товар и за бесценок была куплена китайскими генералами из северных провинций.
Дамдин спешился возле трупа, вынул узкий и длинный монгольский нож и сделал то, чего я никак не ожидал от недавнего студента Сорбонны, – отрезал мертвецу оба уха, выпрямился и веерообразным движением, как шаман, сеющий гусиный пух, чтобы пожать снежную бурю, швырнул их в том направлении, куда ускакали двое уцелевших всадников.
Меня это поразило. Я потребовал объяснений, но ничего не добился: Дамдин молчал, пучком травы оттирая пальцы от крови. Лицо у него было совершенно потерянное, руки тряслись, губы прыгали, как будто его бил озноб. Видя его состояние, я решил отложить разговор на потом; мы сели в сёдла и припустили во весь дух, положившись на выносливость наших лошадок лучшей в Монголии керуленской породы.
Нам повезло благополучно вернуться в лагерь, а на другой день Дамдин явился ко мне с привезенной им из Парижа книгой французского путешественника Анри Брюссона, раскрыл ее на заложенной странице и велел прочесть верхний абзац.
«Паломники в монастыре Эрдени-Дзу, – прочел я, – рассказывали мне, что первый человек был сотворен без ушей, лишь с ушными отверстиями, как у птиц, но мангысы увидели, как прекрасно человеческое тело, дождались, когда человек уснет, и, чтобы обезобразить его, прилепили ему к голове две морских раковины. До сих пор кое-где в Монголии сохранился обычай, требующий при погребении отрезать умершему уши, чтобы вернуть его к изначальному облику. Отрубить их у мертвого – не надругательство над трупом, а оказанная покойному услуга. Если смерть была насильственной, за это убитый может простить своих убийц и помочь им спастись от преследования».
Он оставил мне книгу, и я ее прочел. Как настоящий ученый, Брюссон избегал говорить о цене, заплаченной им за добытые для науки факты, но можно было понять, что платой стали сотни верст пути по диким хребтам Мацзюньшаня, песчаные бури в Гоби, разбойники, вши, галлюцинации, необходимость утолять жажду тошнотворной, жирно-соленой водой блуждающих озер. Предательски брошенный проводниками, он брел по руслам высохших рек, слышал пение скал, видел адские огни в горах и чудовищные клубки змей в устьях пещер, окутанных ядовитыми испарениями, но всё это служило только фоном его этнографических наблюдений. Передний план занимали харачины, дербеты, торгоуты, ёграи или совсем уж жалкие осколки вымирающих племен, утратившие интерес ко всему, что бесполезно для добывания пищи, забывшие имена своих богов и собственные обычаи. Брюссон восстанавливал их по крупицам, расспрашивая стариков и наблюдая за детскими играми.
А через три года, уже в Петрограде, я узнал, что Брюссон никогда не бывал не только в Гоби, но и в доступной даже обычным туристам Халхе. Как выяснил дотошный корреспондент «Фигаро», бо?льшую часть своих открытий Брюссон почерпнул из малоизвестных во Франции трудов русских исследователей Центральной Азии, а бытующее якобы у монголов поверье о спасительной силе отрезанных у трупа ушей взял из записок одного бретонского миссионера, много лет прожившего в Бельгийском Конго.
После разоблачения Брюссон эмигрировал в Канаду, работал бухгалтером на шоколадной фабрике. По-видимому, прежде чем прославиться, он и на родине добывал пропитание тем же ремеслом. Я ничего о нем не знаю – и не понимаю, кто, в сущности, он был такой. Мечтатель в сатиновых канцелярских нарукавниках? Дерзкий мистификатор? Банальный жулик? Впрочем, не всё ли равно? В любом случае ему удалось то, что для меня с моими писательскими потугами осталось недостижимым, – на кончике его пера возник целый мир, в котором человек может жить, быть счастлив и даже находить себе примеры для подражания. Не в этом ли состоит цель каждого пишущего?
4
«Для людей Востока все часы в сутках одинаковы», – сказано у Киплинга в «Киме» применительно к расписанию поездов на индийских железных дорогах. Верность этого замечания я оценил при визите в Ногон-Сумэ – Зеленый дворец Богдо-гэгена VIII, монгольского первосвященника и «живого Будды». Полчаса мы, группа прибывших русских военных советников, дожидались приема, еще столько же длилась аудиенция, и всё это время я слышал вокруг разноголосый звон и бой настенных, настольных и напольных часов. Их дарили хутухте[9 - Буддийский перерожденец, в просторечии – Богдогэген VIII.] приезжавшие из Пекина цинские чиновники, паломники, сибирские купцы, европейские дипломаты, местные князья, но с тех пор, как из-за трахомы он начал терять зрение, что-то разладилось в механизме придворной жизни, с которым сцеплены были часовые шестерни. Одни часы перестали заводить, другие заводили от случая к случаю и забывали или не считали нужным подвести стрелки. Почти все показывали разное время, поэтому звонили и били по собственному расписанию, не оглядываясь на соседей.
Хозяин дворца, восьмой перерожденец тибетского подвижника Таранатхи, в 1911 году стал теократическим владыкой Монголии, таким же, как Далай-лама в Тибете. Двое претендовавших на престол ханов-чингизидов внезапно скончались от каких-то загадочных болезней, началась Эра Многими Возведенного, то есть всенародно якобы избранного монарха. На деле это означало победу узкого клана столичных лам, главным образом тибетцев, как сам «живой Будда». Проигравшая княжеская партия затаилась в ожидании того момента, когда на повестку дня встанет неразрешимый при данных условиях вопрос о престолонаследии.
На исходе второго года новой эры Богдо-гэгену прислали из Иркутска 76-миллиметровую пушку. Артиллерийскую пальбу он обожал потому, может быть, что хотел возместить недостаток зрительных впечатлений избытком слуховых. По праздникам пушку выкатывали на площадь перед Ногон-Сумэ, собирался народ, на мачте поднимали государственный флаг из белого шелка с золототканым первым знаком алфавита «Соёмбо» – этот алфавит сам Богдо-гэген и придумал, правда, двести лет назад, в одном из своих прежних воплощений. В окружении министров и высших лам, что почти всегда было одно и то же, он восседал в тронном кресле обок с грузной широколицей супругой, тоже богиней. Глаза слепца скрывали очки с зелеными стеклами, без оправы.
Мои соотечественники считали его не способным к державному труду безвольным ничтожеством, но я думал, что в эти неспокойные времена монголам очень повезло иметь такого монарха, который чаще совещается с женой, чем с министрами, а своему дворцовому зверинцу уделяет больше внимания, чем государственным делам. Какой-нибудь сверхдеятельный работник на троне в два счета завел бы страну в пропасть.
Пушечный салют возвещал окончательную победу над врагами свободной Монголии, хотя это было не совсем так – крепость Бар-Хото на юго-западе Халхи, получившая название по охраняющим ее ворота двум каменным тиграм[10 - Бар – тигр (монг.).], и земли вокруг нее оставались в руках китайцев. Стремление освободить кочующих там монголов из племени тордоутов усиленно муссировалось официальной пропагандой и укрепляло авторитет правительства, но сами тордоуты к перспективе своего освобождения относились без энтузиазма. Других торговых центров, кроме Бар-Хото, поблизости не было, без китайцев им некому стало бы сбывать скот и тарбаганьи шкуры и не у кого покупать охотничьи припасы, мануфактуру, чай и финики – любимое лакомство не избалованных сладостями кочевников.
Снаряжать дорогостоящую и рискованную военную экспедицию к Бар-Хото никому не хотелось, решение о ней принято было лишь после того, как китайцы, не без оснований полагая, что ламы возбуждают тордоутов против них, опечатали окрестные храмы и заключили союз с дунганами[11 - Китайские мусульмане.], а те восприняли это как carte blanche на грабеж буддийских монастырей. Командир бригады, генерал Наран-Батор, начал готовить ее к походу, но в разгар приготовлений военный министр протрубил отбой под рутинным предлогом неблагоприятного расположения звезд. В действительности причина была иная.
Весной 1914 года Богдо-гэген слег с воспалением легких и перед монголами ребром встал вопрос о будущности их «счастливого государства». Никто не знал, будет ли обнаружено очередное воплощение Таранатхи, то есть Богдо-гэген IX, и если да, должен ли этот мальчик стать не только духовным, но и светским владыкой Монголии, как его предшественник, или остаться всего лишь первосвященником, как предыдущие семь ургинских хутухт. На первом настаивали ламы из окружения Богдо-гэгена, на втором – княжеская партия, имевшая немало сторонников среди наших офицеров. Поползли слухи, будто эти ламы хотят удалить бригаду из Урги, чтобы в случае смерти Многими Возведенного противники теократии не могли бы на нее опереться. Наран-Батор колебался, не зная, на какую чашу весов бросить свой меч, и не показывался в казармах, но его видели в опиумной курильне возле монастыря Гандан. Всех лихорадило, а я радовался, что поход отложен и нам с Линой не грозит скорая разлука.
В эти весенние дни я нередко поднимался на Богдо-улу. Гора считалась священной, охотиться и рубить на ней лес было запрещено. Стража перекрывала ведущие к гребню ущелья и тропы, но безоружный свободно мог взойти по ним для созерцания и уединенной молитвы в царстве непуганых птиц, доверчивых оленей, кристально чистых ручьев и ягодных полян. В апреле до ягод было далеко, но ручьи сбросили ледяные оковы, а склоны начинали зеленеть. Я забирался сюда по утрам, сидел в одиночестве среди скал и каменных осыпей, вдыхал запах разогретой солнцем кедровой смолы, думал о Лине. Форзацы книг, которые я у нее брал, были проштампованы экслибрисом с изображением Будды Шакьямуни и полным именем хозяйки – Ангелина Георгиевна Серова, но для мужа она была Геля, для меня – Лина.
Наш роман завязался после того, как по ее просьбе я стал давать ей уроки верховой езды. С ее стороны это не было предлогом для сближения: она в самом деле хотела стать умелой наездницей, а я смолоду хорошо держался в седле, иначе в монгольской армии, не имеющей других родов войск кроме конницы, мне было бы нечего делать. К апрелю наши отношения достигли той стадии, когда мужчина и женщина отлично сознают, к чему у них идет дело, но по молчаливому взаимному согласию предпочитают не торопить неизбежное и не делают последнего шага.
На Богдо-уле всегда ветер. Я садился к нему лицом, и напор воздушной стихии, которой я как бы противостою, обострял мое чувство жизни, как в юности. Подо мной лежала столица Монголии с ее хаотичным скоплением китайских фанз, юрт, бурятских зимников, русских изб и редких домов западного типа. На правом берегу Толы я видел зеленую крышу Ногон-Сумэ, на левом – Захадыр[12 - Главный ургинский базар.], яркие черепичные кровли больших и малых буддийских храмов, шеренги субурганов и молитвенных мельниц, улочки, дворы, дворики, загоны для скота. Среди всей этой азиатчины нашлось место электрической и телефонной станциям.
Европейское название города – Урга, но он имеет еще два монгольских имени и столько же китайских. Никакое единственное сочетание звуков не несет в себе его образ и не привязывает его к этой земле птиц и кочевников.
Я терпел здесь множество неудобств, страдал от зноя, холода и дурной воды, вшивел, покрывался фурункулами, болел дизентерией, – но никогда и нигде не чувствовал себя свободнее, чем в Монголии. Я не нашел в ней того, что искал, не написал роман, не стал буддистом, зато, в отличие от Петербурга, где близость верховной власти искажает пропорции вещей, где призраки выдают себя за мужчин и еще чаще – за женщин, где книги сочатся туманом и на звон золота покупают запах пищи, где нет правды, а есть только целесообразность, здесь, на этой скудной земле, я жил среди живых, видел все цвета мира, ходил рядом со смертью, любил и был счастлив.
5
Два века Монголия была китайской провинцией, а теперь имела неопределенный политический статус. Россия помогала монголам создать армию и поощряла их стремление к независимости, но и она рассматривала ее как автономию в составе Китая.
Соответственно, бывший консул Серов имел ранг дипломатического агента, средний между консульским и посольским. Вокруг него группировались деловые круги русской колонии, а его жена, моя Лина, исполняла роль культурного атташе и регулярно собирала у себя на квартире туземную интеллигенцию пророссийской ориентации. В начале апреля я получил приглашение на очередной ее журфикс. Серов этими собраниями манкировал, и мы лишний раз могли увидеться – пусть и на людях, но без него.
Лина окончила учительский институт в Казани, работала в земской школе под Свияжском. В той же деревне родители Серова снимали дачу, и однажды сын приехал туда к ним в отпуск. Историю своего замужества Лина рассказала мне на втором занятии, а на третье принесла томик Чехова с рассказом «На подводе», который я раньше не читал. Героиня, сельская учительница, собирает с учеников деньги и отдает их попечителю, а потом должна еще умолять его, чтобы прислал в школу дров на зиму. По ночам ей снятся дрова, сугробы, экзамены, она сознает, что огрубела, отяжелела, «словно ее налили свинцом», никому не верит, всего боится и в присутствии члена управы или того же попечителя, «сытого наглого мужика», не осмеливается сесть, а если говорит о ком-нибудь из них, выражается как прислуга: они. «Я была к этому близка», – сказала Лина, когда я возвращал ей Чехова.
Серов дал ей многое, но и она ему – не меньше. Молодость, красота и рождение дочери были достойной платой за положение хозяйки главного русского дома в сердце Азии. Духовной близости, на которую она уповала, выходя замуж без любви, у них не возникло, да и душевной – тоже. Даже шестилетняя Маша с ее болезнями и детскими праздниками не сделала их родными людьми. Все в Урге знали, что Серов занимается запретной для дипломата коммерцией: ему принадлежит записанная на подставных лиц автомобильная компания, успешно конкурирующая с верблюжьими караванами в грузовых перевозках на линии Урга – Калган, – а Лина много читала, мечтала открыть школу для монгольских девочек, увлекалась буддизмом, как и я.
Квартира Серовых находилась в монументальном по здешним масштабам, с готическими башенками, двухэтажном здании бельгийской золотодобывающей компании «Монголор». Оно задумывалось как символ ее могущества, но золотые прииски в горах Хэнтея непредвиденно быстро истощились, служащие и геологи разъехались, конторскую мебель распродали коммерсантам, а на само здание покупателей не нашлось. Практичный Серов проявил инициативу – и Азиатский департамент Министерства иностранных дел за смешные деньги арендовал его для нужд дипломатической миссии и под квартиры сотрудников. Теперь оно символизировало мощь Российской империи.
Горничная провела меня в гостиную, и я вновь отметил, что для Лины это ее личное место силы, а не их с мужем общее. На стенах – виды Перми, откуда она была родом, несколько тханок, элегический пейзаж под Левитана с прудом, плотиной и плавающими в черной воде опавшими листьями. За стеклом книжного шкафа – фотографии Чехова, Скрябина и Далай-ламы XIII в кожаных рамочках. Меня умиляла эта дружная компания.
Гости уже собрались. У окна уважительно перелистывали какое-то иллюстрированное издание братья Санаевы, буряты и монгольские литераторы, штатные соловьи на службе у Министерства внутренних дел и внештатные – у Военного. Мастера на все руки, они составляли календари с политическим уклоном, слагали псевдонародные песни о героях борьбы за свободу, здравицы сильным мира сего и пересыпанные антикитайскими шуточками одноактные скетчи, которые сами же и разыгрывали перед нашими цыриками. Тордоуты, изнывающие под игом гаминов из Бар-Хото, тоже не были обойдены их всеядной музой.
Помимо них, туземную интеллигенцию представляли еще двое бурят. Один, ветеринар, сочинял патриотические стихи, до отказа напичканные выражающими его любовь к родине топонимами и гидронимами, второй служил на таможне, но душу вкладывал в занятия генеалогией. Его изыскания имели целью доказать, что все великие монголы ведут происхождение от бурят или, по крайней мере, имеют толику бурятской крови.
Из монголов присутствовали трое великовозрастных учеников консульской школы толмачей и переводчиков и пара чиновников из Министерства финансов, небескорыстно помогавших Серову отстаивать экономические интересы России в Халхе. Оба были с женами: сначала я увидел их широкие спины и прически в виде коровьих рогов, а уже затем – Лину. Непритязательная блузка и сколотые в пучок волосы делали ее похожей на образцовую хранительницу семейного очага, но синеватые подглазья разрушали это впечатление.
Чиновницы внимали ее рассказу о том, как варить облепиховое варенье, которое они ели здесь в прошлый раз, и оно им очень понравилось. Переводчиком служил Ефим Гиршович, сорокалетний господин с монголоидным разрезом глаз, наполненных семитской печалью. Выкрест по отцу и монгол по матери, добрый ангел русских путешественников по Монголии, корреспондент «Верхнеудинского вестника» и читинской «Восточной окраины», он владел единственной в стране типографией, где тексты не вырезали на досках, как в монастырских печатнях, а набирали из литер. По-русски в ней печатались визитные карточки, рекламные объявления, афиши любительских спектаклей в Коммерческом клубе и бюллетень «Русский колонист», по-монгольски – правительственные рескрипты, календари и нерегулярная газета «Унэт толь», то есть «Драгоценное зерцало».
Спорный вопрос, требуется ли при варке добавлять в ягоды воду, остался нерешенным. При моем появлении чиновницы вскочили, поклонились мне, звеня монистами из русских полтин, и вразвалочку удалились в тот угол, где стояли с папиросами их мужья. Носить европейское платье им запрещалось, но папиросы вместо трубок указывали на их свободомыслие.
Гиршович пожал мне руку и отошел к Санаевым. Его продиктованная якобы деликатностью, а на самом деле вызывающе-бестактная готовность оставить нас с Линой вдвоем меня разозлила. Мы с ней еще ни разу даже не поцеловались, но в тесном мирке образованной части здешней русской колонии уже одно то, что я учу ее верховой езде и посещаю ее журфиксы, давало пищу для далеко идущих подозрений.
– Серов запретил мне брать у вас уроки, – тихо сказала Лина, когда я сел рядом с ней.
В ее глазах читался вопрос о нашем будущем. Она, конечно, рассчитывала на мою предприимчивость – но что я мог ей предложить? Ни кинематографа, ни общественного сада, ни ресторанов и кондитерских в Урге нет; есть китайские харчевни, однако наши дамы в них не ходят. Видеться по воскресеньям в церкви? Там много не поговоришь. За городом или на Богдо-уле? Без провожатых ей туда не добраться, а значит, о нашем свидании в тот же день будет знать вся русская Урга, включая Серова.
Ущербная бледная луна проступила на еще не померкшем небе. Форточка была открыта, я слышал, как за оврагом между Консульским поселком и русским кладбищем воют черные лохматые псы-трупоеды. Вожак солировал, хор вел свою партию. Орды бродячих собак заполняли Ургу, и я давно свыкся с их концертами. На свалках вдоль Толы и впадающей в нее речки Сельбы они поедали отбросы, на улицах – экскременты людей и животных, в окрестных сопках – вынесенные за город тела умерших. Тому, чья плоть послужит на благо других живых существ, суждено более благоприятное перерождение, чем погребенному под землей – там он сделается добычей червей, а черви не так высоко поднялись по кармической лестнице, как собаки.
Говорили, будто за последнее время собачьи стаи сильно размножились по сравнению с прошлыми годами. Это означало, что скоро будет много мертвецов и голодать им не придется. Их плодовитость была предвестьем близящихся войн, эпидемий, природных катастроф.
– Серов говорит, – продолжила Лина, – что Богдо-гэгену лучше, кризис миновал. Через неделю будет на ногах.
Сумеру[7 - Мифическая гора, центр мироздания в буддийской космогонии.].
Их ненависть к угнетателям не имела пределов.
Их решимость была непреклонна.
Они свергли зло, что было неприкосновенно,
привольной Монголии дали свободу,
решили установить счастливое государство.
Я не питал иллюзий относительно этих «мудрых мужей» и их способности «установить счастливое государство», но в тот момент мне спазмом перехватило горло. Я понял, что уже люблю эту забытую Богом, дикую, нищую и прекрасную страну.
3
Через год после моего приезда в Монголию китайцы попытались вернуть контроль над мятежной провинцией.
Бои, вернее стычки, шли вдоль Калганского тракта. Здесь я с группой конных разведчиков наткнулся на разъезд гаминов[8 - От китайского «гэмин» – революция.], как монголы называют солдат республиканского Китая. Мы и они объезжали одну сопку с разных сторон – и одновременно увидели друг друга. Одного из них нам удалось подстрелить, двое ускакали к своим. Их бивак располагался неподалеку, и, если бы погоня нас настигла, на плен мог рассчитывать только я сам. Остальных убили бы на месте.
При мне находился молодой офицер Дамдин, сын влиятельного хошунного князя, прямой потомок небесного шефа нашей бригады, Абатай-хана. Его полное имя было вчетверо длиннее, для удобства друзей-европейцев он сократил его до двухсложного, а княжеский титул отбросил из демократических убеждений. Один из его старших братьев окончил военное училище в России, второй – аналогичное заведение в Германии, а Дамдин после читинской гимназии упросил отца послать его в Париж, в университет. Учился на юриста, но, когда Монголия провозгласила независимость, вернулся на родину. Происхождение и знание языков позволяли ему получить хорошую должность в Министерстве иностранных дел; он, однако, выбрал военную службу.
Отзывчивый, всегда готовый помочь и даже услужить товарищу, Дамдин не был создан для войны – и вступил в армию из ненависти к китайцам. Он видел в них расу эксплуататоров, беспощадных ко всем, кто не одной с ними крови. Наивные монголы оказались бессильны против их изощренной сметливости и вкрадчивого лицемерия. Трудолюбивые, как муравьи, прожорливые, как тля, они по-паучьи опутывали простодушных степных бабочек долговыми расписками и высасывали из них жизненные соки. Дамдин с понятной для интеллигента иронией относился к корявому пафосу рассчитанных на широкие народные массы правительственных воззваний, но обычное в них отождествление гаминов с инфернальными врагами буддизма, демонами-мангысами, не вызывало у него отторжения – он считал это необходимым для того, чтобы поднять народ на борьбу с угнетателями.
Когда мы с ним подъехали к убитому гамину, наши цырики уже успели его раздеть, забрать оружие и снять нагрудные амулеты. Он лежал голый до пояса, босой, с залитой кровью шеей. По его лицу я понял, что это не китаец, а монгол-чахар.
Чахары – племя изгнанников, лишенных родины, оттесненных ханьскими поселенцами в пустыню. Они промышляли разбоем, торговали женщинами, ячьей шерстью и собственной храбростью, но после крушения Поднебесной империи их отвага превратилась в лежалый товар и за бесценок была куплена китайскими генералами из северных провинций.
Дамдин спешился возле трупа, вынул узкий и длинный монгольский нож и сделал то, чего я никак не ожидал от недавнего студента Сорбонны, – отрезал мертвецу оба уха, выпрямился и веерообразным движением, как шаман, сеющий гусиный пух, чтобы пожать снежную бурю, швырнул их в том направлении, куда ускакали двое уцелевших всадников.
Меня это поразило. Я потребовал объяснений, но ничего не добился: Дамдин молчал, пучком травы оттирая пальцы от крови. Лицо у него было совершенно потерянное, руки тряслись, губы прыгали, как будто его бил озноб. Видя его состояние, я решил отложить разговор на потом; мы сели в сёдла и припустили во весь дух, положившись на выносливость наших лошадок лучшей в Монголии керуленской породы.
Нам повезло благополучно вернуться в лагерь, а на другой день Дамдин явился ко мне с привезенной им из Парижа книгой французского путешественника Анри Брюссона, раскрыл ее на заложенной странице и велел прочесть верхний абзац.
«Паломники в монастыре Эрдени-Дзу, – прочел я, – рассказывали мне, что первый человек был сотворен без ушей, лишь с ушными отверстиями, как у птиц, но мангысы увидели, как прекрасно человеческое тело, дождались, когда человек уснет, и, чтобы обезобразить его, прилепили ему к голове две морских раковины. До сих пор кое-где в Монголии сохранился обычай, требующий при погребении отрезать умершему уши, чтобы вернуть его к изначальному облику. Отрубить их у мертвого – не надругательство над трупом, а оказанная покойному услуга. Если смерть была насильственной, за это убитый может простить своих убийц и помочь им спастись от преследования».
Он оставил мне книгу, и я ее прочел. Как настоящий ученый, Брюссон избегал говорить о цене, заплаченной им за добытые для науки факты, но можно было понять, что платой стали сотни верст пути по диким хребтам Мацзюньшаня, песчаные бури в Гоби, разбойники, вши, галлюцинации, необходимость утолять жажду тошнотворной, жирно-соленой водой блуждающих озер. Предательски брошенный проводниками, он брел по руслам высохших рек, слышал пение скал, видел адские огни в горах и чудовищные клубки змей в устьях пещер, окутанных ядовитыми испарениями, но всё это служило только фоном его этнографических наблюдений. Передний план занимали харачины, дербеты, торгоуты, ёграи или совсем уж жалкие осколки вымирающих племен, утратившие интерес ко всему, что бесполезно для добывания пищи, забывшие имена своих богов и собственные обычаи. Брюссон восстанавливал их по крупицам, расспрашивая стариков и наблюдая за детскими играми.
А через три года, уже в Петрограде, я узнал, что Брюссон никогда не бывал не только в Гоби, но и в доступной даже обычным туристам Халхе. Как выяснил дотошный корреспондент «Фигаро», бо?льшую часть своих открытий Брюссон почерпнул из малоизвестных во Франции трудов русских исследователей Центральной Азии, а бытующее якобы у монголов поверье о спасительной силе отрезанных у трупа ушей взял из записок одного бретонского миссионера, много лет прожившего в Бельгийском Конго.
После разоблачения Брюссон эмигрировал в Канаду, работал бухгалтером на шоколадной фабрике. По-видимому, прежде чем прославиться, он и на родине добывал пропитание тем же ремеслом. Я ничего о нем не знаю – и не понимаю, кто, в сущности, он был такой. Мечтатель в сатиновых канцелярских нарукавниках? Дерзкий мистификатор? Банальный жулик? Впрочем, не всё ли равно? В любом случае ему удалось то, что для меня с моими писательскими потугами осталось недостижимым, – на кончике его пера возник целый мир, в котором человек может жить, быть счастлив и даже находить себе примеры для подражания. Не в этом ли состоит цель каждого пишущего?
4
«Для людей Востока все часы в сутках одинаковы», – сказано у Киплинга в «Киме» применительно к расписанию поездов на индийских железных дорогах. Верность этого замечания я оценил при визите в Ногон-Сумэ – Зеленый дворец Богдо-гэгена VIII, монгольского первосвященника и «живого Будды». Полчаса мы, группа прибывших русских военных советников, дожидались приема, еще столько же длилась аудиенция, и всё это время я слышал вокруг разноголосый звон и бой настенных, настольных и напольных часов. Их дарили хутухте[9 - Буддийский перерожденец, в просторечии – Богдогэген VIII.] приезжавшие из Пекина цинские чиновники, паломники, сибирские купцы, европейские дипломаты, местные князья, но с тех пор, как из-за трахомы он начал терять зрение, что-то разладилось в механизме придворной жизни, с которым сцеплены были часовые шестерни. Одни часы перестали заводить, другие заводили от случая к случаю и забывали или не считали нужным подвести стрелки. Почти все показывали разное время, поэтому звонили и били по собственному расписанию, не оглядываясь на соседей.
Хозяин дворца, восьмой перерожденец тибетского подвижника Таранатхи, в 1911 году стал теократическим владыкой Монголии, таким же, как Далай-лама в Тибете. Двое претендовавших на престол ханов-чингизидов внезапно скончались от каких-то загадочных болезней, началась Эра Многими Возведенного, то есть всенародно якобы избранного монарха. На деле это означало победу узкого клана столичных лам, главным образом тибетцев, как сам «живой Будда». Проигравшая княжеская партия затаилась в ожидании того момента, когда на повестку дня встанет неразрешимый при данных условиях вопрос о престолонаследии.
На исходе второго года новой эры Богдо-гэгену прислали из Иркутска 76-миллиметровую пушку. Артиллерийскую пальбу он обожал потому, может быть, что хотел возместить недостаток зрительных впечатлений избытком слуховых. По праздникам пушку выкатывали на площадь перед Ногон-Сумэ, собирался народ, на мачте поднимали государственный флаг из белого шелка с золототканым первым знаком алфавита «Соёмбо» – этот алфавит сам Богдо-гэген и придумал, правда, двести лет назад, в одном из своих прежних воплощений. В окружении министров и высших лам, что почти всегда было одно и то же, он восседал в тронном кресле обок с грузной широколицей супругой, тоже богиней. Глаза слепца скрывали очки с зелеными стеклами, без оправы.
Мои соотечественники считали его не способным к державному труду безвольным ничтожеством, но я думал, что в эти неспокойные времена монголам очень повезло иметь такого монарха, который чаще совещается с женой, чем с министрами, а своему дворцовому зверинцу уделяет больше внимания, чем государственным делам. Какой-нибудь сверхдеятельный работник на троне в два счета завел бы страну в пропасть.
Пушечный салют возвещал окончательную победу над врагами свободной Монголии, хотя это было не совсем так – крепость Бар-Хото на юго-западе Халхи, получившая название по охраняющим ее ворота двум каменным тиграм[10 - Бар – тигр (монг.).], и земли вокруг нее оставались в руках китайцев. Стремление освободить кочующих там монголов из племени тордоутов усиленно муссировалось официальной пропагандой и укрепляло авторитет правительства, но сами тордоуты к перспективе своего освобождения относились без энтузиазма. Других торговых центров, кроме Бар-Хото, поблизости не было, без китайцев им некому стало бы сбывать скот и тарбаганьи шкуры и не у кого покупать охотничьи припасы, мануфактуру, чай и финики – любимое лакомство не избалованных сладостями кочевников.
Снаряжать дорогостоящую и рискованную военную экспедицию к Бар-Хото никому не хотелось, решение о ней принято было лишь после того, как китайцы, не без оснований полагая, что ламы возбуждают тордоутов против них, опечатали окрестные храмы и заключили союз с дунганами[11 - Китайские мусульмане.], а те восприняли это как carte blanche на грабеж буддийских монастырей. Командир бригады, генерал Наран-Батор, начал готовить ее к походу, но в разгар приготовлений военный министр протрубил отбой под рутинным предлогом неблагоприятного расположения звезд. В действительности причина была иная.
Весной 1914 года Богдо-гэген слег с воспалением легких и перед монголами ребром встал вопрос о будущности их «счастливого государства». Никто не знал, будет ли обнаружено очередное воплощение Таранатхи, то есть Богдо-гэген IX, и если да, должен ли этот мальчик стать не только духовным, но и светским владыкой Монголии, как его предшественник, или остаться всего лишь первосвященником, как предыдущие семь ургинских хутухт. На первом настаивали ламы из окружения Богдо-гэгена, на втором – княжеская партия, имевшая немало сторонников среди наших офицеров. Поползли слухи, будто эти ламы хотят удалить бригаду из Урги, чтобы в случае смерти Многими Возведенного противники теократии не могли бы на нее опереться. Наран-Батор колебался, не зная, на какую чашу весов бросить свой меч, и не показывался в казармах, но его видели в опиумной курильне возле монастыря Гандан. Всех лихорадило, а я радовался, что поход отложен и нам с Линой не грозит скорая разлука.
В эти весенние дни я нередко поднимался на Богдо-улу. Гора считалась священной, охотиться и рубить на ней лес было запрещено. Стража перекрывала ведущие к гребню ущелья и тропы, но безоружный свободно мог взойти по ним для созерцания и уединенной молитвы в царстве непуганых птиц, доверчивых оленей, кристально чистых ручьев и ягодных полян. В апреле до ягод было далеко, но ручьи сбросили ледяные оковы, а склоны начинали зеленеть. Я забирался сюда по утрам, сидел в одиночестве среди скал и каменных осыпей, вдыхал запах разогретой солнцем кедровой смолы, думал о Лине. Форзацы книг, которые я у нее брал, были проштампованы экслибрисом с изображением Будды Шакьямуни и полным именем хозяйки – Ангелина Георгиевна Серова, но для мужа она была Геля, для меня – Лина.
Наш роман завязался после того, как по ее просьбе я стал давать ей уроки верховой езды. С ее стороны это не было предлогом для сближения: она в самом деле хотела стать умелой наездницей, а я смолоду хорошо держался в седле, иначе в монгольской армии, не имеющей других родов войск кроме конницы, мне было бы нечего делать. К апрелю наши отношения достигли той стадии, когда мужчина и женщина отлично сознают, к чему у них идет дело, но по молчаливому взаимному согласию предпочитают не торопить неизбежное и не делают последнего шага.
На Богдо-уле всегда ветер. Я садился к нему лицом, и напор воздушной стихии, которой я как бы противостою, обострял мое чувство жизни, как в юности. Подо мной лежала столица Монголии с ее хаотичным скоплением китайских фанз, юрт, бурятских зимников, русских изб и редких домов западного типа. На правом берегу Толы я видел зеленую крышу Ногон-Сумэ, на левом – Захадыр[12 - Главный ургинский базар.], яркие черепичные кровли больших и малых буддийских храмов, шеренги субурганов и молитвенных мельниц, улочки, дворы, дворики, загоны для скота. Среди всей этой азиатчины нашлось место электрической и телефонной станциям.
Европейское название города – Урга, но он имеет еще два монгольских имени и столько же китайских. Никакое единственное сочетание звуков не несет в себе его образ и не привязывает его к этой земле птиц и кочевников.
Я терпел здесь множество неудобств, страдал от зноя, холода и дурной воды, вшивел, покрывался фурункулами, болел дизентерией, – но никогда и нигде не чувствовал себя свободнее, чем в Монголии. Я не нашел в ней того, что искал, не написал роман, не стал буддистом, зато, в отличие от Петербурга, где близость верховной власти искажает пропорции вещей, где призраки выдают себя за мужчин и еще чаще – за женщин, где книги сочатся туманом и на звон золота покупают запах пищи, где нет правды, а есть только целесообразность, здесь, на этой скудной земле, я жил среди живых, видел все цвета мира, ходил рядом со смертью, любил и был счастлив.
5
Два века Монголия была китайской провинцией, а теперь имела неопределенный политический статус. Россия помогала монголам создать армию и поощряла их стремление к независимости, но и она рассматривала ее как автономию в составе Китая.
Соответственно, бывший консул Серов имел ранг дипломатического агента, средний между консульским и посольским. Вокруг него группировались деловые круги русской колонии, а его жена, моя Лина, исполняла роль культурного атташе и регулярно собирала у себя на квартире туземную интеллигенцию пророссийской ориентации. В начале апреля я получил приглашение на очередной ее журфикс. Серов этими собраниями манкировал, и мы лишний раз могли увидеться – пусть и на людях, но без него.
Лина окончила учительский институт в Казани, работала в земской школе под Свияжском. В той же деревне родители Серова снимали дачу, и однажды сын приехал туда к ним в отпуск. Историю своего замужества Лина рассказала мне на втором занятии, а на третье принесла томик Чехова с рассказом «На подводе», который я раньше не читал. Героиня, сельская учительница, собирает с учеников деньги и отдает их попечителю, а потом должна еще умолять его, чтобы прислал в школу дров на зиму. По ночам ей снятся дрова, сугробы, экзамены, она сознает, что огрубела, отяжелела, «словно ее налили свинцом», никому не верит, всего боится и в присутствии члена управы или того же попечителя, «сытого наглого мужика», не осмеливается сесть, а если говорит о ком-нибудь из них, выражается как прислуга: они. «Я была к этому близка», – сказала Лина, когда я возвращал ей Чехова.
Серов дал ей многое, но и она ему – не меньше. Молодость, красота и рождение дочери были достойной платой за положение хозяйки главного русского дома в сердце Азии. Духовной близости, на которую она уповала, выходя замуж без любви, у них не возникло, да и душевной – тоже. Даже шестилетняя Маша с ее болезнями и детскими праздниками не сделала их родными людьми. Все в Урге знали, что Серов занимается запретной для дипломата коммерцией: ему принадлежит записанная на подставных лиц автомобильная компания, успешно конкурирующая с верблюжьими караванами в грузовых перевозках на линии Урга – Калган, – а Лина много читала, мечтала открыть школу для монгольских девочек, увлекалась буддизмом, как и я.
Квартира Серовых находилась в монументальном по здешним масштабам, с готическими башенками, двухэтажном здании бельгийской золотодобывающей компании «Монголор». Оно задумывалось как символ ее могущества, но золотые прииски в горах Хэнтея непредвиденно быстро истощились, служащие и геологи разъехались, конторскую мебель распродали коммерсантам, а на само здание покупателей не нашлось. Практичный Серов проявил инициативу – и Азиатский департамент Министерства иностранных дел за смешные деньги арендовал его для нужд дипломатической миссии и под квартиры сотрудников. Теперь оно символизировало мощь Российской империи.
Горничная провела меня в гостиную, и я вновь отметил, что для Лины это ее личное место силы, а не их с мужем общее. На стенах – виды Перми, откуда она была родом, несколько тханок, элегический пейзаж под Левитана с прудом, плотиной и плавающими в черной воде опавшими листьями. За стеклом книжного шкафа – фотографии Чехова, Скрябина и Далай-ламы XIII в кожаных рамочках. Меня умиляла эта дружная компания.
Гости уже собрались. У окна уважительно перелистывали какое-то иллюстрированное издание братья Санаевы, буряты и монгольские литераторы, штатные соловьи на службе у Министерства внутренних дел и внештатные – у Военного. Мастера на все руки, они составляли календари с политическим уклоном, слагали псевдонародные песни о героях борьбы за свободу, здравицы сильным мира сего и пересыпанные антикитайскими шуточками одноактные скетчи, которые сами же и разыгрывали перед нашими цыриками. Тордоуты, изнывающие под игом гаминов из Бар-Хото, тоже не были обойдены их всеядной музой.
Помимо них, туземную интеллигенцию представляли еще двое бурят. Один, ветеринар, сочинял патриотические стихи, до отказа напичканные выражающими его любовь к родине топонимами и гидронимами, второй служил на таможне, но душу вкладывал в занятия генеалогией. Его изыскания имели целью доказать, что все великие монголы ведут происхождение от бурят или, по крайней мере, имеют толику бурятской крови.
Из монголов присутствовали трое великовозрастных учеников консульской школы толмачей и переводчиков и пара чиновников из Министерства финансов, небескорыстно помогавших Серову отстаивать экономические интересы России в Халхе. Оба были с женами: сначала я увидел их широкие спины и прически в виде коровьих рогов, а уже затем – Лину. Непритязательная блузка и сколотые в пучок волосы делали ее похожей на образцовую хранительницу семейного очага, но синеватые подглазья разрушали это впечатление.
Чиновницы внимали ее рассказу о том, как варить облепиховое варенье, которое они ели здесь в прошлый раз, и оно им очень понравилось. Переводчиком служил Ефим Гиршович, сорокалетний господин с монголоидным разрезом глаз, наполненных семитской печалью. Выкрест по отцу и монгол по матери, добрый ангел русских путешественников по Монголии, корреспондент «Верхнеудинского вестника» и читинской «Восточной окраины», он владел единственной в стране типографией, где тексты не вырезали на досках, как в монастырских печатнях, а набирали из литер. По-русски в ней печатались визитные карточки, рекламные объявления, афиши любительских спектаклей в Коммерческом клубе и бюллетень «Русский колонист», по-монгольски – правительственные рескрипты, календари и нерегулярная газета «Унэт толь», то есть «Драгоценное зерцало».
Спорный вопрос, требуется ли при варке добавлять в ягоды воду, остался нерешенным. При моем появлении чиновницы вскочили, поклонились мне, звеня монистами из русских полтин, и вразвалочку удалились в тот угол, где стояли с папиросами их мужья. Носить европейское платье им запрещалось, но папиросы вместо трубок указывали на их свободомыслие.
Гиршович пожал мне руку и отошел к Санаевым. Его продиктованная якобы деликатностью, а на самом деле вызывающе-бестактная готовность оставить нас с Линой вдвоем меня разозлила. Мы с ней еще ни разу даже не поцеловались, но в тесном мирке образованной части здешней русской колонии уже одно то, что я учу ее верховой езде и посещаю ее журфиксы, давало пищу для далеко идущих подозрений.
– Серов запретил мне брать у вас уроки, – тихо сказала Лина, когда я сел рядом с ней.
В ее глазах читался вопрос о нашем будущем. Она, конечно, рассчитывала на мою предприимчивость – но что я мог ей предложить? Ни кинематографа, ни общественного сада, ни ресторанов и кондитерских в Урге нет; есть китайские харчевни, однако наши дамы в них не ходят. Видеться по воскресеньям в церкви? Там много не поговоришь. За городом или на Богдо-уле? Без провожатых ей туда не добраться, а значит, о нашем свидании в тот же день будет знать вся русская Урга, включая Серова.
Ущербная бледная луна проступила на еще не померкшем небе. Форточка была открыта, я слышал, как за оврагом между Консульским поселком и русским кладбищем воют черные лохматые псы-трупоеды. Вожак солировал, хор вел свою партию. Орды бродячих собак заполняли Ургу, и я давно свыкся с их концертами. На свалках вдоль Толы и впадающей в нее речки Сельбы они поедали отбросы, на улицах – экскременты людей и животных, в окрестных сопках – вынесенные за город тела умерших. Тому, чья плоть послужит на благо других живых существ, суждено более благоприятное перерождение, чем погребенному под землей – там он сделается добычей червей, а черви не так высоко поднялись по кармической лестнице, как собаки.
Говорили, будто за последнее время собачьи стаи сильно размножились по сравнению с прошлыми годами. Это означало, что скоро будет много мертвецов и голодать им не придется. Их плодовитость была предвестьем близящихся войн, эпидемий, природных катастроф.
– Серов говорит, – продолжила Лина, – что Богдо-гэгену лучше, кризис миновал. Через неделю будет на ногах.