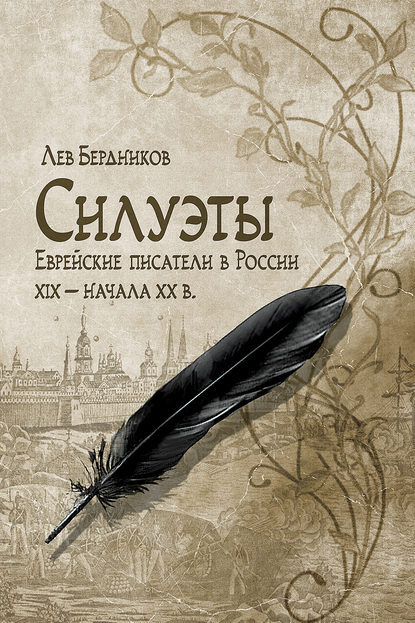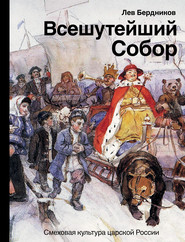По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Силуэты. Еврейские писатели в России XIX – начала XX в.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В 1809 году Лев Николаевич сближается и с известным поэтом и драматургом, будущим непременным членом «Беседы любителей русского слова», Александром Шаховским (1777-1848) и даже живёт у него в доме. Шаховской был занят написанием пьесы на ветхозаветный сюжет «Дебора, или Торжество веры», и он обратился к еврею Неваховичу именно как к знатоку истории Израиля и Священного писания. Вот что он потом напишет: «Я почитаю своей обязанностью сказать, что г-н Невахович, сочинитель “Сулиотов”, воспомоществовал мне не только своими сведениями в еврейской словесности, но даже он (по сделанному нами плану) написал некоторые явления 1-го и 2-го действий, переложенные мною с небольшими изменениями в стихи; многие мысли и изречения в роли первосвященика извлечены им из Священного Писания; политическая речь Деборы почти вся принадлежит ему. Итак, я с удовольствием признаюсь пред всеми, что его дарования, сведения и здравый ум много способствовали к успеху пиесы». В основе сюжета трагедии лежит библейский рассказ о подвиге еврейской пророчицы Деборы, избавившей свой народ от ханаанского ига. Однако для русской гражданской и патриотической поэзии начала XIX века библейская и, в частности, ветхозаветная образность приобрели особый смысл и значение. В сознании россиян (особенно накануне Наполеоновского нашествия) состояние гражданской ответственности за судьбу отечества ассоциировалось с Ветхим Заветом, с борьбой древних иудеев за освобождение Израиля. Так само еврейство Неваховича работало на идею русского патриотизма.
Интересно, что враждебные Шаховскому «арзамасцы» – новаторы приписывали писателю-еврею более значительное участие в создании трагедии. Литератор Дмитрий Дашков (1788-1839) в язвительной памфлентной кантате «Венчанье Шутовского» иронизировал:
Еврей мой написал Дебору,
А я списал.
В моих писаньях много вздору –
Кто ж их читал?
Примечательно, что эти шутливые строки переписал в свою тетрадь шестнадцатилетний лицеист Александр Пушкин.
Трагедия «Оден, царь скифский» (1810), переведённая со шведского, была лишена литературных достоинств и повлекла за собой уничтожающий отзыв литератора Александра Измайлова, который назвал сей опус «рукодельем израильтянина Неваховича». Он писал: «От сотворения мира не было на театре такой глупой пиесы, но пиеса эта – трагедия, а трагедии очень любит наша публика». Пьеса на сцене не удержалась и была поставлена всего дважды.
В дальнейшем Невахович сосредоточился на делах, от изящной словесности весьма далёких, в коих весьма преуспел. В 1813 году он под покровительством всесильного Новосильцева переезжает в Варшаву и становится главным поставщиком продовольствия и фуража для русской армии в Польше. Ему удаётся оттеснить докучливых конкурентов и в 1816 году (при поддержке того же Новосильцева) заполучить право на управление всей табачной монополией в Царстве Польском. Дальше – больше: в его руках оказывается продажа спиртного и мяса в Варшаве, аренда кошерного дохода и т. д. С 1821 года он служит уже в Правительственной комиссии финансов в Варшаве и в награду за усердие и рвение получает ордена Св. Станислава 4-й степени и Владимира 4-й степени. Обласканный властями, Лев Николаевич становится одним из самых богатых людей царства Польского, владельцем многих домов и роскошного трёхэтажного особняка в Варшаве. Согласно архивным материалам, опубликованным историком Дмитрием Фельдманом, в доносе из Секретного архива агента Екатерины Хотяинцевой от 4 марта 1826 года, небольшая группа коммерсантов (в их числе Лев Невахович и Абрам Перетц) за несколько последних лет нажили в Варшавском герцогстве 100 млн. рублей. И хотя в деловых кругах Лев Николаевич снискал себе репутацию надёжного партнера и умелого организатора, мелкие торговцы и шляхта почитали его плутократом, разоряющим страну. Неудивительно поэтому, что в первый же день Польского восстания 29 ноября 1830 года мятежная чернь разгромила дом Неваховича в Варшаве. Но хозяин, по счастью, не пострадал – бежал за полтора месяца до сего события, прихватив с собой деньги и драгоценности. Своим детям он оставит потом весьма крупное состояние, назначив своим душеприказчиком друга юности Перетца.
Израильский исследователь Михаил Вайскопф утверждает, что «художественная фантазия на тему откупщика Лейба Неваховича, выкрестившегося во Льва Николаевича» представлена в повести Рафаила Зотова «Приезд вице-губернатора» (1839): «Ах, боже мой! Да этот жид здесь? Теперь я вспомнил о нём. Он везде вертелся по передним… Его звали Лайбою, но он, кажется, перекрестился и ходит во фраке… Он у вас там понажился у откупов, записался в гильдию и стал уже чиновником. Он уже, брат, канцелярист, почти офицер». И хотя персонаж повести действительно аттестует себя Львом и действует на пару со своей женой, есть основания усомниться в направленности филиппики Зотова: ведь повесть была написана спустя восемь лет после смерти Неваховича, и, понятно, в этих условиях сей конкретный адресат совершенно терял свою актуальность.
Так или иначе, но, реализовав себе вполне в сферах карьеры и благосостояния, Лев Николаевич как будто успокаивается на этом и пописывает лишь от случая к случаю. Прошла пора читательского и зрительского успеха, и приходится признать: некогда талантливый писатель растерял и прежнюю свою мастеровитость, и литературный дар. Поздние опыты Неваховича заслуживают лишь упоминания. В 1817 году в журнале «Сын Отечества» (№ 30-31) появляется его перевод «Речи о просвещении» Томаса Фридриха фон Рейнбота (1750-1813); в 1823 году – пьеса на восточную тему «Абу-Хассан, или Прожектёр» (на польском языке); она шла в Варшаве, но на сцене не удержалась. В 1829 году Невахович издаёт перевод первых пяти книг «Мыслей, относящихся к философической истории человечества» Иоганна Готфрида Гердера (1744-1803). Перевод был подвергнут сокрушительной критике в журнале «Московский телеграф» (1829, № 17). В 1832 году, уже посмертно, в Императорском театре, было поставлено его «историческое представление» «Меч провидения, или Надир Тахмас Кули Хан», но и оно прошло незамеченным.
Впрочем, Невахович остаётся верен своей дружбе с Абрамом Перетцем, которую пронёс через всю жизнь. Они непрерывно поддерживали самые тесные отношения: известно, что в бытность в северной столице Невахович часто останавливался в его доме.
Не забывает преуспевший Невахович и о своих национальных корнях. Более того, сохраняет тесные связи с еврейской элитой, печётся о благе соплеменников. В 1829 году он подаёт императору Николаю I сочинённый им «Проект о благоустройстве расстроенного положения народа еврейского до миллиона людей обоего пола, в России обращающегося…», в коем предлагает постепенный план необходимых реформ.
А 17 марта 1831 года он сочинил и свой дипломный герб, который зафиксирован в Ч. 10 «Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, не внесённых в Общий Гербовник». И по его настоянию художник-геральдист изобразил в верхней части герба Неваховичей золотую шестиконечную звезду. Это, пожалуй, единственный пример магендовида в дворянской геральдике России! А это означает, что для Льва Николаевича его патент на благородство был никак не мыслим без возлюбленного им еврейского символа.
Значение Неваховича в истории культуры никак не умаляет тот факт, что его сочинение не нашло, да и не могло найти тогда отзвук в широкой еврейской среде, как и «Стиховорения» (1841) Леона Мандельштама и «Мысли Израильтянина» (1846) Абрама Соломонова, о чём мы ещё расскажем. Ведь, как отметил израильский литературовед Шимон Маркиш, «полстолетия, по меньшей мере, ещё два маскильских поколения, потребовалось, чтобы возник хоть какой-то круг читателей, приобщившихся к русскому языку». Тем не менее, названные книги обладают непреходящей ценностью, ибо их авторы доносили до россиян еврейские чаянья, еврейский взгляд, еврейский образ мыслей. Невахович выступил здесь пламенным правозащитником; Мандельштам, по его словам, отобразил в книге «еврейский дух»; Соломонов, истый маскил, грезил о том, чтобы «познакомить своих единоверцев с русским языком и заохотить их к постоянному его употреблению». Грёзы эти станут явью позднее, когда в результате коренной реформы еврейского образования, предпринятого при Николае I, в империи появятся уже тысячи книгочеев, понимающих язык Пушкина и Гоголя. Да и сам термин «русский еврей», по словам американского историка Бенджамена Натанса, стал распространённым только в 1860-е годы. Первым, кто привлечёт острое внимание таких евреев, будет писатель Осип Абрамович (1817-1869); он дебютирует в печати в 1847 году, станет редактором первого русско-еврейского журнала «Рассвет» (Одесса, 1860-1861) и получит статус пионера русско-еврейской литературы. Но это нисколько не умаляет заслуг Неваховича. Это он стоял у истоков еврейской русскоязычной литературы, всемерно приближал её появление.
1 августа 1831 года Льва Николаевича не стало. Он похоронен на Лютеранском (Волковом) кладбище в Петербурге. На надгробном монументе выгравирована надпись: «Там обители, миры, пространства – они блистают в полной юности, после истечения тысящелетий; перемена времён не лишает их лучезарного света. Здесь же под вашими взорами всё истлевает, время угрожает разрушением земному великолепию и земному щастию… Из трудов покойного».
Очень выразительно и проникновенно говорит о жизни Неваховича культуролог Владимир Топоров: «Он вкусил и немало горечи, испытал и неудачи, и неблагодарность, и разочарование, и крушение иллюзий. Как, умирая, оценивал сам Невахович свою “русскую” жизнь, мы не знаем, но в России… память о нём сохраняется, точнее, оттаяла после десятилетий ледяной стужи, беспамятства и равнодушия, и эта память – признательная и благодарная: она прежде всего о самом человеке и о лучшем из того, что им сделано».
* * *
От брака с Екатериной Михельсон у Льва Неваховича было двое сыновей и дочь. Старший сын, Михаил (1817-1850), писатель и блистательный карикатурист, был родоначальником русской литературной карикатуры, издателем весьма популярных в свое время журналов «Ералаш» (1846-1849), «Волшебный фонарь» (1848) и др. Другой сын, Александр (?-1880), драматург, заведующий репертуарной частью Императорских театров, переводил водевили с французского, в 1829 году поставил «Гусмана д’Альфараша» – весёлый фарс, пользовавшийся у зрителей большим успехом, а в 1849 году – «Поэзию любви». О нём, между прочим, сохранился забавный литературный анекдот. Александр признался однажды актёру Петру Каратыгину: «У меня такая плохая память. Я так рассеян…», – «Как племя иудейское по лицу земному», – закончил фразу Каратыгин. Выйдя в отставку, младший Невахович ездил с итальянской труппой в Константинополь, но, потерпев неудачу, оставил навсегда театральное дело и переселился за границу, где и умер.
Известен также его сын, Николай Александрович (1835-1901), вице-адмирал Флота. А вот красавица-дочь Льва Неваховича, Эмилия Львовна Невахович (Мечникова) (1814-1879), была в своё время предметом недолгого увлечения самого Александра Пушкина. Её сыновьями были знаменитый ученый, лауреат Нобелевской премии Илья Ильич Мечников (1845-1916) и его братья, известный географ и социолог, а также анархист, участник освободительного движения в Италии (Рисорджиненто), сподвижник Джузеппе Гарибальди Лев Ильич Мечников (1838-1888), а также Иван Ильич Мечников (1836-1881), тульский губернский прокурор, впоследствии председатель Киевской судебной палаты. Интересно, что последний является прототипом героя повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».
Учёный еврей. Леон Мандельштам
Он был первым евреем, окончившим российский университет, издавшим сборник своих стихотворений на русском языке и ставшим первым переводчиком произведений А. С. Пушкина на иврит. Поэт Осип Мандельштам приходился ему внучатым племянником.
Этот еврейский юноша совершил беспрецедентный по тем временам поступок: он покинул отчий дом и отправился в Москву, чтобы учиться в тамошнем университете. По пути в Первопрестольную он встретил кантора, который, узнав о цели его путешествия, спросил: «Зачем вы едете? Вы могли бы быть первым в своём народе, а оставляете всё, чтобы быть последним среди ученых христиан». – «В Талмуде сказано: будь лучше последним у львов, чем первым у зайцев!» – парировал наш герой. Звали его Леон (Арье Лейб) Иосифович Мандельштам (1819-1889).
Впрочем, кантор был отнюдь не единственным в иудейской среде, у кого поступок этого молодого человека вызвал, мягко говоря, недоумение. О Леоне сокрушались, прежде всего, его домочадцы, воспринявшие сей его шаг как отступничество от еврейства. «Отец дал тебе платье, ты его переменишь, – взывал к беглецу его брат, – мать играла твоими кудрями, ты их срежешь. Ты станешь говорить языком, для нас непонятным, и будешь писать рукою, для нас незнакомою…»
Между тем, Леон происходил из семьи далеко не самой ортодоксальной. Он родился в городе Жагоры Виленской губернии, что располагался на границе с Курляндией (ныне между Литвой и Латвией). То был важный тогда торговый город на берегу реки Швети с населением в 3 тысячи человек, половина из коих была иудейского происхождения. Благоприятную почву нашли здесь идеи Гаскалы и её основоположника Мозеса Мендельсона, ярко и боевито изложенные в программе германского журнала на древнееврейском языке «Меасеф» («Собиратель»). Общий лозунг авторов сего издания – «Тора и мудрость, вера и разум», они стремились доказать совместность истинной религии и еврейского просвещения, свято веря в свой идеал.
Леон Мандельштам
Отец Леона, Иосиф (Иосель) Мандельштам (1776-?) был человеком эрудированным и весьма энергичным. Видный купец, он исколесил по торговой надобности Россию, Польшу, Германию, и хотя поднаторел в изучении Талмуда и иудейской книжности, был не чужд просветительских идей. Между тем, борьба еврейских фанатиков старины против новых веяний принимала тогда средневековый характер – «зловредные» книги они сжигали на кострах. Одно только хранение Библии в переводе Мендельсона почиталось подвигом самопожертвования; людей сживали со света, сдавали в солдаты за малейшее прегрешение против религии. Однако Леон, благодаря родителю, получил, по счастью, не только традиционное еврейское, но и общее образование, изучал иностранные языки и европейскую литературу. Вот как об этом вспоминает он сам: «Денно и нощно занимался Талмудом и в 12 лет получил эпитет “илуй” (отличный) и симптомы чахотки. Много читал, благодаря отцу и старшим братьям, из учеников Мендельсона, потом философию Маймонида, Спинозы». Он жадно поглощал знания, «как прародитель наш, библейский Авраам, вкушая сок небесного плода – просвещения». Это именно о Леоне и его единомышленниках, видевших национальные злоключения в изоляционизме и жестоковыйности, рассказал еврейский публицист: «В какой-нибудь уединённой каморке, вдали от стариков, при слабом освещении сального огарка, собирались все эти юные искатели света; здесь делились они впечатлениями прочитанного, обменивались книгами, горячо спорили о судьбах своего народа. Сколько тут созрело упований, сколько в них билось самоотверженной любви, и какой горячей верой в предстоящее обновление были переполнены их юные сердца. Никто до них и после них не заглядывал так глубоко в застарелые язвы народа; никто, даже самый лютый враг еврейства, не был проникнут, как они, горячей ненавистью к порокам и слабостям своих единоверцев; никто так нещадно не бичевал их, как они».
Мандельштам, наряду с древнееврейским, латинским, овладел также немецким и французским языками и даже пробовал свои силы в сочинительстве на сих наречиях в духе модного тогда романтического направления. Стал углублённо заниматься и русским языком. О том, как постигали в ту пору язык Пушкина и Гоголя молодые евреи из местечек, рассказывает C. Анский (Шлойме-Залман Раппопорт, 1863-1920) в повести «Пионеры» (1904-1905): «А как мы учились? Разве мы знали, с чего начать? Разве у нас были книги?! В полночь, прячась в подвалах и погребах, с риском для жизни учились мы русской грамоте. И как учились! Товарищ, умерший от чахотки, выучил наизусть русско-немецкий словарь, – русско-еврейского тогда ещё не было, и таким образом выучился по-русски. Другой товарищ выучил наизусть “Свод законов”, чтобы сразу и по-русски научился и законы узнать».
Евреи в России в XVIII веке
Впрочем, Леон освоил русский язык настолько, что по прошествии нескольких лет, хотя не всегда правильно выговаривал слова, но легко мог писать на нём не только прозу, но и стихи. При этом он проявил столь завидное владение версификацией, что мог справиться с прихотливой рифмовкой русского сонета. Из своих стихотворных опытов он составил целую рукописную книгу, которую всегда держал при себе.
Судьбоносной оказалась встреча нашего отрока с заезжим русским офицером (военные часто столовались в корчме отца), с которым они сошлись в шахматной баталии. В той партии Леон одержал победу, но он выиграл вдвойне, поскольку проигравший, под впечатлением от его интеллектуальных способностей, насказал много лестного об «образованном русском обществе», о «новом, свободном, изящном», что дало мальчику новый стимул к изучению наук. Известно, что он продвинулся в изучении логики, общей и частной риторики, математики (алгебры, геометрии, стереометрии), получил общие понятия по предмету всеобщей истории и некоторые сведения по общей и русской статистике.
Самообразование нашего героя оказалось, однако, на время прерванным из-за ранней женитьбы. Избранница шестнадцатилетнего Леона (точнее, его отца, ибо на раннем браке настоял именно Мандельштам-старший) принадлежала к совсем иной среде. В доме тестя, в еврейском местечке Кейданы (ныне г. Кедайняй) Ковенской губернии, куда после свадьбы переселился юный Леон Мандельштам, царила воинствующая ортодоксальность; занятие любыми «посторонними» предметами, такими, например, как чтение какой-либо неталмудической книги, воспринималось здесь как богохульство. Долго оставаться в этом доме Леон не мог; он вернулся под отцовский кров, а вскоре и развелся с женой, хотя у них родилась маленькая Гитель. Боль расставания с любимой дочерью он увековечит впоследствии в «Колыбельной Гители»:
Спи, малютка мой родимый,
Не знай пока, что слёзы лью,
Что, как огонь неугасимый,
Печаль снедает грудь мою;
Я всё снесу, всё утаю!..
Главное то, что Мандельштам, как ему мнилось, угадал своё призвание – стать защитником и просветителем своего народа, в большинстве своём – увы! – далёкого от европейской культуры того времени. Вот какие сокровенные чувства поверяет бумаге двадцатилетний Леон: «Так я стою теперь – дикий, сильный, свободный сын природы, любящий свое отечество и язык родимого края, но несчастный несчастием моих единоверных братьев. Я разгневан на их ожесточение, губящее их способности, но я привязан узами родства и чувства к их бедствиям. Цель моей жизни есть оправдать их перед светом и помочь им удостоиться этого оправдания». Состояние нашего героя очень верно передал литератор И. Кисин: «С одной стороны, он весь во власти чар освящённых временем традиций гетто; с другой, его манят новые миры и новые формы жизни. Он изнывает от этого вечного разлада, и душу его терзают сомнения и вопросы… Его страшит будущее, он знает, что осуждён на одиночество в чужом мире, но его влекут туда силы, которым он не может противостоять».
Жажда самых разносторонних знаний возбуждает в нём желание получить систематическое образование, что было возможным только вдали от родных пенатов, в столичном университете. Невольно вспоминается рассказ Шолом-Алейхема «Выигрышный билет», где еврейский юноша тоже покидает местечко и едет учиться в большой город. Финал рассказа, однако, трагичен: образованный еврей, дабы преуспеть, отказывается от веры предков, за что родные его проклинают и хоронят заживо. Не то Мандельштам! Он не только не изменяет своей религии, но обращает к еврейству все свои помыслы, делает заботу о соплеменниках смыслом всей жизни. Позднее, подводя итог своим трудам и дням, он скажет: «Три идеала управляли доныне моим духом и сердцем: образование, родина и моя нация!» А тогда, накануне отъезда из Жагор, он посвящает родному местечку вот какую «Прощальную думу»:
Спи, отчий дом, уж бдит твой друг,
Уж бдит твой гений над тобою;
Лишь за тебя ушёл он вдруг
В чужую даль, борясь с судьбою;
За вас пошёл он в дальний путь,
За вас открыл стрелам он грудь;
И только вы – его награда,
И честь, и слава, и отрада…
По счастью, «стрелы судьбы» пролетели мимо нашего героя: русская Фортуна к нему явно благоволила. Он приехал в Вильно, чтобы сдать экстерном экзамены за курс губернской гимназии. И не беда, что первая попытка оказалась неудачной, зато вторая дала свои плоды. Попечитель Виленского учебного округа пишет по сему поводу ректору Московского университета: «По вторичному испытанию Мандельштама совет Виленской гимназии хотя и не признал за ним сведений соответствующими полному гимназическому курсу, но нашёл их, однако же, достаточными для дозволения поступать в университет… Основываясь на этом заключении и приняв в соображение природные способности помянутого Мандельштама, составляющего необыкновенное среди единоверцев своих явление, его любовь к наукам и особенные дарования к языкам и словесности… я решился отправить его в Московский университет вольным слушателем». По приказу министра народного просвещения графа Сергея Уварова (1786-1855) Мандельштам «без дальнейшего испытания» был допущен к слушанию университетских лекций.
Не правда ли, странно: еврей показывает на экзамене не слишком блестящие познания, а чиновник, тем не менее, выдаёт ему аттестат да ещё снабжает рекомендательным письмом; сиятельный же министр немедленно зачисляет его в студенты. Как-то не вяжется такой «режим наибольшего благоприятствования» с процентной нормой приёма евреев в вузы, традиционно ассоциирующейся с царской Россией!
В дальнейшем Мандельштаму суждено будет дожить и до этих ограничительных (если не сказать, юдофобских) мер. Но тогда, в 30-40-е гг. XIX века, иудеи вовсе не рвались в университеты – они были заперты в местечках, полностью отгороженных от русской жизни, языка и культуры. А потому и образовательная политика правительства по отношению к ним была совершенно иной. Объявив Талмуд и «фанатизм» раввинов виновниками сепаратизма сего народа, власти провозгласили тогда главной своей задачей нравственное и религиозное преобразование еврейской нации, её сближение с христианским населением империи. А для этого надлежало создать сеть школ и казённых училищ, в коих наряду с иудаизмом (впрочем, модернизированным, ибо из программы всячески стремились вытеснить Талмуд, зато настоятельно рекомендовалась Библия в немецком переводе и с комментариями Мендельсона) преподавались бы предметы общеобразовательные: математика, физика, риторика, география, иностранные языки (и прежде всего, русский), отечественная история, литература и т. д.
Граф Сергей Уваров
Проводить сию реформу в жизнь и стал министр народного просвещения Сергей Уваров. Именно при нём возникло полуофициальное деление евреев на «полезных» и «бесполезных». К числу «полезных» относились «маскилим»: на них-то и делало ставку правительство Николая I. Министр Уваров, не найдя в Отечестве «русского Мендельсона», привлёк к делу просвещения немецкого еврея Макса Лилиенталя (1815-1882) и вёл переписку с иудеями Европы, чтобы выписать из-за кордона учителей для будущих еврейских школ. И можно себе представить, какой музыкой для его ушей стало неожиданное известие о появлении здесь, в Вильно, своего русского еврея, стремящегося к высшему образованию! Именным приказом он санкционирует зачисление Мандельштама в Московский, а затем и в Петербургский университеты, причём внимательно следит за его академическими успехами.
Л. И. Мандельштам. Стихотворения. М., 1841. Титульный лист.
Впрочем, соученики Леона были озадачены тем, что еврей оказался в русском учебном заведении. «“Еврей”, – следовательно, не могу иметь желание образовываться, чистого желания, без какой-то корыстной цели», – передаёт он их логику и продолжает: «Они меня спрашивают, к чему мне учиться… Я сначала не понимал этого вопроса и глупо глядел спрашивающим в глаза; потом я хотел было отвечать, что желаю сделаться поэтом, что было бы ещё глупее, но в моём недоумении я слышал другой вопрос, что, может быть, я хочу быть учителем, – и он мне служил ответом на первый вопрос». Впрочем, для Леона мотивы университетского образования были самоочевидны: он искал просвещения, знания и самосовершенствования и хотел лишь «слушать скромно и покорно, как младенец, беседы и рассказы о науках и поэзии». Он будет вновь и вновь повторять: «Если рок, лишавший меня до сих пор радости домашнего счастья, позволит мне способствовать правительству в образовании и просвещении русских евреев, я не буду жаловаться на судьбу, создавшую меня сыном этой нации».
Будучи натурой сложной, Леон совмещал в себе склонность к наукам с мечтательностью. По прибытии в Первопрестольную он вскоре дебютирует и как сочинитель: издаёт за счет неизвестного благотворителя книгу «Стихотворения Л. И. Мандельштама» (М., 1841). Это издание интересно уже тем, что является первым поэтическим сборником на русском языке, написанным еврейским автором.
Сохранилось письмо Мандельштама некоему Александру Васильевичу (не он ли спонсировал это издание?), где Леон раскрывает творческий замысел книги, её цель и читательское назначение. Он говорит здесь о несовершенстве своего творения и просит критиков указать ему на «ошибки в выражениях, в размере, в слоге» и т. д. Но исключительно важен и значим пафос этого произведения. Вот что говорит об этом сам Мандельштам: «Я смотрю на свои стихи как на перевод с еврейского, перевод мысленный и словесный…; мрачный мученический призрак духа без тела, так же, как иудаизм, вьётся по ходу моего сочинения… Вы найдёте [здесь] ту пылкую страсть, те болезненные стоны, свойственные “несчастным изгнанникам мира”».
Создатели современной «Краткой Еврейской Энциклопедии» восприняли эти слова в буквальном смысле и заключили, что стихотворения переведены с древнееврейского языка. На самом же деле Мандельштам, владевший русским вполне свободно, имел в виду совсем другое: речь шла об особом еврейском духе, коим проникнуты произведения сборника (автор так и называет их «плодами моего духа»). Он тем самым подчёркивает, что книга его – не столько достояние русской словесности, сколько часть русскоязычной еврейской культуры. В этом смысле он не мог не ощущать себя преемником писателя-еврея Льва Неваховича, автора сочинения «Вопль дщери иудейской» (1803), написанного на русском языке в защиту соплеменников. «Это [моё] сочинение, – резюмирует Мандельштам, – как редкость со стороны русского еврея, может подать повод к разным беседам о моей нации, и если б можно было одолжить моих единоверцев несколькими словами защиты и утешения!» Он гневно порицает здесь тех русских романистов и сатириков, которые стремятся «унизить евреев перед глазами света». Достаточно вспомнить карикатурное изображение иудеев в произведениях Николая Гнедича (1784-1833), Фаддея Булгарина (1789-1859), Ивана Лажечникова (1792-1869), да и Николая Гоголя (1809-1852), чтобы понять, что подобные обвинения имели под собой серьёзные основания.
Интересно, что враждебные Шаховскому «арзамасцы» – новаторы приписывали писателю-еврею более значительное участие в создании трагедии. Литератор Дмитрий Дашков (1788-1839) в язвительной памфлентной кантате «Венчанье Шутовского» иронизировал:
Еврей мой написал Дебору,
А я списал.
В моих писаньях много вздору –
Кто ж их читал?
Примечательно, что эти шутливые строки переписал в свою тетрадь шестнадцатилетний лицеист Александр Пушкин.
Трагедия «Оден, царь скифский» (1810), переведённая со шведского, была лишена литературных достоинств и повлекла за собой уничтожающий отзыв литератора Александра Измайлова, который назвал сей опус «рукодельем израильтянина Неваховича». Он писал: «От сотворения мира не было на театре такой глупой пиесы, но пиеса эта – трагедия, а трагедии очень любит наша публика». Пьеса на сцене не удержалась и была поставлена всего дважды.
В дальнейшем Невахович сосредоточился на делах, от изящной словесности весьма далёких, в коих весьма преуспел. В 1813 году он под покровительством всесильного Новосильцева переезжает в Варшаву и становится главным поставщиком продовольствия и фуража для русской армии в Польше. Ему удаётся оттеснить докучливых конкурентов и в 1816 году (при поддержке того же Новосильцева) заполучить право на управление всей табачной монополией в Царстве Польском. Дальше – больше: в его руках оказывается продажа спиртного и мяса в Варшаве, аренда кошерного дохода и т. д. С 1821 года он служит уже в Правительственной комиссии финансов в Варшаве и в награду за усердие и рвение получает ордена Св. Станислава 4-й степени и Владимира 4-й степени. Обласканный властями, Лев Николаевич становится одним из самых богатых людей царства Польского, владельцем многих домов и роскошного трёхэтажного особняка в Варшаве. Согласно архивным материалам, опубликованным историком Дмитрием Фельдманом, в доносе из Секретного архива агента Екатерины Хотяинцевой от 4 марта 1826 года, небольшая группа коммерсантов (в их числе Лев Невахович и Абрам Перетц) за несколько последних лет нажили в Варшавском герцогстве 100 млн. рублей. И хотя в деловых кругах Лев Николаевич снискал себе репутацию надёжного партнера и умелого организатора, мелкие торговцы и шляхта почитали его плутократом, разоряющим страну. Неудивительно поэтому, что в первый же день Польского восстания 29 ноября 1830 года мятежная чернь разгромила дом Неваховича в Варшаве. Но хозяин, по счастью, не пострадал – бежал за полтора месяца до сего события, прихватив с собой деньги и драгоценности. Своим детям он оставит потом весьма крупное состояние, назначив своим душеприказчиком друга юности Перетца.
Израильский исследователь Михаил Вайскопф утверждает, что «художественная фантазия на тему откупщика Лейба Неваховича, выкрестившегося во Льва Николаевича» представлена в повести Рафаила Зотова «Приезд вице-губернатора» (1839): «Ах, боже мой! Да этот жид здесь? Теперь я вспомнил о нём. Он везде вертелся по передним… Его звали Лайбою, но он, кажется, перекрестился и ходит во фраке… Он у вас там понажился у откупов, записался в гильдию и стал уже чиновником. Он уже, брат, канцелярист, почти офицер». И хотя персонаж повести действительно аттестует себя Львом и действует на пару со своей женой, есть основания усомниться в направленности филиппики Зотова: ведь повесть была написана спустя восемь лет после смерти Неваховича, и, понятно, в этих условиях сей конкретный адресат совершенно терял свою актуальность.
Так или иначе, но, реализовав себе вполне в сферах карьеры и благосостояния, Лев Николаевич как будто успокаивается на этом и пописывает лишь от случая к случаю. Прошла пора читательского и зрительского успеха, и приходится признать: некогда талантливый писатель растерял и прежнюю свою мастеровитость, и литературный дар. Поздние опыты Неваховича заслуживают лишь упоминания. В 1817 году в журнале «Сын Отечества» (№ 30-31) появляется его перевод «Речи о просвещении» Томаса Фридриха фон Рейнбота (1750-1813); в 1823 году – пьеса на восточную тему «Абу-Хассан, или Прожектёр» (на польском языке); она шла в Варшаве, но на сцене не удержалась. В 1829 году Невахович издаёт перевод первых пяти книг «Мыслей, относящихся к философической истории человечества» Иоганна Готфрида Гердера (1744-1803). Перевод был подвергнут сокрушительной критике в журнале «Московский телеграф» (1829, № 17). В 1832 году, уже посмертно, в Императорском театре, было поставлено его «историческое представление» «Меч провидения, или Надир Тахмас Кули Хан», но и оно прошло незамеченным.
Впрочем, Невахович остаётся верен своей дружбе с Абрамом Перетцем, которую пронёс через всю жизнь. Они непрерывно поддерживали самые тесные отношения: известно, что в бытность в северной столице Невахович часто останавливался в его доме.
Не забывает преуспевший Невахович и о своих национальных корнях. Более того, сохраняет тесные связи с еврейской элитой, печётся о благе соплеменников. В 1829 году он подаёт императору Николаю I сочинённый им «Проект о благоустройстве расстроенного положения народа еврейского до миллиона людей обоего пола, в России обращающегося…», в коем предлагает постепенный план необходимых реформ.
А 17 марта 1831 года он сочинил и свой дипломный герб, который зафиксирован в Ч. 10 «Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, не внесённых в Общий Гербовник». И по его настоянию художник-геральдист изобразил в верхней части герба Неваховичей золотую шестиконечную звезду. Это, пожалуй, единственный пример магендовида в дворянской геральдике России! А это означает, что для Льва Николаевича его патент на благородство был никак не мыслим без возлюбленного им еврейского символа.
Значение Неваховича в истории культуры никак не умаляет тот факт, что его сочинение не нашло, да и не могло найти тогда отзвук в широкой еврейской среде, как и «Стиховорения» (1841) Леона Мандельштама и «Мысли Израильтянина» (1846) Абрама Соломонова, о чём мы ещё расскажем. Ведь, как отметил израильский литературовед Шимон Маркиш, «полстолетия, по меньшей мере, ещё два маскильских поколения, потребовалось, чтобы возник хоть какой-то круг читателей, приобщившихся к русскому языку». Тем не менее, названные книги обладают непреходящей ценностью, ибо их авторы доносили до россиян еврейские чаянья, еврейский взгляд, еврейский образ мыслей. Невахович выступил здесь пламенным правозащитником; Мандельштам, по его словам, отобразил в книге «еврейский дух»; Соломонов, истый маскил, грезил о том, чтобы «познакомить своих единоверцев с русским языком и заохотить их к постоянному его употреблению». Грёзы эти станут явью позднее, когда в результате коренной реформы еврейского образования, предпринятого при Николае I, в империи появятся уже тысячи книгочеев, понимающих язык Пушкина и Гоголя. Да и сам термин «русский еврей», по словам американского историка Бенджамена Натанса, стал распространённым только в 1860-е годы. Первым, кто привлечёт острое внимание таких евреев, будет писатель Осип Абрамович (1817-1869); он дебютирует в печати в 1847 году, станет редактором первого русско-еврейского журнала «Рассвет» (Одесса, 1860-1861) и получит статус пионера русско-еврейской литературы. Но это нисколько не умаляет заслуг Неваховича. Это он стоял у истоков еврейской русскоязычной литературы, всемерно приближал её появление.
1 августа 1831 года Льва Николаевича не стало. Он похоронен на Лютеранском (Волковом) кладбище в Петербурге. На надгробном монументе выгравирована надпись: «Там обители, миры, пространства – они блистают в полной юности, после истечения тысящелетий; перемена времён не лишает их лучезарного света. Здесь же под вашими взорами всё истлевает, время угрожает разрушением земному великолепию и земному щастию… Из трудов покойного».
Очень выразительно и проникновенно говорит о жизни Неваховича культуролог Владимир Топоров: «Он вкусил и немало горечи, испытал и неудачи, и неблагодарность, и разочарование, и крушение иллюзий. Как, умирая, оценивал сам Невахович свою “русскую” жизнь, мы не знаем, но в России… память о нём сохраняется, точнее, оттаяла после десятилетий ледяной стужи, беспамятства и равнодушия, и эта память – признательная и благодарная: она прежде всего о самом человеке и о лучшем из того, что им сделано».
* * *
От брака с Екатериной Михельсон у Льва Неваховича было двое сыновей и дочь. Старший сын, Михаил (1817-1850), писатель и блистательный карикатурист, был родоначальником русской литературной карикатуры, издателем весьма популярных в свое время журналов «Ералаш» (1846-1849), «Волшебный фонарь» (1848) и др. Другой сын, Александр (?-1880), драматург, заведующий репертуарной частью Императорских театров, переводил водевили с французского, в 1829 году поставил «Гусмана д’Альфараша» – весёлый фарс, пользовавшийся у зрителей большим успехом, а в 1849 году – «Поэзию любви». О нём, между прочим, сохранился забавный литературный анекдот. Александр признался однажды актёру Петру Каратыгину: «У меня такая плохая память. Я так рассеян…», – «Как племя иудейское по лицу земному», – закончил фразу Каратыгин. Выйдя в отставку, младший Невахович ездил с итальянской труппой в Константинополь, но, потерпев неудачу, оставил навсегда театральное дело и переселился за границу, где и умер.
Известен также его сын, Николай Александрович (1835-1901), вице-адмирал Флота. А вот красавица-дочь Льва Неваховича, Эмилия Львовна Невахович (Мечникова) (1814-1879), была в своё время предметом недолгого увлечения самого Александра Пушкина. Её сыновьями были знаменитый ученый, лауреат Нобелевской премии Илья Ильич Мечников (1845-1916) и его братья, известный географ и социолог, а также анархист, участник освободительного движения в Италии (Рисорджиненто), сподвижник Джузеппе Гарибальди Лев Ильич Мечников (1838-1888), а также Иван Ильич Мечников (1836-1881), тульский губернский прокурор, впоследствии председатель Киевской судебной палаты. Интересно, что последний является прототипом героя повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».
Учёный еврей. Леон Мандельштам
Он был первым евреем, окончившим российский университет, издавшим сборник своих стихотворений на русском языке и ставшим первым переводчиком произведений А. С. Пушкина на иврит. Поэт Осип Мандельштам приходился ему внучатым племянником.
Этот еврейский юноша совершил беспрецедентный по тем временам поступок: он покинул отчий дом и отправился в Москву, чтобы учиться в тамошнем университете. По пути в Первопрестольную он встретил кантора, который, узнав о цели его путешествия, спросил: «Зачем вы едете? Вы могли бы быть первым в своём народе, а оставляете всё, чтобы быть последним среди ученых христиан». – «В Талмуде сказано: будь лучше последним у львов, чем первым у зайцев!» – парировал наш герой. Звали его Леон (Арье Лейб) Иосифович Мандельштам (1819-1889).
Впрочем, кантор был отнюдь не единственным в иудейской среде, у кого поступок этого молодого человека вызвал, мягко говоря, недоумение. О Леоне сокрушались, прежде всего, его домочадцы, воспринявшие сей его шаг как отступничество от еврейства. «Отец дал тебе платье, ты его переменишь, – взывал к беглецу его брат, – мать играла твоими кудрями, ты их срежешь. Ты станешь говорить языком, для нас непонятным, и будешь писать рукою, для нас незнакомою…»
Между тем, Леон происходил из семьи далеко не самой ортодоксальной. Он родился в городе Жагоры Виленской губернии, что располагался на границе с Курляндией (ныне между Литвой и Латвией). То был важный тогда торговый город на берегу реки Швети с населением в 3 тысячи человек, половина из коих была иудейского происхождения. Благоприятную почву нашли здесь идеи Гаскалы и её основоположника Мозеса Мендельсона, ярко и боевито изложенные в программе германского журнала на древнееврейском языке «Меасеф» («Собиратель»). Общий лозунг авторов сего издания – «Тора и мудрость, вера и разум», они стремились доказать совместность истинной религии и еврейского просвещения, свято веря в свой идеал.
Леон Мандельштам
Отец Леона, Иосиф (Иосель) Мандельштам (1776-?) был человеком эрудированным и весьма энергичным. Видный купец, он исколесил по торговой надобности Россию, Польшу, Германию, и хотя поднаторел в изучении Талмуда и иудейской книжности, был не чужд просветительских идей. Между тем, борьба еврейских фанатиков старины против новых веяний принимала тогда средневековый характер – «зловредные» книги они сжигали на кострах. Одно только хранение Библии в переводе Мендельсона почиталось подвигом самопожертвования; людей сживали со света, сдавали в солдаты за малейшее прегрешение против религии. Однако Леон, благодаря родителю, получил, по счастью, не только традиционное еврейское, но и общее образование, изучал иностранные языки и европейскую литературу. Вот как об этом вспоминает он сам: «Денно и нощно занимался Талмудом и в 12 лет получил эпитет “илуй” (отличный) и симптомы чахотки. Много читал, благодаря отцу и старшим братьям, из учеников Мендельсона, потом философию Маймонида, Спинозы». Он жадно поглощал знания, «как прародитель наш, библейский Авраам, вкушая сок небесного плода – просвещения». Это именно о Леоне и его единомышленниках, видевших национальные злоключения в изоляционизме и жестоковыйности, рассказал еврейский публицист: «В какой-нибудь уединённой каморке, вдали от стариков, при слабом освещении сального огарка, собирались все эти юные искатели света; здесь делились они впечатлениями прочитанного, обменивались книгами, горячо спорили о судьбах своего народа. Сколько тут созрело упований, сколько в них билось самоотверженной любви, и какой горячей верой в предстоящее обновление были переполнены их юные сердца. Никто до них и после них не заглядывал так глубоко в застарелые язвы народа; никто, даже самый лютый враг еврейства, не был проникнут, как они, горячей ненавистью к порокам и слабостям своих единоверцев; никто так нещадно не бичевал их, как они».
Мандельштам, наряду с древнееврейским, латинским, овладел также немецким и французским языками и даже пробовал свои силы в сочинительстве на сих наречиях в духе модного тогда романтического направления. Стал углублённо заниматься и русским языком. О том, как постигали в ту пору язык Пушкина и Гоголя молодые евреи из местечек, рассказывает C. Анский (Шлойме-Залман Раппопорт, 1863-1920) в повести «Пионеры» (1904-1905): «А как мы учились? Разве мы знали, с чего начать? Разве у нас были книги?! В полночь, прячась в подвалах и погребах, с риском для жизни учились мы русской грамоте. И как учились! Товарищ, умерший от чахотки, выучил наизусть русско-немецкий словарь, – русско-еврейского тогда ещё не было, и таким образом выучился по-русски. Другой товарищ выучил наизусть “Свод законов”, чтобы сразу и по-русски научился и законы узнать».
Евреи в России в XVIII веке
Впрочем, Леон освоил русский язык настолько, что по прошествии нескольких лет, хотя не всегда правильно выговаривал слова, но легко мог писать на нём не только прозу, но и стихи. При этом он проявил столь завидное владение версификацией, что мог справиться с прихотливой рифмовкой русского сонета. Из своих стихотворных опытов он составил целую рукописную книгу, которую всегда держал при себе.
Судьбоносной оказалась встреча нашего отрока с заезжим русским офицером (военные часто столовались в корчме отца), с которым они сошлись в шахматной баталии. В той партии Леон одержал победу, но он выиграл вдвойне, поскольку проигравший, под впечатлением от его интеллектуальных способностей, насказал много лестного об «образованном русском обществе», о «новом, свободном, изящном», что дало мальчику новый стимул к изучению наук. Известно, что он продвинулся в изучении логики, общей и частной риторики, математики (алгебры, геометрии, стереометрии), получил общие понятия по предмету всеобщей истории и некоторые сведения по общей и русской статистике.
Самообразование нашего героя оказалось, однако, на время прерванным из-за ранней женитьбы. Избранница шестнадцатилетнего Леона (точнее, его отца, ибо на раннем браке настоял именно Мандельштам-старший) принадлежала к совсем иной среде. В доме тестя, в еврейском местечке Кейданы (ныне г. Кедайняй) Ковенской губернии, куда после свадьбы переселился юный Леон Мандельштам, царила воинствующая ортодоксальность; занятие любыми «посторонними» предметами, такими, например, как чтение какой-либо неталмудической книги, воспринималось здесь как богохульство. Долго оставаться в этом доме Леон не мог; он вернулся под отцовский кров, а вскоре и развелся с женой, хотя у них родилась маленькая Гитель. Боль расставания с любимой дочерью он увековечит впоследствии в «Колыбельной Гители»:
Спи, малютка мой родимый,
Не знай пока, что слёзы лью,
Что, как огонь неугасимый,
Печаль снедает грудь мою;
Я всё снесу, всё утаю!..
Главное то, что Мандельштам, как ему мнилось, угадал своё призвание – стать защитником и просветителем своего народа, в большинстве своём – увы! – далёкого от европейской культуры того времени. Вот какие сокровенные чувства поверяет бумаге двадцатилетний Леон: «Так я стою теперь – дикий, сильный, свободный сын природы, любящий свое отечество и язык родимого края, но несчастный несчастием моих единоверных братьев. Я разгневан на их ожесточение, губящее их способности, но я привязан узами родства и чувства к их бедствиям. Цель моей жизни есть оправдать их перед светом и помочь им удостоиться этого оправдания». Состояние нашего героя очень верно передал литератор И. Кисин: «С одной стороны, он весь во власти чар освящённых временем традиций гетто; с другой, его манят новые миры и новые формы жизни. Он изнывает от этого вечного разлада, и душу его терзают сомнения и вопросы… Его страшит будущее, он знает, что осуждён на одиночество в чужом мире, но его влекут туда силы, которым он не может противостоять».
Жажда самых разносторонних знаний возбуждает в нём желание получить систематическое образование, что было возможным только вдали от родных пенатов, в столичном университете. Невольно вспоминается рассказ Шолом-Алейхема «Выигрышный билет», где еврейский юноша тоже покидает местечко и едет учиться в большой город. Финал рассказа, однако, трагичен: образованный еврей, дабы преуспеть, отказывается от веры предков, за что родные его проклинают и хоронят заживо. Не то Мандельштам! Он не только не изменяет своей религии, но обращает к еврейству все свои помыслы, делает заботу о соплеменниках смыслом всей жизни. Позднее, подводя итог своим трудам и дням, он скажет: «Три идеала управляли доныне моим духом и сердцем: образование, родина и моя нация!» А тогда, накануне отъезда из Жагор, он посвящает родному местечку вот какую «Прощальную думу»:
Спи, отчий дом, уж бдит твой друг,
Уж бдит твой гений над тобою;
Лишь за тебя ушёл он вдруг
В чужую даль, борясь с судьбою;
За вас пошёл он в дальний путь,
За вас открыл стрелам он грудь;
И только вы – его награда,
И честь, и слава, и отрада…
По счастью, «стрелы судьбы» пролетели мимо нашего героя: русская Фортуна к нему явно благоволила. Он приехал в Вильно, чтобы сдать экстерном экзамены за курс губернской гимназии. И не беда, что первая попытка оказалась неудачной, зато вторая дала свои плоды. Попечитель Виленского учебного округа пишет по сему поводу ректору Московского университета: «По вторичному испытанию Мандельштама совет Виленской гимназии хотя и не признал за ним сведений соответствующими полному гимназическому курсу, но нашёл их, однако же, достаточными для дозволения поступать в университет… Основываясь на этом заключении и приняв в соображение природные способности помянутого Мандельштама, составляющего необыкновенное среди единоверцев своих явление, его любовь к наукам и особенные дарования к языкам и словесности… я решился отправить его в Московский университет вольным слушателем». По приказу министра народного просвещения графа Сергея Уварова (1786-1855) Мандельштам «без дальнейшего испытания» был допущен к слушанию университетских лекций.
Не правда ли, странно: еврей показывает на экзамене не слишком блестящие познания, а чиновник, тем не менее, выдаёт ему аттестат да ещё снабжает рекомендательным письмом; сиятельный же министр немедленно зачисляет его в студенты. Как-то не вяжется такой «режим наибольшего благоприятствования» с процентной нормой приёма евреев в вузы, традиционно ассоциирующейся с царской Россией!
В дальнейшем Мандельштаму суждено будет дожить и до этих ограничительных (если не сказать, юдофобских) мер. Но тогда, в 30-40-е гг. XIX века, иудеи вовсе не рвались в университеты – они были заперты в местечках, полностью отгороженных от русской жизни, языка и культуры. А потому и образовательная политика правительства по отношению к ним была совершенно иной. Объявив Талмуд и «фанатизм» раввинов виновниками сепаратизма сего народа, власти провозгласили тогда главной своей задачей нравственное и религиозное преобразование еврейской нации, её сближение с христианским населением империи. А для этого надлежало создать сеть школ и казённых училищ, в коих наряду с иудаизмом (впрочем, модернизированным, ибо из программы всячески стремились вытеснить Талмуд, зато настоятельно рекомендовалась Библия в немецком переводе и с комментариями Мендельсона) преподавались бы предметы общеобразовательные: математика, физика, риторика, география, иностранные языки (и прежде всего, русский), отечественная история, литература и т. д.
Граф Сергей Уваров
Проводить сию реформу в жизнь и стал министр народного просвещения Сергей Уваров. Именно при нём возникло полуофициальное деление евреев на «полезных» и «бесполезных». К числу «полезных» относились «маскилим»: на них-то и делало ставку правительство Николая I. Министр Уваров, не найдя в Отечестве «русского Мендельсона», привлёк к делу просвещения немецкого еврея Макса Лилиенталя (1815-1882) и вёл переписку с иудеями Европы, чтобы выписать из-за кордона учителей для будущих еврейских школ. И можно себе представить, какой музыкой для его ушей стало неожиданное известие о появлении здесь, в Вильно, своего русского еврея, стремящегося к высшему образованию! Именным приказом он санкционирует зачисление Мандельштама в Московский, а затем и в Петербургский университеты, причём внимательно следит за его академическими успехами.
Л. И. Мандельштам. Стихотворения. М., 1841. Титульный лист.
Впрочем, соученики Леона были озадачены тем, что еврей оказался в русском учебном заведении. «“Еврей”, – следовательно, не могу иметь желание образовываться, чистого желания, без какой-то корыстной цели», – передаёт он их логику и продолжает: «Они меня спрашивают, к чему мне учиться… Я сначала не понимал этого вопроса и глупо глядел спрашивающим в глаза; потом я хотел было отвечать, что желаю сделаться поэтом, что было бы ещё глупее, но в моём недоумении я слышал другой вопрос, что, может быть, я хочу быть учителем, – и он мне служил ответом на первый вопрос». Впрочем, для Леона мотивы университетского образования были самоочевидны: он искал просвещения, знания и самосовершенствования и хотел лишь «слушать скромно и покорно, как младенец, беседы и рассказы о науках и поэзии». Он будет вновь и вновь повторять: «Если рок, лишавший меня до сих пор радости домашнего счастья, позволит мне способствовать правительству в образовании и просвещении русских евреев, я не буду жаловаться на судьбу, создавшую меня сыном этой нации».
Будучи натурой сложной, Леон совмещал в себе склонность к наукам с мечтательностью. По прибытии в Первопрестольную он вскоре дебютирует и как сочинитель: издаёт за счет неизвестного благотворителя книгу «Стихотворения Л. И. Мандельштама» (М., 1841). Это издание интересно уже тем, что является первым поэтическим сборником на русском языке, написанным еврейским автором.
Сохранилось письмо Мандельштама некоему Александру Васильевичу (не он ли спонсировал это издание?), где Леон раскрывает творческий замысел книги, её цель и читательское назначение. Он говорит здесь о несовершенстве своего творения и просит критиков указать ему на «ошибки в выражениях, в размере, в слоге» и т. д. Но исключительно важен и значим пафос этого произведения. Вот что говорит об этом сам Мандельштам: «Я смотрю на свои стихи как на перевод с еврейского, перевод мысленный и словесный…; мрачный мученический призрак духа без тела, так же, как иудаизм, вьётся по ходу моего сочинения… Вы найдёте [здесь] ту пылкую страсть, те болезненные стоны, свойственные “несчастным изгнанникам мира”».
Создатели современной «Краткой Еврейской Энциклопедии» восприняли эти слова в буквальном смысле и заключили, что стихотворения переведены с древнееврейского языка. На самом же деле Мандельштам, владевший русским вполне свободно, имел в виду совсем другое: речь шла об особом еврейском духе, коим проникнуты произведения сборника (автор так и называет их «плодами моего духа»). Он тем самым подчёркивает, что книга его – не столько достояние русской словесности, сколько часть русскоязычной еврейской культуры. В этом смысле он не мог не ощущать себя преемником писателя-еврея Льва Неваховича, автора сочинения «Вопль дщери иудейской» (1803), написанного на русском языке в защиту соплеменников. «Это [моё] сочинение, – резюмирует Мандельштам, – как редкость со стороны русского еврея, может подать повод к разным беседам о моей нации, и если б можно было одолжить моих единоверцев несколькими словами защиты и утешения!» Он гневно порицает здесь тех русских романистов и сатириков, которые стремятся «унизить евреев перед глазами света». Достаточно вспомнить карикатурное изображение иудеев в произведениях Николая Гнедича (1784-1833), Фаддея Булгарина (1789-1859), Ивана Лажечникова (1792-1869), да и Николая Гоголя (1809-1852), чтобы понять, что подобные обвинения имели под собой серьёзные основания.