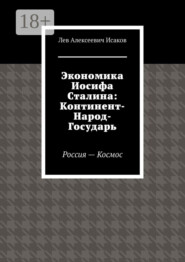По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русская война: Утерянные и Потаённые
Автор
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Занимаясь Валерианом Зубовым и по необходимости полноты его биографии всем этим стремительно взлетевшим и так же невесомо рассыпавшимся семейством; обнаруживая и предвзятость, и умолчания, и домыслы и нагромождения всякого рода, и оттого уже настороженный; я не мог пройти мимо крупнейшего события их общесемейной истории – родового участия в уничтожении императора Павла I; события самого по себе крайне выразительного, по-русски зверского., с массой оттенков: чуть ли не последний «переворот», едва ли не «первая революция»; кажется, первое несомненно политическое, не любострастное, движение русского дворянства, где царедворцев начинают теснить «мечтатели», но еще крепкой, цепкой, когтистой лапы Орловых – Ермоловы, Тутолмины, Яшвили, в каждом пальце которых больше энергии, чем во всей «северной управе» Рылеевых – Муравьевых.
Настораживает уже странное распределение воздаяний по содеянному: «убийцы» Беннигсен, Скарятин, Талызин – «злодеи» Зубовы, Пален…; все так прописано – у А. Пескова в ЖЗЛ[1 - А. Песков. Павел I.] с точностью до четверти часа на протяжении двух суток перед убийством, а события ночи во внутренних покоях Михайловского замка и с точностью до минут – и… странные обломы и зияния.
В заговоре «согласно» участвуют все три «великих» Зубова: великий любовник, великий воин, великий пьяница (Платон, Валериан, Николай), но постоянно упоминая Валериана, никто не видит его достоверно присутствующим в собраниях лиц, его скорее «слышно».
Странно, что эти лица, первенствующие на закате предыдущего царствования, едва ли не по милости которых состоялось само восхождение на престол Павла I – ведь манифест об объявлении его сумасшедшим вроде был подписан, хранился у Безбородко – но не канцлер, а обершталмейстер (и он же и зять армейского идола, командующего крупнейшей армией, фельдмаршала А. В. Суворова) Николай Зубов извещает цесаревича об ударе, случившемся с Екатериной и открывая процесс легетимизации нового императора; и те награждения Зубовых, что сделаны Павлом по началу царствования прямо свидетельствуют, что шаткость своего положения он осознавал. Только опала Суворова, уже неопалимого в историческом сознании знаменует начало необратимого разрыва – но это уже последние считанные месяцы, крушения Зубовых еще не состоялось; даже упавшая комета тянет за собой длинный блестящий шлейф: Зубовы еще не сошли с языков, были несметно богаты; Платон – делен, Валериан – славен, Николай, прошедший весь Итальянский и Швейцарский поход с Великим Тестем и Великим князем – известен, и отчасти популярен по некрасивой, с привкусом животности, но несомненной храбрости. И вдруг полное подчинение немчишке Палену, прохвосту, про которого согласно утверждают, что оступись заговорщики с Павлом, он бы не оступился их всех переарестовать; и передача всей практической части Беннигсену, боевому кавалерийскому генералу, но… завербованному в состав заговора за пару дней до того, в приватном разговоре посередь улицы сослуживцем Паленом и ввечеру, уже за шампанским, князем Платоном… Вербовка изумительно простая и вызвавшая от вербуемого лишь один вопрос:
– Кто стоит во главе всего дела?
Ответ нерасслышим, а Беннигсен с этого момента становится неутомим, что возможно и естественно для военного человека: и возведен в вице-убийцы и заместителем Палена, что как-то странно, и преждевременно, и непочтенно для Зубовых, если все же Пален и есть глава дела – и понятно, и естественно, если Пален только важный винтик, непосредственная боевая часть оружия, пронзающая тело, не более; и уже сам, по узкопрактической мерке подбирающий себе сотрудников, твердых и старательных.
Право, даже фанфаронада Орловых обставлена большими конспирациями и предосторожностью; даже эти гвардейские мальчишки внимательнее приглядывались, ощупывали, вызнавали своих конфидентов; более страшились за свои унтер-, и штаб-офицерские жизни, нежели тут, графы и полные генералы, вельможи и сановники, вышедшие и давно вышедшие из дней залетных и бедности безысходной. Что было терять Григорию Орлову, кроме буйной головы, которая все равно слетит как только станет известна его головокружительная связь с самоё императрицей – политическое развитие Елизаветинского «романа с гвардией» слишком памятно, чтобы его терпеть… – и вдруг генерал-фельдцехмейстер, генерал-поручик и обер-шталмейстер в княжеском и графских титулах идут в подручные к простой «службе» Палену – ну уж, было бы за что… подручникам первого куска не дают.
Как-то странно это, и запоминается…
Но вот просматривая записки и воспоминания деятелей 18 века встречаю я выдержки из мемуаров генерала А. Ф. Ланжерона, лица заметного, но достаточно сложного, поднявшегося высоко, но кажется полагавшего это недостаточным; полудруга-полузавистника М. И. Кутузова, с которым тот тем не менее находился в длительнейшей и доверительной переписке; люди такого рода весьма внимательны к разносящимся слухам, особенно если они касаются заметных особ, и знают по положению много, правда, зачастую греша еще большими предположениями; но тем более драгоценны их недоумения, которые как бы уже и через них.
Будучи проездом в Лифляндии, Ланжерон посещает опально проживающего в своем имении Палена и толи выпытывает, толи тот сам разговорился о подробностях страшной ночи с 11 на 12 марта 1801 года – что он рассказал Ланжерону, вы перечитаете на 500 страницах у А. Пескова, дополнившего Паленовскую версию эффектными вставками из воспоминаний других лиц – но любопытна реакция Ланжерона: на самом драматическом месте рассказа, поведение заговорщиков в спальне Павла, когда Демонический Баннигсен, ощупав пустую кровать и найдя, что она теплая, приказал искать императора; как хладнокровно требовал его отречения; как бросил слова:
– Яичница разбита – надо ее съесть!.. И выйдя из спальни, стал рассматривать картины на стенах кабинета, в то время как из дверей неслись страшные крики забиваемого насмерть четырьмя десятками офицеров императора…
Тут, вместо того чтобы всплакнуть и перекреститься А. Ф. Ланжерон пришел в недоумение и впоследствии вылил его в большой пассаж о странностях человеческой натуры, когда мягкий, семейственный Беннигсен, снисходительный к самым распущенным офицерам своих командований; на неделю терявший расположение духа, коли доведется приговорить солдата к расстрелу или повешению за мародерство – мог явиться таким извергом… Беннигсена, танцора и волокиту, улыбчивого ганноверского немчика, не отъявленного пруссака, он знал и до 1801 года, и после 1801 года и так и не пришел ни к каким выводам о странностях его натуры… В отечественной военной истории Леонтий Беннигсен означился как смелый офицер и нерешительный военачальник с перепадами настроения от робости, помешавшей ему разгромить Наполеона у Прейсиш-Эйлау до залихватской самонадеянности, приведшей к поражению у Фридланда, т. е. в объективно военных рамках без должной устойчивости характера, вопреки тому, что он будто бы явил в 1801 году; Ф. Энгельс, характеризуя его как генерала, ставил не выше храброго командира кавалерийского авангарда – Д. Давыдов более живописует его заботливость о подчиненных и соболезнования потерям… надо признать, он изрядно подраспустил войска, и не только Багратион, Барклай-де-Толли, Платов, но даже рядовые энергичные обер-офицеры Кульнев, Ермолов, Кутайсов зачастую вели у него «собственную войну»…
Любопытно выглядит вся структура заговора:
– Пален, проявляя сатанинскую хитрость, добивается возвращения на службу всех отставленных офицеров с представлением императору; они заполняют Петербург, их не принимают, они волнуются – Пален прямо на улицах вербует крикунов, или задерживает на заставах опасных лиц, как Аракчеев и Линденер;
– Но окончательно вводятся в дело принятые уже в доме П. Зубова и тот же Беннигсен потому ли допущен в заговор, что давнишний сослуживец Палена, или как кавалерийский начальник, отличившийся и отмеченный в Персидском походе Валерианом Зубовым?
Громадное дело, только на непосредственное убийство императора собрано до сотни офицеров, кроме того, что изготовляются полки гвардии, сговариваются вельможи, и прошедшее мимо полиции, доносчиков, болтунов, шептунов – и едва не провалившееся потому, что Пален носит списки заговорщиков в кармане мундира и Павел вдруг полез туда за платком? – Многократно описана находчивость Палена, отговорившего императора рассыпанным нюхательным табаком, которого тот не переносил.
А и достань Павел бумажки с какими-то фамилиями, по большей части незначительных лиц из кармана военного генерала-губернатора, начальника столичной полиции, коменданта Петропавловской крепости – на них что, так и было надписано «Список злоумышляющих на особу государя-императора и соединившихся в заговор»? А не более ли неестественно было отсутствие у губернатора, коменданта, обер-полицмейстера, надзирающего за деятельностью десятков лиц, таких списков?
Вообще это место меня прямо-таки восхищает своей залихватской импровизацией армейского враля – ведь кроме Палена никто его и не мог поведать рассиропившемуся обществу, петербургскому или рижскому. Не естественней ли предположить, что при таком огромном характере дела и размахе его организации никаких списков не было и это уже последующая эскапада в возвышение собственной ли роли, в затенение ли других.
Знаете, вот в этом месте, в рамках психологии, сопоставления масштабов личности содеянному начало для меня выворачиваться все это дело изнанкой. Мог ли? Стал ли? Должен ли? – в качестве громадного демона-Мефистофеля, приведшего в ход пружины огромного политического механизма, соединивший столь разные потоки: тщеславие вельмож, уязвленность политиков, ярость офицерства, революционные романсеро нарастающих Мирабо – играться этим эпизодом, даже если бы он состоялся, глава дела: он скорее стыдился и таил его, как возмутительную оплошность, нежели носился. Убийство Павла I совершил изощренный волк-политик, – играться со списком мог только актеришка, позволенный к тому. Пален, преуспевший в своих личинах; «заговорщик-маккиавеллист», одним щелчком сброшенный на обочину, как только стал надоедлив; «великий полководец Павла I», но сразу же разгромленный в 1812 году и отставленный от командования, отнюдь даже не Беннигсен – исторически ничем не означенный, кроме как интриган. Есть великие мастера интриги, как Мазарини, как Остерман, но они никогда не открывали своих тайн, не обращали их в анекдоты, а прятали, даже неумеренно, впрок, как средство утаивания собственной значимости; здесь налицо играющаяся мелкотня, восхищенная тем, что допустили на такую сцену: недомерок-император играющийся в великана-прадеда, мелкотравчатый барончик, разыгрывающий Тюренна пополам с Ришелье. Нет, я не отрицаю живости характера, энергии – в конце концов актерское ремесло не самое легкое – но не более чем в изображении дела, не в самом деле.
Между тем оно было куда как весомо, оно стягивало Петербург в общеевропейский невралгический пункт, в нем присутствовали анонимно Питт и Наполеон, Екатерининское наследие и возникавшие реалии европейской политики; оно было так серьезно обставлено, что его не разглядел проникновеннейший зрак глубоководной рыбы М И. Кутузова, в эти дни бывшего в Петербурге и не почувствовавшего угрозы; или не допустившего проявиться этому чувству… – нет, дело было собрано слишком хорошо для кавалерийских импровизаций; их слишком много… кажется налицо один заговор Палена против Павла, только он и говорит: – Я! Я! Я! – но удачное убийство русского императора всегда громадное дело; и мощнейшей политической организации «народовольцев» удалось это осуществить с седьмой попытки, а там вершили ой какие серьезные, молчаливые молодые люди. Между тем убийство Павла I на десятилетия изменило русскую политику, связало ее одним европейским ориентиром, обратило к одной стороне империи – уже поэтому оно не было импровизацией; и в это политическое закулисье Пален не входил и не допускался – и о чем сговаривалась графиня О. Жеребцова (в девичестве Зубова) с английским послом-любовником?… Зубовы знали!
Они тот предельный граничный пункт, доступный обозрению, к которому сходятся все видимые связи заговорщиков, и за которым начинают шевелиться – проступать другие, невидимые: из английского посольства, из гвардейских казарм, из дворцовых покоев, отсюда выйдут два отряда цареубийц; Платон Зубов будет вести переговоры с Павлом об отречении – Николай Зубов нанесет первый удар императору; Платон Зубов будет при Александре I в минуты ожидания подхода гвардейских полков – Николай Зубов прогонит караул, попытавшийся войти в замок; Платон остановит императрицу, прорывавшуюся в спальню…
Платон и Николай будут сопровождать Александра I при обходе присягающих полков гвардии и уедут с ним навсегда из Михайловского замка в открытой коляске, один рядом, – другой на запятках…
Невероятная активность и еще более невероятное постоянное Второе Место…
Правда, меня пока более интересуют перемещения Валериана, тут статья особая: Платон – юго-западное и западное направление русской политики, потемкинские традиции, их продолжение вплоть до 1853 года; ему и Николаю легко и просто установить ходы с англичанами через красавицу-сестру, они участники антифранцузского, противореволюционного окружения Великой, под знаменами Суворова воюющие в Европе с трехцветной заразой; но вот Валериан с загадочным крючком Персидского похода, так зацепившего Англию, и теперь возобновляемого в сумасбродном походе Платова – но в ином направлении, по следам-костям Бековича-Черкасского; куда пойдут Перовский и прочие – ему и англичанам сговориться трудно…
А и был ли сговор – присутствовал ли Валериан в событиях 11–12 марта? Каждый второй из конфидентов ссылается на его участие в «деле», но никто его не видит, лично не разговаривает, он то «вышел», то «не подошел», то его «только что видели».
Ну да бог с ними, не всякий будет правдив в опасном деле, отнюдь не все участники заговора расплодились записочками и подхваченными разговорцами в александровские и особенно николаевские времена, косо посматривавшего на комплоты и заговоры – но вот другое, на общем собрании конфидентов вечером 11 в доме Палена, где тем не менее распоряжает всем Платон Зубов, откуда уже отрядами они пойдут в Михайловский замок – его тоже нет: речи говорят Платон и Пален, бутылки открывает Николай; в паре свидетельств говорится, что все три брата пошли с колонной Беннигсена, но это очевидная путаница, авторы мемуаров, а за ними и повторители, кажется, не знают, что у Валериана ампутирована нога и по этой причине в пешем строю с перебежками и затаиваниями – ведь шли убивать императора! – он малоподходящ; о каких-либо действиях Валериана в замке – ничего, он как дух дошел до его стен и растворился бесследно.
Во всех ходах заговора – если убрать слова и оставить действия – самую значительную роль играют Платон и Николай.
Платон ведет переговоры с Павлом об отречении; Платон останавливает вдовствующую императрицу и принуждает ее присягнуть сыну; Платон охраняет императорскую фамилию, а Николай главный вход в Михайловский замок по парадной лестнице от внешних караулов кордегардии до подхода гвардейских полков…
И странная сцена – Пален резко обрывает истерику Александра Павловича:
– Перестаньте быть мальчишкой – идите царствовать!
Чертовски выразительно, сочно, но… Это полагать, что Александр мальчишка? А Пален орел-кондотьери? Но через несколько дней он будет отставлен, сослан и безропотно подчинится, где-то чуть-чуть переступив черту дозволенного актерства: мол, вдовствующая императрица не может его видеть – но у ней тогда очень избирательное зрение, Беннигсена, Зубовых непосредственно убивавших ее мужа она видеть может, Палена, который «опоздал»?! «заблудился»?! – нет! Уже это отсутствие в решающий момент в главном месте срывает с Палена все драпировки, дело проведено без него, он в нем не главарь-совершитель, гешефтмахер, более используемый, чем возглавляющий, энергические токи заговора идут помимо него.
Николай, зарубивший камер-гусара у входа в императорскую спальню – ай, крепки русские головы в 1801 году; выжил, остался только страшный сабельный шрам на голове – проломивший голову Павла золотой табакеркой, скорее всего фатально – на следующие дни очевидцев, допущенных на отпевание будет потрясать страшная гематома вокруг левого виска покойного; великолепно, барской пощечиной дежурному офицеру оборотивший караул преображенцев, бросившийся на шум из кордегардии во дворец – за ним в тот момент не было и десятка заговорщиков; сопровождавший Константина, то ли охраняя, то ли арестуя; и в завершение дела запрыгнувший на запятки открытого экипажа, увозившего Александра, знаменуя едва ли не полное Зубовское преобладание – один советует; другой охраняет.
Вот выразительная сценка, опять приподнимающая маски, когда прибывший неопознанно отряд Палена возбудил тревогу, Платон (с Беннигсеном) бросается в самое опасное место, ему навстречу, как должно ГЛАВЕ ЗАГОВОРА – Николай, как заместитель, остается при Павле. В этот момент исполнительный Беннигсен обнаруживает подчинение не Палену, Платону Зубову, готовый обнажить оружие против официального главаря, как военный заместитель; другой Николай – которому можно довериться безусловно и во всем…
И сбой… первую неудачную попытку привести войска к присяге предпринимают Платон и Николай, но один был далек от армейской среды, будучи «генерал – фельдцейхмейстером», а не «фельдмаршалом», второй незначителен; естественно было бы появление воина – Валериана, героя Польской и Восточных кампаний, ветерана на деревяшке – его не сталось; только выход Александра к лично преданным ему семёновцам запустил процесс принятия присяги.
Любопытно, что во многих мемуарах проходит одно и то же наблюдение: рядовой состав гвардии идет на переворот неохотно, едва ли не под оплеухами (sis!); это воистину «верхушечный переворот»: никто из низов не переместился вверх, никто в верхах от того свою карьеру – судьбу не переменил; Зубовы не вернулись к положению державных властелинов, Яшвиль и Пассек не обратились в Орловых, ни один вахмистр Конного полка Потемкиным не стал; как ирония, выше всех вознеслись те камер-гусары, которых разбросали сабельными ударами у входа в спальню – взяты камер-лакеями к вдовствующей императрице; и в заминке с присягой, будь Александр чист, он мог, воззвав к войскам, по-карать заговорщиков грозно и страшно, очиститься разом; а и полуучаствуя, мог от них отряхнуться – лес гвардейских штыков был не их, скорее его. Он же показывает свою близость, сначала «княжеской», потом «лево-романтической» части заговора, оглашая в манифесте желание править по заветам бабки, а потом создав всероссийски известный «Негласный комитет» – имя то какое! – начисто обеляя заговор. Это уже давно ставит живописателей – кондитеров Благословенного в неудобное положение, участие – знание Александра I о заговоре настолько очевидно, что беспорочный бело-голубой ангел не проходит, надобно добавить еще и детского инфантилизма – не знает, что русские перевороты завершаются уничтожением венценосцев, традиция не признает отречения: сколько их уже было? – да уж штук до 6… Идя в толщу, перевороты рождали контрперевороты, на генералов – поручики, на поручиков – унтер-офицеры, и Орловы открывали путь Мировичам и Опочининым. Впрочем, это даже и странно не понимать Сыну Великой, воспитывавшемуся в буйном интриганстве и женского, и великого двора – через 10 лет, отдавая должное Александру Наполеон назовет его византийцем; через 11 лет Александр переиграет его на все сто в канун 1812 года и как дипломат, и как сверх того – политик.
Ради чего столь охотно склонялись Зубовы, перед кем пресмыкались, в условиях, когда Орловы все брали на себя, все к себе тянули, зачастую даже отталкивая слишком родственноопасных – памятен упрек генерала Вильбоа Григорию Орлову «почему мне не сказали – я всецело ваш!» – Зубовы согласились явившемуся с улицы Палену, сразу доверили ему свои связи, свое (и английское) золото, проводят на встречи с цесаревичем, как то описует Пален в доверительных рассказах. Пален интриган небольшой. Зубовы, в раздельности уступавшие Потемкину, Суворову, Григорию Орлову как Политик, Полководец, Гвардейский Идол, в то же время были велики по прикосновению к власти, по екатерининскому наследию-посылу; по цепкой, без медвежьих заломов, семейственности более малых и смирных. Впрочем сознаюсь, пишу это место скорее в удовлетворение Орловских и Потемкинских Рогоносцев. Занимаясь Зубовыми, в том числе и наихудшим из них, по искательности, двусмысленности приемов, по раздражающей современников адюльтерности карьеры – я обнаружил и дельного администратора и успешного военачальника, но все исполненное в приглушенных, камерных тонах, без ломающих костей разворотов, без брызжущей крови из-под содранных ногтей – см. мое перечисление деяний П. Зубова на потемкинском посту в Новороссии[2 - Л. Исаков. Обреченная звезда Валериана Зубова.] – а не лучший ли это аттестат администратору, который все успевает «с 9 до 6», а и того менее, «с 12 до 3», дальше политика государственная обращается в дворцово-будуарную, но при великих государях только форму первой, может быть более интересную, где людская необузданность и своеобразие явлены ярче и глубже.
Кто поплатился?
Те, кто активничал: Пален, Яшвиль, Пассек – Зубовы остались как бы при «общественном осуждении»; это немало: сломались карьеры Платона и Николая, в отдалении, лондонской куртизанкой, любовницей короля Георга 4 доживает О. Жеребцова, снисходя и интригуя С. Волконского и А. Герцена; многое им рассказав, но кажется еще более утаив.
Но эта полуопала Зубовых имеет уже другой характер: устраняются не «заговорщики» как Пален демонстративным назначением на его посты преданного Павлу I М. И. Кутузова – отодвигаются проводники некоторой политической линии, некоторой традиции: качнувшись от Франции Александр отнюдь не уходит далеко, разрушается только антианглийская сторона взаимных отношений – что, добавим, означает утрату значительной части их смысла; заглатывая Индию, вгрызаясь в подбрюшье Евразии, Англия все более обращается в опаснейшего и главного противника России; по достижению Балтийских и Черноморских отдушин в Европу, первая из которых крепко схвачена Петром, вторая могла успешно перепасть между 1789 и 1815 годами с помощью Англии против Франции, или Франции против Англии – России в Европе делать нечего, если не ставить сумасшедших задач «всемирно-справедливого порядка» и т.т.т. через утверждение господства над курятником; Россия необоримо приросла Сибирью в 17 веке – Россия начинала всемирно-исторически прирастать Северо-Западной Америкой и Центральной Азией в 19-м…
О чем-то подобном замышляли Екатерина II и ее последний конфидент Валериан Зубов: что-то подобное полагал М. И. Кутузов, в 1812 году враждебный к англичанам едва ли не более чем к французам; в 1814 году об этом задумывается А. П. Ермолов и предлагает Александру I.
– А теперь через правое плечо из Европы – Шагом Марш! – как, впрочем, в проблесках своего сумеречного сознания и Павел I, учредивший Русско-Американскую кампанию и погнав Платова походом «на реку Индус», а на Балканском фланге утвердивший Республику Ионических Островов и обратив переведенный туда флот из Черноморского в Средиземноморский – к чести этого чудачливого правителя следует признать его инстинктивное понимание глобального значения флота, обращающего в прибыток государства 2/3 земного шара одной демонстрацией флага; высшим военным званием для себя Павел почитал морского «генерал-адмирала», в обеспечение чего проводя выслуживших его адмиралов по сухопутному ведомству, производством в «генерал-фельдмаршалы», как то случилось с Логгиным Кутузовым.
С Зубовыми отбрасывались не конкретные пути и цели политики – ее басовитая, великодержавная нота, разменивалось громадно-перспективное на зримо-копеечное. Высказав в 1796 году меланхолическое желание жить частным лицом на Рейне – вероятно, с титулом ландграфа Гессенского; и не в возможности осуществить его, Александр начинает обращать русскую политику в разряд германского подглядывания через дырку в заборе на упреждение оплеух. Одним отказом принять короля Камеамеа II в 1816 году в русское подданство вместе с Гавайскими островами Лысый Ангел разрушил редчайшую возможность утвердить исходно-русское господство на Тихом океане, т. е. У вод мира, для цивилизации, политики, торговли, взаимодействия народов более значимого, чем все сухопутные потуги «глуховатого философа».
Отодвигая достижения и провалы Александровской политики и оценивая только ее характер, сразу можно заметить ее разительную особенность – в ней нет ни одного творческого акта, они либо завещаны предшественниками, или навязаны ситуацией и внешней волей; если справедлива оценка поднятого им графа Нессельроде «австрийский министр русских иностранных дел», то ее следовало бы понимать расширительно – русская политика была в большей степени плодом Наполеона, Меттерниха, Питта-младшего, Каннинга и Кэслри, чем русского императора; впрочем, весьма способного в ее нетворчески-прикладной сфере.
Зубовы – это не расцвет Екатерининского века, его нисхождение, может быть временное, кажущееся, перегруппировка перед прыжком; эта драматическая напряженность присутствует в последних действиях Великой, поддержанная наличием А. Суворова, Н. Репнина, М. Кутузова, Ф. Ушакова, С. Воронцова – но Зубовы из ее великолепного гнезда, соотносить их с крохобором – поповичем М. Сперанским, их унижать; это всё то же «размашисто-княжеское» в политике, когда правит бал вдохновение и артистизм Екатерины и Взлетевших Орлов, а канцелярщина и усидчивость аппарата канцлера Безбородко только их обслуживает; но это и последний этап «барства политического» – полупопытка Александра I сохранить его в «Негласном комитете» провалилась с треском, великодержавность и дряблость воли оказались несовместимы; начинается эра поглощения канцелярией политики, обращение художественно-творческого в чиновничье-исполнительское. «Политика – искусство возможного (О. Бисмарк)» – уже при Александре утрачивает ориентир верхнего предела; при Николае I замирает на отметке наличного; при его преемниках покатится вниз – «как там у них в Европах скажется».
Зубовы, как администраторы деятельные, а не присутствующие, начальники властительные а не предписывающие – в чем-то их более повторяет ненавидимый Аракчеев, создавший тем не менее в канун 1812 года сильнейшую русскую артиллерию и выдвинувший в бытность генерал-фельдцейхмейстером и военным министром Барклая-де-Толли, Кутайсова, Ермолова; и отнюдь не ласкаемый публицистикой Сперанский, высшим итогом деятельности которого явилось издание Свода Законов Российской Империи – ни к «честным псам», ни к «поповичам» сведены быть не могут. В Фамусовском Сановнике, валявшем дурака на куртаге, проглядели одну черту – тварь перед государыней, он был государем по своему ведомству, уже не балаганному, а державному, а где рождается и возрастает политик – в реальности власти или в словоблудии ее отстраненного поучения, так сказать, в «чистоте рук своих»? На этот вопрос отвечает не риторика, а историческая практика: из «поползающих царедворцев» выросли Петр Толстой, Борис Куракин, Михаил Кутузов; негодуя, в конфликте, смогли реализоваться Никита Панин и Семен Воронцов – они, «бары в своих вотчинах», не хотели бы только «барства над собой», этого не стало – но и вместе с вотчинами.
С Зубовыми это было невозможно: для «отстраненных мыслителей» Кочубеев они были слишком рукасты и предприимчивы, созидатели городов, флотов, заводов и войн; для винтиковфунтиков слишком богаты, графственны, имениты, практикой Екатерининского двора едва ли не причисленные к Фамилии.
Нет, Платону ничего бы не стоило броситься на колени, лобызая руки императора, – но это тот случай, когда император еще быстрее бросился бы его поднимать, а как бы то случилось если брякнулся одноногий, жертвенно-красивый Валериан? Суть была в ТОМ, что их затруднительно было даже поставить рядом с Александром; тонкое, маккиавеллиевское лицо Платона и отброшенная в гордо-обреченном повороте голова Валериана прямо-таки затеняют устоявшиеся добро-мягкие черты «немецкого республиканца» – это чувствуется многими, есть темный слух, что очарованию Платона поддалась не только 60-летняя императрица, но и 16-летняя цесаревна, была какая-то драма; о чем-то таком знал А. Герцен, бросивший фразу «Александр I любил всех женщин, кроме своей жены».
Нет, участвуя заглавными фигурами в заговоре, соединяя родовитое дворянство, под холопскими играниями реально прибравшее власть, с Английским посольством; царской семьей, охваченной разладом; армейским офицерством – Зубовы должны были везде являть свою «второстепенность», «маловыразительность», но было ли так в действительности: на неглавные роли и риск без прибытку, и риск смертельный – их, выскочек-екатерининцев, с одной стороны неразделенно связанных с веком матери, с другой стороны разведенных с родовой аристократией по едва скрытому титулами худородству, Павел щадить не будет, как политик, искореняющий враждебный символ, вот как человек… – человеческое в серьезные расчеты не принимается. Вступая в заговор, Зубовы должны были идти до крайности, до конца, реализуя свой общественный вес во влияние на машину заговора – а выше их там прямо никто не просматривается: все эти Талызины, Скарятины, Депрерадовичи, Беннигсены, Аргамаковы, Яшвили, Пассеки только острая приправа; имеет вес Пален, но внешне – временный, по занимаемому посту, перебежчик-со времен елизаветинских лейб-кампанцев, избивавших «немцев» прикладами на улицах, заговор русской гвардии мог быть проведен только русским лицом: «пруссачество» Павла I делало это условие непреложным.
Но заговор сам по себе имеет уже и свою внутреннюю логику и механизм: заговор, дело лиц ищущих слишком многого в отношении того, что возможно при обыкновенном ходе. Т. е. в целом это дело «низов» и «массу» заговору придает связь главарей с рядовыми гвардейцами – было ли такое налицо в 1801 году?
Увы, однозначный ответ не приходит.