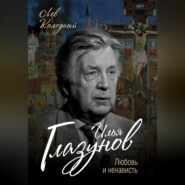По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поэты и вожди. От Блока до Шолохова
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Судя по письмам, записным книжкам, дневникам, Александр Блок приезжал в Москву почти каждый год, иногда по нескольку раз. Поводы были разные.
Современники видели его в издательстве «Мусагет», ресторанах «Прага» и «Славянский базар», кондитерской «Эйнем» на Мясницкой улице, в Художественном театре, на московских бульварах…
В связи с постановкой пьесы «Роза и Крест» весной 1916 года был в Москве свыше недели. Из сохранившихся «Записных книжек» вырисовывается картина пребывания Блока в Москве в те дни. Утром, в день приезда, 29 марта, после встречи с труппой в Художественном театре поехал обедать на Брестский, нынешний Белорусский вокзал. «Старые воспоминания, – так объяснил это решение. – Вечером – снова в Художественном, посетил артиста Качалова…
Затем два дня “читал с комментариями” свою пьесу. Вечером смотрел “На всякого мудреца…” Ночь провел у Качалова, где пели цыгане». Вскоре в театре «пробовали делать куски», то есть начались репетиции. Блока поразила атмосфера репетиций: актеры приходили на работу, как на праздник. Актеры, в свою очередь, радовались встрече с Блоком. То были счастливые дни поэта. Жил на Тверской, в гостинице под названием «Мадрид и Лувр». В письме к жене писал: «Мне здесь хорошо. Не знаю, когда приеду, может быть, и к Пасхе. Комната большая, хорошая. Все, кажется, еще дороже, чем у нас. Сегодня снег пошел. Я приглашен каждый день обедать к Станиславскому, и с ним и без него…»
В пьесе «Роза и Крест» главную роль поручили актрисе Ольге Гзовской. С ней Александр Блок часами беседовал, объясняя смысл роли. Вместе их видели тогда часто, что дало повод режиссеру В.И. Немировичу-Данченко пошутить, что актриса «блокирована».
В оставленных ею воспоминаниях есть интересный эпизод, описывающий, в частности, отношение поэта к Москве. «Блок очень любил московские старинные улицы и переулки. Проходя как-то по одному их них, Блок посмотрел на маленькую церковку: в церковном дворике играли мальчики, зеленые березы кивали ветвями с молодой листвой, на них весело щебетали птицы, и сквозь стекла церковных окон виднелись огоньки свечей. Блок улыбнулся и сказал: “Вот странно, ношу фамилию Блок, а ведь я такой русский. Люблю эти маленькие сады, около одноэтажных деревянных домишек, особенно, когда их освещает заходящее весеннее солнце и у окон некоторых из них распускаются и цветут деревья вишен и яблонь”».
Пейзажи двориков, подобно описанному, можно видеть по пути от Художественного театра к дому актрисы на Малой Дмитровке, 22, где она тогда жила. Поэт провожал ее домой после репетиций.
На следующий год весной, после свержения самодержавия, Александр Блок опять приехал в Москву по делам театральным. Но мысли все чаще и чаще обращались в сторону от затянувшейся постановки пьесы «Роза и Крест». Блок мучительно пытался разобраться в сложных событиях, определить свое место в революции. В «Записных книжках» есть сделанная тогда в Москве запись, отражающая ту драму, что свершилась в душе Блока:
«Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы (не своей слабой силой) я художник, т. е. свидетель. Нужен ли художник демократии?»
Москва жила в преддверии новой революции – Октябрьской. На бульваре, на скамейке, где Блок присел отдохнуть, он показался подозрительным двум солдатам. Один из них предлагал его арестовать для выяснения личности. Другой отговорил бдительного товарища, о чем поэт потом не без юмора рассказывал знакомым. Да, Москва была совсем не та, что еще год назад, когда он шествовал с дамой по московским улицам и переулкам…
Наступил Октябрь. Поэт ответил на вопрос, мучивший его, поэмой «Двенадцать», созданной на высочайшем творческом подъеме – за два дня! Появилась в начале 1918 года знаменитая статья, обращенная к интеллигенции, заканчивавшаяся призывом: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте революцию!»
А из родного Шахматова потрясенный управляющий докладывал, что имение не только описали, но и подвергли «разрухе», обязав донести на хозяина при первом его появлении… Гордый поэт говорил по поводу Шахматова, что туда ему и дорога, но во сне, не подчиняясь логике, оно возникало в муках, после чего появлялась в дневнике запись: «Снилось Шахматово, а-а-а…»
Пишут вот, что Блок «не стенал» над Шахматовом, а «славил революцию», забывая уточнить, что славил недолго и на страницах изданий партии социалистов-революционеров. Когда начались аресты левых эсеров, взяли и его, несколько дней продержав в ЧК: судьба поэта висела на волоске.
Ночью его допросили, но сразу не выпустили, подозревая в участии в заговоре левых эсеров. В общей камере поэта сразу узнали, уступили койку. Он ел из общего котла похлебку с кониной, давил клопов, не дававших уснуть, вел разговоры с товарищами по несчастью, удивлявшимися, что задержанный не принадлежит ни к какой партии.
Однако перелом в мировоззрении не связан с этим арестом, он произошел гораздо ранее, когда Блок перестал, по его словам, «жить современностью».
Двоюродный брат записал его исповедь: «Это произошло до весны 1918 года. А когда началась Красная Армия и социалистическое строительство (он как будто поставил в кавычки эти последние слова), я больше не мог. И с тех пор не пишу».
Революционная стихия кончилась, и поэт перестал слышать музыку жизни. После этого снова публично упомянул о музыке, но уже в другом контексте, в обращении к Максиму Горькому: «Только музыка способна остановить кровопролитие, которое становится тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумием».
Перестав слышать музыку революции, лишился лирического дара, способности сочинять стихи. Чтобы существовать – служил, ходил на заседания, писал статьи, редактировал… Его «выкинули» из квартиры, где прожил много лет. Он страдал от темноты, холода, голода. Поэта стал преследовать образ «черного дня», так хотел он назвать будущий сборник стихов. Но они не шли к нему, как прежде. «Человек, звавший к вере, заклинавший нас “слушайте музыку революции!” – раньше многих других эту веру утратил. С ней утратился ритм души…» – свидетельствует один из друзей. Началась депрессия, психическое и физическое истощение.
Близкие советовали на время эмигрировать, поэт отвергал такую возможность, не мысля жизни без Родины. Вместо заграницы весной 1920 года Блок решил поехать в Москву.
* * *
Первая поездка Александра Блока в советскую Москву случилась в мае 1920 года. В записной книжке Блок, по свойственной ему привычке, отметил все дни своего пребывания и все основные события. 9 мая состоялся вечер в «Политехническом зале на Лубянской площади». Он бывал в Художественном театре, выступал в московском Дворце искусств, был еще один «мой вечер в Политехническом зале на Лубянке», встречи с К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко.
Те майские дни можно назвать радостными. Болезнь только подкрадывалась, чувствовал себя сравнительно хорошо. Встретила его на вокзале жена профессора Петра Семеновича Когана, давняя знакомая – Надежда Александровна Нолле-Коган, с которой он был дружен последние годы. Встретила и повезла домой.
«Мы жили на Арбате, в доме 51, занимая отдельную квартиру из трех комнат: кабинета, столовой и спальни. Петр Семенович тотчас заявил, что кабинет, как самую удобную комнату, надо предоставить Блоку». Это слова Н.А. Нолле-Коган.
В квартире под № 89 стало шумно. Начались звонки по телефону, визиты гостей, жданные и нежданные, особенно после первого выступления в Политехническом музее. Первое публичное выступление было назначено на 9 мая. Незадолго до его начала прогремел над Москвой гром, напугавший всех жителей. То было эхо взрыва пороховых складов на Ходынском поле.
На концерт поэт и Коганы шли пешком. Миновали Арбат, центр, направляясь к Лубянской площади, Политехническому музею. Все билеты были распроданы. Перед музеем – толпа народу, давка, столпотворение. У многих в руках цветы. После лекции Петра Семеновича Когана о творчестве Блока читали стихи артисты Художественного театра. Наконец вышел он сам.
«Все взоры, – пишет Н.А. Нолле-Коган, – устремились на поэта, а он стоит, чуть побледнев, прекрасный, статный, сдержанный, и я вижу, как от волнения лишь слегка дрожит рука его, лежащая на кафедре». После вечера провожала толпа людей. Цветов было так много, что пришлось их уносить домой друзьям.
Пришло после выступления много писем. Среди них – одно от Марины Цветаевой, со стихами. Среди подарков поклонников оказались две куклы – Арлекин и Пьеро. Одну из них Блок увез домой, другую оставил в Москве, на Арбате.
Миновал год, прежде чем Александр Блок вновь решился приехать в Москву, куда его так настойчиво приглашала в письмах Нолле-Коган, желавшая повторить прошлогодний успех и тем самым поправить материальное положение поэта, улучшить настроение. Звали также и дела, связанные все с той же постановкой пьесы «Роза и Крест».
Когда наступил май 1921 года, Александр Блок вновь, в сопровождении друзей, выехал в Москву, имея в виду воспользоваться гостеприимством Коганов. «На следующий день, – пишет один из современников, – я был у него. Он остановился у знакомых на Арбате в восьмиэтажном доме, самом высоком на этой улице. Ход был со двора. Помню, как отперли мне дверь, как он вышел ко мне в переднюю и повел в маленькую комнату, сейчас же направо от входной двери».
В этой московской семье Блок был окружен вниманием и заботой. В 1921 году профессор Коган стал главой созданной тогда Государственной академии художественных наук. Его перу принадлежали капитальные сочинения по истории русской и мировой литературы, выходившие многими изданиями. Этот мастер культуры, еще до революции перешедший на позиции марксизма, много сделал для привлечения на сторону советской власти русской интеллигенции. В годы Гражданской войны он оказывал посильную помощь не только Александру Блоку, но и Марине Цветаевой, другим талантливым русским литераторам, спасая их от голодной смерти.
Используя все влияние, профессор и его жена с первых минут появления Блока в Москве сделали все возможное, чтобы по достоинству принять великого поэта.
На вокзал за Блоком был послан комфортабельный лимузин председателя исполкома Моссовета Л.Б. Каменева. Эту машину поэт в дневнике назвал «царским автомобилем». На его радиаторе развевался большой красный флаг.
В один из тех майских дней Блок вместе с Петром Коганом и его женой направился в Кремль. На квартиру члена политбюро, председателя исполкома Моссовета Л.Б. Каменева. Там, в кругу гостей, читал стихи. Любовался с Боровицкого холма видом на Замоскворечье.
Блок отправился в Москву с надеждой на выздоровление. В то время «болезнь мешала и читать, и ходить». Однако «восторг души первоначальный» не в силах уже была вернуть даже земля Москвы. Но он из последних сил занимается деловыми переговорами с театрами о предстоящих постановках своих пьес. Каждый вечер звонил Константин Станиславский, предлагая разные варианты финансовой помощи. Станиславский в разговорах с театральными администраторами доказывал им, что Блок – это Пушкин. В конечном итоге был подписан договор, позволявший как-то прожить последнее лето.
Днем, когда светило солнце, Блок в одиночестве направлялся по Арбату к шумевшему Смоленскому рынку, обойдя шумное торжище, входил на Новинский бульвар Садового кольца. Никем не узнаваемый, садился на скамейку, подставляя лицо весенним лучам, подремывая на солнце.
Вечером его ждали в Политехническом музее. На самой высокой литературной трибуне Москвы тех лет. Проходили вечера, по записи поэта в дневнике, «с возрастающим успехом». Доклад о творчестве Блока сделал Корней Чуковский.
Было, как прежде, много цветов, записок, писем и, к сожалению, «гроши» за выступления, неумело организованные.
Слушали его тогда в Политехническом музее Маяковский и Пастернак, кстати, последний впервые представился Блоку перед выступлением и услышал в свой адрес лестные слова.
«В середине вечера, – пишет Борис Пастернак, – Владимир Маяковский сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовится “бенефис”, разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоем отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.
Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и пока мы добрались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности. Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку после чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался…»
Те, кто присутствовал на этом чтении, пересказывают по-разному этот эпизод, ранивший и без того больную душу Блока. Корней Чуковский: «Блока очень приглашали в Дом печати, он пришел туда и прочитал несколько стихотворений. Тогда вышел какой-то черный тов. Струве и сказал: “Товарищи! Я вас спрашиваю, где здесь динамика? Где здесь ритмы? Все это мертвечина и сам тов. Блок – мертвец”».
Павел Антокольский так излагает слова Струве, забытого давно стихотворца, решившего отомстить Александру Блоку за презрительные отзывы о его творчестве: «Когда меня позвали на этот вечер, я прежде всего переспросил: как – Блок? Какой Блок? Автор “Незнакомки”? Да разве он не умер? И вот сейчас я убедился в том, что он действительно умер».
Профессор И.Н. Розанов: «Появился на эстраде Александр Струве, автор книги стихов “Пластические этюды”, где воспевалась хореография, и стал говорить, что Блок исписался, что Блок умер…»
Как ни печально это признать, но «черный тов. Струве» был не одинок в своем отношении к Блоку. Нечто подобное чувствовал и Владимир Маяковский. По словам Корнея Чуковского, «все наше действо казалось ему скукой и смертью. Он зевал, подсказывал вперед рифмы и ушел домой спать». Сам Маяковский не скрывал этих чувств и после кончины Блока в статье «Умер Александр Блок» писал: «Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме, – дальше дороги не было. Дальше смерть».
Хотя Блок жаловался на самочувствие и действительно был тяжело болен, тем не менее (такова уж была его выносливость) после утомительного выступления в Политехническом музее из двух отделений и злосчастного чтения в Доме печати нашел силы читать стихи в зале Итальянского общества на Поварской, где его ожидали горячие поклонники.
В последний приезд Блок не ходил, как обычно, в театры, на заседания. «…Вследствие этого, – писал он, – у меня появились в голове некоторые мысли, и я даже пробую писать». Друзья старались сделать для Блока все возможное. К нему пригласили для консультации опытного врача из Кремлевской больницы.
По этому поводу он сообщал матери: «У меня была кремлевская докторша, которая сказала, что дело вовсе не в одной падагре, а в том, что у меня, как результат однообразной пищи, сильное истощение и малокровие, глубокая неврастения, на ногах цинготные опухоли и расширение вен… Я буду стараться вылечиться».
Блоку плохо спалось. Гостеприимная хозяйка оставляла для него на письменном столе листы белой бумаги, втайне надеясь, что гость начнет творить и бумага, может быть, понадобится, что начнет вновь сочинять стихи…
Как ни хотелось ему мучительно писать – ничего не получалось. На бумаге оставались вместо букв какие-то крестики и палочки. Сидя за письменным столом перед окном, за которым виднелась предрассветная Москва, Блок кашлял, стонал; ходил возбужденно по комнате. Напуганная этими звуками хозяйка зашла однажды в комнату и увидала запомнившиеся ей навсегда глаза поэта, передать выражение которых не решилась. «В них, – как она пишет, – была скорбь, усталость». Вот тогда Блок признался ей: «Больше писать стихов никогда, наверное, не буду».
Чтобы отвлечь от мучительных раздумий, Н.А. Нолле-Коган предложила Блоку прогуляться по ночной Москве. По тихим, безлюдным арбатским переулкам они направились знакомым путем к набережной Москвы-реки, к тому месту, где возвышался храм Христа Спасителя, а с его площадки открывался вид на реку и Москву.
Современники видели его в издательстве «Мусагет», ресторанах «Прага» и «Славянский базар», кондитерской «Эйнем» на Мясницкой улице, в Художественном театре, на московских бульварах…
В связи с постановкой пьесы «Роза и Крест» весной 1916 года был в Москве свыше недели. Из сохранившихся «Записных книжек» вырисовывается картина пребывания Блока в Москве в те дни. Утром, в день приезда, 29 марта, после встречи с труппой в Художественном театре поехал обедать на Брестский, нынешний Белорусский вокзал. «Старые воспоминания, – так объяснил это решение. – Вечером – снова в Художественном, посетил артиста Качалова…
Затем два дня “читал с комментариями” свою пьесу. Вечером смотрел “На всякого мудреца…” Ночь провел у Качалова, где пели цыгане». Вскоре в театре «пробовали делать куски», то есть начались репетиции. Блока поразила атмосфера репетиций: актеры приходили на работу, как на праздник. Актеры, в свою очередь, радовались встрече с Блоком. То были счастливые дни поэта. Жил на Тверской, в гостинице под названием «Мадрид и Лувр». В письме к жене писал: «Мне здесь хорошо. Не знаю, когда приеду, может быть, и к Пасхе. Комната большая, хорошая. Все, кажется, еще дороже, чем у нас. Сегодня снег пошел. Я приглашен каждый день обедать к Станиславскому, и с ним и без него…»
В пьесе «Роза и Крест» главную роль поручили актрисе Ольге Гзовской. С ней Александр Блок часами беседовал, объясняя смысл роли. Вместе их видели тогда часто, что дало повод режиссеру В.И. Немировичу-Данченко пошутить, что актриса «блокирована».
В оставленных ею воспоминаниях есть интересный эпизод, описывающий, в частности, отношение поэта к Москве. «Блок очень любил московские старинные улицы и переулки. Проходя как-то по одному их них, Блок посмотрел на маленькую церковку: в церковном дворике играли мальчики, зеленые березы кивали ветвями с молодой листвой, на них весело щебетали птицы, и сквозь стекла церковных окон виднелись огоньки свечей. Блок улыбнулся и сказал: “Вот странно, ношу фамилию Блок, а ведь я такой русский. Люблю эти маленькие сады, около одноэтажных деревянных домишек, особенно, когда их освещает заходящее весеннее солнце и у окон некоторых из них распускаются и цветут деревья вишен и яблонь”».
Пейзажи двориков, подобно описанному, можно видеть по пути от Художественного театра к дому актрисы на Малой Дмитровке, 22, где она тогда жила. Поэт провожал ее домой после репетиций.
На следующий год весной, после свержения самодержавия, Александр Блок опять приехал в Москву по делам театральным. Но мысли все чаще и чаще обращались в сторону от затянувшейся постановки пьесы «Роза и Крест». Блок мучительно пытался разобраться в сложных событиях, определить свое место в революции. В «Записных книжках» есть сделанная тогда в Москве запись, отражающая ту драму, что свершилась в душе Блока:
«Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы (не своей слабой силой) я художник, т. е. свидетель. Нужен ли художник демократии?»
Москва жила в преддверии новой революции – Октябрьской. На бульваре, на скамейке, где Блок присел отдохнуть, он показался подозрительным двум солдатам. Один из них предлагал его арестовать для выяснения личности. Другой отговорил бдительного товарища, о чем поэт потом не без юмора рассказывал знакомым. Да, Москва была совсем не та, что еще год назад, когда он шествовал с дамой по московским улицам и переулкам…
Наступил Октябрь. Поэт ответил на вопрос, мучивший его, поэмой «Двенадцать», созданной на высочайшем творческом подъеме – за два дня! Появилась в начале 1918 года знаменитая статья, обращенная к интеллигенции, заканчивавшаяся призывом: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте революцию!»
А из родного Шахматова потрясенный управляющий докладывал, что имение не только описали, но и подвергли «разрухе», обязав донести на хозяина при первом его появлении… Гордый поэт говорил по поводу Шахматова, что туда ему и дорога, но во сне, не подчиняясь логике, оно возникало в муках, после чего появлялась в дневнике запись: «Снилось Шахматово, а-а-а…»
Пишут вот, что Блок «не стенал» над Шахматовом, а «славил революцию», забывая уточнить, что славил недолго и на страницах изданий партии социалистов-революционеров. Когда начались аресты левых эсеров, взяли и его, несколько дней продержав в ЧК: судьба поэта висела на волоске.
Ночью его допросили, но сразу не выпустили, подозревая в участии в заговоре левых эсеров. В общей камере поэта сразу узнали, уступили койку. Он ел из общего котла похлебку с кониной, давил клопов, не дававших уснуть, вел разговоры с товарищами по несчастью, удивлявшимися, что задержанный не принадлежит ни к какой партии.
Однако перелом в мировоззрении не связан с этим арестом, он произошел гораздо ранее, когда Блок перестал, по его словам, «жить современностью».
Двоюродный брат записал его исповедь: «Это произошло до весны 1918 года. А когда началась Красная Армия и социалистическое строительство (он как будто поставил в кавычки эти последние слова), я больше не мог. И с тех пор не пишу».
Революционная стихия кончилась, и поэт перестал слышать музыку жизни. После этого снова публично упомянул о музыке, но уже в другом контексте, в обращении к Максиму Горькому: «Только музыка способна остановить кровопролитие, которое становится тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумием».
Перестав слышать музыку революции, лишился лирического дара, способности сочинять стихи. Чтобы существовать – служил, ходил на заседания, писал статьи, редактировал… Его «выкинули» из квартиры, где прожил много лет. Он страдал от темноты, холода, голода. Поэта стал преследовать образ «черного дня», так хотел он назвать будущий сборник стихов. Но они не шли к нему, как прежде. «Человек, звавший к вере, заклинавший нас “слушайте музыку революции!” – раньше многих других эту веру утратил. С ней утратился ритм души…» – свидетельствует один из друзей. Началась депрессия, психическое и физическое истощение.
Близкие советовали на время эмигрировать, поэт отвергал такую возможность, не мысля жизни без Родины. Вместо заграницы весной 1920 года Блок решил поехать в Москву.
* * *
Первая поездка Александра Блока в советскую Москву случилась в мае 1920 года. В записной книжке Блок, по свойственной ему привычке, отметил все дни своего пребывания и все основные события. 9 мая состоялся вечер в «Политехническом зале на Лубянской площади». Он бывал в Художественном театре, выступал в московском Дворце искусств, был еще один «мой вечер в Политехническом зале на Лубянке», встречи с К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко.
Те майские дни можно назвать радостными. Болезнь только подкрадывалась, чувствовал себя сравнительно хорошо. Встретила его на вокзале жена профессора Петра Семеновича Когана, давняя знакомая – Надежда Александровна Нолле-Коган, с которой он был дружен последние годы. Встретила и повезла домой.
«Мы жили на Арбате, в доме 51, занимая отдельную квартиру из трех комнат: кабинета, столовой и спальни. Петр Семенович тотчас заявил, что кабинет, как самую удобную комнату, надо предоставить Блоку». Это слова Н.А. Нолле-Коган.
В квартире под № 89 стало шумно. Начались звонки по телефону, визиты гостей, жданные и нежданные, особенно после первого выступления в Политехническом музее. Первое публичное выступление было назначено на 9 мая. Незадолго до его начала прогремел над Москвой гром, напугавший всех жителей. То было эхо взрыва пороховых складов на Ходынском поле.
На концерт поэт и Коганы шли пешком. Миновали Арбат, центр, направляясь к Лубянской площади, Политехническому музею. Все билеты были распроданы. Перед музеем – толпа народу, давка, столпотворение. У многих в руках цветы. После лекции Петра Семеновича Когана о творчестве Блока читали стихи артисты Художественного театра. Наконец вышел он сам.
«Все взоры, – пишет Н.А. Нолле-Коган, – устремились на поэта, а он стоит, чуть побледнев, прекрасный, статный, сдержанный, и я вижу, как от волнения лишь слегка дрожит рука его, лежащая на кафедре». После вечера провожала толпа людей. Цветов было так много, что пришлось их уносить домой друзьям.
Пришло после выступления много писем. Среди них – одно от Марины Цветаевой, со стихами. Среди подарков поклонников оказались две куклы – Арлекин и Пьеро. Одну из них Блок увез домой, другую оставил в Москве, на Арбате.
Миновал год, прежде чем Александр Блок вновь решился приехать в Москву, куда его так настойчиво приглашала в письмах Нолле-Коган, желавшая повторить прошлогодний успех и тем самым поправить материальное положение поэта, улучшить настроение. Звали также и дела, связанные все с той же постановкой пьесы «Роза и Крест».
Когда наступил май 1921 года, Александр Блок вновь, в сопровождении друзей, выехал в Москву, имея в виду воспользоваться гостеприимством Коганов. «На следующий день, – пишет один из современников, – я был у него. Он остановился у знакомых на Арбате в восьмиэтажном доме, самом высоком на этой улице. Ход был со двора. Помню, как отперли мне дверь, как он вышел ко мне в переднюю и повел в маленькую комнату, сейчас же направо от входной двери».
В этой московской семье Блок был окружен вниманием и заботой. В 1921 году профессор Коган стал главой созданной тогда Государственной академии художественных наук. Его перу принадлежали капитальные сочинения по истории русской и мировой литературы, выходившие многими изданиями. Этот мастер культуры, еще до революции перешедший на позиции марксизма, много сделал для привлечения на сторону советской власти русской интеллигенции. В годы Гражданской войны он оказывал посильную помощь не только Александру Блоку, но и Марине Цветаевой, другим талантливым русским литераторам, спасая их от голодной смерти.
Используя все влияние, профессор и его жена с первых минут появления Блока в Москве сделали все возможное, чтобы по достоинству принять великого поэта.
На вокзал за Блоком был послан комфортабельный лимузин председателя исполкома Моссовета Л.Б. Каменева. Эту машину поэт в дневнике назвал «царским автомобилем». На его радиаторе развевался большой красный флаг.
В один из тех майских дней Блок вместе с Петром Коганом и его женой направился в Кремль. На квартиру члена политбюро, председателя исполкома Моссовета Л.Б. Каменева. Там, в кругу гостей, читал стихи. Любовался с Боровицкого холма видом на Замоскворечье.
Блок отправился в Москву с надеждой на выздоровление. В то время «болезнь мешала и читать, и ходить». Однако «восторг души первоначальный» не в силах уже была вернуть даже земля Москвы. Но он из последних сил занимается деловыми переговорами с театрами о предстоящих постановках своих пьес. Каждый вечер звонил Константин Станиславский, предлагая разные варианты финансовой помощи. Станиславский в разговорах с театральными администраторами доказывал им, что Блок – это Пушкин. В конечном итоге был подписан договор, позволявший как-то прожить последнее лето.
Днем, когда светило солнце, Блок в одиночестве направлялся по Арбату к шумевшему Смоленскому рынку, обойдя шумное торжище, входил на Новинский бульвар Садового кольца. Никем не узнаваемый, садился на скамейку, подставляя лицо весенним лучам, подремывая на солнце.
Вечером его ждали в Политехническом музее. На самой высокой литературной трибуне Москвы тех лет. Проходили вечера, по записи поэта в дневнике, «с возрастающим успехом». Доклад о творчестве Блока сделал Корней Чуковский.
Было, как прежде, много цветов, записок, писем и, к сожалению, «гроши» за выступления, неумело организованные.
Слушали его тогда в Политехническом музее Маяковский и Пастернак, кстати, последний впервые представился Блоку перед выступлением и услышал в свой адрес лестные слова.
«В середине вечера, – пишет Борис Пастернак, – Владимир Маяковский сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовится “бенефис”, разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоем отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.
Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и пока мы добрались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности. Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку после чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался…»
Те, кто присутствовал на этом чтении, пересказывают по-разному этот эпизод, ранивший и без того больную душу Блока. Корней Чуковский: «Блока очень приглашали в Дом печати, он пришел туда и прочитал несколько стихотворений. Тогда вышел какой-то черный тов. Струве и сказал: “Товарищи! Я вас спрашиваю, где здесь динамика? Где здесь ритмы? Все это мертвечина и сам тов. Блок – мертвец”».
Павел Антокольский так излагает слова Струве, забытого давно стихотворца, решившего отомстить Александру Блоку за презрительные отзывы о его творчестве: «Когда меня позвали на этот вечер, я прежде всего переспросил: как – Блок? Какой Блок? Автор “Незнакомки”? Да разве он не умер? И вот сейчас я убедился в том, что он действительно умер».
Профессор И.Н. Розанов: «Появился на эстраде Александр Струве, автор книги стихов “Пластические этюды”, где воспевалась хореография, и стал говорить, что Блок исписался, что Блок умер…»
Как ни печально это признать, но «черный тов. Струве» был не одинок в своем отношении к Блоку. Нечто подобное чувствовал и Владимир Маяковский. По словам Корнея Чуковского, «все наше действо казалось ему скукой и смертью. Он зевал, подсказывал вперед рифмы и ушел домой спать». Сам Маяковский не скрывал этих чувств и после кончины Блока в статье «Умер Александр Блок» писал: «Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме, – дальше дороги не было. Дальше смерть».
Хотя Блок жаловался на самочувствие и действительно был тяжело болен, тем не менее (такова уж была его выносливость) после утомительного выступления в Политехническом музее из двух отделений и злосчастного чтения в Доме печати нашел силы читать стихи в зале Итальянского общества на Поварской, где его ожидали горячие поклонники.
В последний приезд Блок не ходил, как обычно, в театры, на заседания. «…Вследствие этого, – писал он, – у меня появились в голове некоторые мысли, и я даже пробую писать». Друзья старались сделать для Блока все возможное. К нему пригласили для консультации опытного врача из Кремлевской больницы.
По этому поводу он сообщал матери: «У меня была кремлевская докторша, которая сказала, что дело вовсе не в одной падагре, а в том, что у меня, как результат однообразной пищи, сильное истощение и малокровие, глубокая неврастения, на ногах цинготные опухоли и расширение вен… Я буду стараться вылечиться».
Блоку плохо спалось. Гостеприимная хозяйка оставляла для него на письменном столе листы белой бумаги, втайне надеясь, что гость начнет творить и бумага, может быть, понадобится, что начнет вновь сочинять стихи…
Как ни хотелось ему мучительно писать – ничего не получалось. На бумаге оставались вместо букв какие-то крестики и палочки. Сидя за письменным столом перед окном, за которым виднелась предрассветная Москва, Блок кашлял, стонал; ходил возбужденно по комнате. Напуганная этими звуками хозяйка зашла однажды в комнату и увидала запомнившиеся ей навсегда глаза поэта, передать выражение которых не решилась. «В них, – как она пишет, – была скорбь, усталость». Вот тогда Блок признался ей: «Больше писать стихов никогда, наверное, не буду».
Чтобы отвлечь от мучительных раздумий, Н.А. Нолле-Коган предложила Блоку прогуляться по ночной Москве. По тихим, безлюдным арбатским переулкам они направились знакомым путем к набережной Москвы-реки, к тому месту, где возвышался храм Христа Спасителя, а с его площадки открывался вид на реку и Москву.