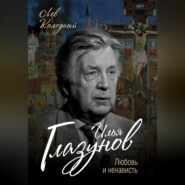По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Никитский бульвар
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот от меня награда. Когда вырастете, не зазнавайтесь. Увидите меня на улице, остановитесь и поздоровайтесь.
Согласно другой легенде, где фигурирует один Буся, после выступления в Кремле и премии, 5000 рублей, Сталин пошутил: «Ну, Буся, теперь ты стал капиталистом, наверное, настолько зазнаешься, что не захочешь пригласить нас в гости». И услышал якобы неожиданно в ответ: «Я бы с большой радостью пригласил вас к себе, но мы живем в тесной квартире, и вас негде будет посадить». Не миф, а факт: квартиру в Москве 13-летний скрипач получил в новом доме на Земляном Валу, 14–16, построенном в 1934 году.
О Бусе, как о Чапаеве, слагали анекдоты. Ходил он якобы до старости в коротких штанишках. В тех, в которых выступал перед Сталиным. Сочиняли анекдоты о его маме, говорившей в кабинетах начальников, якобы как еврейки на одесском Привозе. Пишут, что талант вундеркинда угас. Поводы для легенд и анекдотов были.
До войны, в 13 и 15 лет, Гольдштейн возвращался в Москву лауреатом международных конкурсов. Ввойну, будучи студентом, выезжал на фронта. Когда играл музыку Бетховена и громкоговорители доносили звуки скрипки до германских окопов, немцы прекращали стрелять. Полгода выступал на Северном флоте. Запустил учебу, не сдал экзамен по истории ВКП(б). Его исключили из Московской консерватории и восстановили спустя десять лет, в год смерти Сталина.
За тридцать пять лет солист Московской филармонии в капиталистической стране выступил единственный раз. Студия записи «Мелодия» годами не записывала игру Буси – Бориса Гольдштейна, которая поражала уникальным звуком, «нежным и резким, мягким и жестким, смелым и застенчивым». (Заступился за него Шостакович.) Ему не давали в концертных залах Москвы играть то, что любил. Отправляли на гастроли туда, где мало кто хотел слушать классическую музыку.
Почему? Его биограф пишет, что разгадку травли надо искать в архивах Министерства культуры. Мне кажется, причина дискриминации на поверхности, и не в «пятом пункте», как можно подумать. Причину назвал Лев Харитон. Его отец, адвокат, восемь раз выступал в судах, разводивших «доброго, мягкого и простодушного» Бориса с женами. «Газеты, – по его словам, – стали писать о “развратнике”. Был жуткий фельетон в “Комсомольской правде”, который читала тогда вся Москва». За подобное «моральное разложение» после публикации пасквилей загнали в угол замечательного артиста.
Арнольд Каплан (справа) и скрипач Борис Гольдштейн
Из западни вышел способом, которым при Брежневе воспользовались многие евреи в СССР. Начал новую жизнь в 52 года на Западе и быстро завоевал признание. В начале 1987 года, после гастролей в Испании, музыкальный критик задал вопрос: «Почему нам никто не сказал, что так можно играть на скрипке?» В марте того года не «забитый и забытый» дал последний концерт в Иерусалиме и полгода спустя умер.
«Больше чем любовь». Заветная звезда адмирала Колчака
В отличие от первого в Москве Тверского бульвара, разбитого летом 1796 года, не известно точно в каком году зазеленели липы на Никитском бульваре. Прошло четверть века, прежде чем взамен разобранных стен Белого города центр Москвы стянули полукольцом десять разросшихся аллей. С тех пор их начали упоминать путеводители и писатели.
Одним из первых это сделал литератор Сергей Глинка, старший брат Федора Глинки, оставившего нам незабываемые романсы «Не слышно шума городского» и «Вот мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой». На его слова вслед за Верстовским, жившим на Никитском бульваре, писали музыку другие композиторы. Стало хрестоматийным его стихотворение «Москва»:
Город чудный. Город древний.
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы!
За двести лет до появления в наши дни «Русского журнала» и «Русского репортера» Сергей Глинка издавал в Москве «Русский вестник» в пику «Вестнику Европы» Карамзина. Современникам писатель был известен тем, что отпустил на волю своих крепостных, первый записался в московское ополчение 1812 года, словами и делами заслужил звание «народного трибуна». О себе писал, что в Москве «жил с народом на улицах и площадях, на рынках». С французского первый перевел «Марсельезу» и написал путеводитель по Москве, где бульварам, ставшим достопримечательностью, посвящено несколько строк: «Бульвары простираются полукругом около Белого города, и оба конца их прилегают к Москве-реке».
В московском альманахе 1829 года появилась похвала Сергея Глинки идее Екатерины II, реализованной в царствование ее сына Павла I и внука Александра I:
«Устройство бульваров есть щастливая выдумка, ибо это придало неимоверную красоту древней нашей столице». Белинский, «неистовый Виссарион», властитель дум читающей России и «революционный демократ», сравнивая Петербург и Москву, писал в 1845 году, что истинный петербуржец не удержался бы от громкого междометия, «если бы, пройдя круг опоясывающих Москву бульваров, – лучшего ее украшения, которому Петербург имеет полное право завидовать, – он, то спускаясь под гору, то подымаясь в гору, видел бы со всех сторон амфитеатры крыш, перемешанных с зеленью садов».
Другой московский литератор, Михаил Дмитриев, обвинивший Белинского в «покушении на лучшие традиции русской литературы», проявил с ним единодушие по отношению к бульварам. В полемическом стихотворении «Московская жизнь», датированном 15 июля 1845 года, помянул их в одном ряду с Кремлем и садами:
Кремль же седой наш? —
старик величав, а смотрите как весел!
Где его рвы и валы?
– Да завалены рвы под садами;
Срыты валы —
И на них как зеленая лента бульвары.
Спустя год, впервые увидавший Москву Николай Чернышевский, другой чтимый в русской истории и литературе «революционный демократ», поплатившийся свободой за призыв: «К топору зовите Русь», – подобно Белинскому поразился представшим к тому времени во всей красе липам: «Особую прелесть придают городу бульвары, густота деревьев удивительна».
По-видимому, при суровом Николае I порядка на улицах Москвы было больше, чем после воцарения либерального Александра II. После отмены крепостного права в 1862 году перед приездом в Москву императора генерал-губернатор Павел Тучков распорядился осмотреть бульвары, к тому времени запущенные. Зрелище предстало безотрадное. По словам газеты «Московские ведомости», осмотр «открыл большие беспорядки: деревьев не досчитывалось тысячами, барьер был поломан, газон измят, дорожки неудобны для ходьбы, на бульварах гуляли домашние животные окрестных владельцев, а зимой некоторые из последних сваливали на бульвары сорный снег с мостовых».
В результате после принятых мер появилась новая ограда, цветники, посажены молодые деревья, бульвары перешли в ведение появившейся Московской городской думы и стали неизменным местом прогулок и свиданий.
Большие перемены происходили по сторонам проездов. Во второй половине ХIХ века усадьбы в духе классицизма, где проживала одна семья с дворней, исчезали. Их вытесняли доходные дома в стилях, возникших в Европе: эклектики и модерна. Сады во дворах вырубались, новые здания становились выше и больше. Квартиры заселяли расплодившиеся чиновники, присяжные поверенные, врачи, профессора, преуспевавшие артисты и литераторы. Вдоль оград бульваров протянулись рельсы, покатили по ним вагоны на конной тяге.
В отличие от особняков ХVIII–ХIХ веков доходные дома, считавшиеся «буржуазными», советское государство не охраняло. До последних лет их фасады при капитальном ремонте лишались лица, здания сносили, чему способствовал установившийся взгляд на эклектику и модерн как на явления упадка. «Романтические ампирные особняки начала ХIХ века либо перестраиваются до неузнаваемости, либо уступают место громоздким домам-сундукам», – писал автор советского путеводителя «Московские бульвары» Юрий Федосюк. Как только он обращал внимание на доходный дом, так тотчас находил для него унижающие определения: «отделка домов богатая, но маловыразительная», они «вычурные», у них «тяжелые надоконные украшения» и так далее.
Дойдя до так называемого «Соловьиного дома» на Никитском бульваре, 6, не преминул высказаться, что «в архитектурном отношении дом № 6 невыразителен». Это здание, появившееся между бульваром и Калашным переулком, ничем не напоминало ампирный особняк. Протяженные выступы, карнизы, членили фасад на четыре этажа, заимствованный у классики руст, имитирующий кладку стен из крупных камней, выделял нижний этаж, все это и другие детали фасада выдавали столетний возраст здания и стиль, достойный уважения и охраны.
Дом за сто лет капитально не ремонтировался, обветшал настолько, что в другом путеводителе по Москве назван «неприглядным». Строение не имело статуса памятника архитекторы. Жильцов насильно отселили в «смутные годы», и дом разрушили в конце ХХ века, когда все еще не установилось ясного понимания ценности эклектики. А как бы к ней ни относились, именно она и модерн придали центру Москвы неповторимость и красоту.
Прав автор «Московских бульваров» в одном: «история здания интересна». В конце ХIХ века на месте бывшего особняка княгини Варвары Голицыной и директора императорских театров Федора Кокошкина появился доходный дом. Им владел инженер путей сообщения Александр Шмит, строитель железной дороги между Петербургом и Москвой. Он унаследовал на Пресне, на Прудовой улице, ныне Дружиниковской, мебельную фабрику, основанную в 1817 году Матвеем Шмитом, выходцем из Риги. На воротах каменного здания фабрики вывеска гласила: «Поставщик двора Его Императорского Величества». Мебелью Шмита из красного дерева пополнялись царские дворцы и богатые дома. За инженера-фабриканта вышла замуж Вера Викуловна Морозова. Таким образом, потомок латыша породнился с «Викулычами», одной из ветвей династии Морозовых – богатейших текстильных фабрикантов России. Сын Александра Шмита Николай в 21 год, будучи студентом Московского университета, унаследовал фабрику на Пресне.
Развивать семейное дело Николай не стремился. Подобно дяде Савве Морозову вносил крупные суммы в партийную кассу большевиков. Максим Горький представил «фабриканта-революционера» Ленину. Николай Шмит вооружил боевую дружину из своих рабочих маузерами, которых не было у московской полиции. Учился с ними в подвале машинного зала фабрики стрелять по мишеням, а в дни революции 1905 года убивал полицейских. Они прозвали фабрику, где засела дружина, «чертовым гнездом». На кладбищах Москвы хоронили в те дни убитых. Вместо мебели фабрика делала гробы. Артиллерия Семеновского полка сровняла с землей «чертово гнездо», а хозяин фабрики попал в Бутырскую тюрьму. По волеизъявлению, заверенному нотариусом тюрьмы, унаследованные капиталы Шмит, договорившись с сестрами, завещал партии Ленина. Перед выходом на поруки его нашли в камере с перерезанным осколком разбитого оконного стекла горлом. В честь «фабриканта-революционера»» назван Шмитовский проезд, в его начале барельеф в бронзе на камне памятника увековечил в студенческой тужурке профиль юного Николая.
В энциклопедии «Москва» 1980 года ему посвящена прочувствованная статья «Шмит, Николай Павлович». В энциклопедии «Москва» 1997 года – о нем ни слова. Кем был Шмит – героем или тем, кого надо забыть? Ясно мне одно, что если фабриканты вооружали рабочих, значит, революция была неизбежна. О бывшем доме Шмита на Никитском бульваре, 6, писал Александр Родин, живший в нем с 1914 года до кончины в 1963 году. Посмертно, в годы «оттепели», вышли его воспоминания «Из минувшего». Родин закончил в 1917 году Коммерческий институт, призванием его была педагогика, история, когда заниматься ею в СССР, как политикой, стало опасно для жизни. Историков сажали в тюрьмы, судили, расстреливали, ссылали в лагеря, а тех, кому повезло, возвращали на кафедры.
– После того как меня арестовали и допрашивали на Лубянке, – рассказал мне историк-москвовед Владимир Брониславович Муравьев, в молодости попавший в лагерь, на лесоповал, – следователи, судя по их вопросам, пытались и Родина посадить. Досье на него и учеников на Лубянке завели».
Навсегда запомнилась Муравьеву зима 1941 года. Город на осадном положении. Кто мог – эвакуировался. Уроки в школе отменили, ходил он голодный в холодный дворец пионеров в переулке Стопани. Занятия исторического кружка вел Родин, свидетель мировой войны и трех революций. Водил Александр Феоктистович учеников в Московский областной архив, там снял копии с исповедальных записей церкви, упоминавших семью Александра Суворова. Родину на глаза попался документ, написанный рукой отца генералиссимуса, позволивший точно установить, что его великий сын родился 13 ноября 1729 года, а не 1730 года, как считалось.
– Когда редакторы воспоминаний спрашивали у Родина: «Из какого источника вы это взяли», – он отвечал: «Я сам источник!» – вспомнил автор книг о Москве Сигурд Оттович Шмидт. По его словам, когда дом на Никитском бульваре, 6 в 1997 году сносили и выселяли жильцов, семья Родина, жена и дочь, не смогла сохранить архив. Небольшая его часть попала ему в руки.
«Мужественным и стойким» назвал Родина, сравнивая с лжецами-историками, другой ученик, запомнивший, как занесенной снегом Москвой ходил в кружок и домой к учителю, где можно было рыться в книгах библиотеки.
В доме на Никитском бульваре, 6 жил до переезда в 1901 году на казенную квартиру в новом здании Московской консерватории дирижер Василий Сафонов. О нем пишут в энциклопедии «Москва»: «сын казачьего офицера», а на самом деле генерал-лейтенанта, командира Терской казачьей дивизии. В 33 года профессора Петербургской консерватории, в детстве ученика Александра Виллуана, воспитавшего Антона и Григория Рубинштейнов, в Москву пригласил Чайковский. Из фортепианного класса Сафонова вышли Скрябин, Метнер, сестры Елена и Евгения Гнесины…
Обладая выдающимся талантом организатора, профессор стал директором Московской консерватории и возглавил комиссию, задавшуюся целью построить на Большой Никитской улице новое здание и Большой концертный зал с органом. Сафонов сумел привлечь деньги меценатов (купец Солодовников пожертвовал 100 000 рублей) и казны, чему способствовала жена, дочь министра финансов Вышеградского. Студенты острили:
Казак терский,
Зять министерский…
С лучшей в мире акустикой Большой зал открылся выступлением симфонического оркестра, которым дирижировал Сафонов, к удивлению публики, без палочки.
В годы революции 1905 года свободолюбивые студенты сочли директора, убежденного монархиста, «черносотенцем», устроили ему обструкцию. Подавший в отставку и уехавший из Москвы Сафонов прославился в Европе и Америке как дирижер. Три года возглавлял Нью-Йоркский симфонический оркестр и Нью-Йоркскую консерваторию.
Жена Сафонова родила десять детей. Дочь Анна появилась на свет в июле 1893 года, когда семья занимала квартиру в доме на Никитском бульваре, а на лето уезжала на родину отца. Анна училась рисованию и живописи. В восемнадцать лет, окончив московскую гимназию, вышла замуж за морского офицера Сергея Темирева, будущего адмирала. На Балтике, где зимовал российский флот, она встречает капитана первого ранга Колчака.
Это имя в школе я запомнил в связи с частушкой, услышанной на уроке истории:
Мундир английский,
Табак японский,
Патрон французский,
Правитель омский.
Учил, что адмирал Колчак, как генерал Деникин, барон Врангель, враг революции и народа, разбитый Красной армией. Не знал, что адмирал в числе первых исследовал Арктику, открытые им острова называли именем Колчака и его невесты Софьи, что адмирал блестяще командовал Черноморским флотом, базировавшимся в Севастополе.
Начавшийся на Балтике с Анной «почтовый» роман в письмах стал явным для жены адмирала. «Я вас больше чем люблю», – признался сорокалетний адмирал двадцатилетней женщине, влюбившейся в него с первого взгляда. В Гражданскую войну в Омске роман оборвался в час ареста адмирала, за которым последовала казнь.
А.В. Колчак в полярной экспедиции
Никогда Анна Темирева не жалела, что связала свою судьбу с возлюбленным, расстрелянным на льду Ангары. По легенде, якобы перед расстрелом Колчак запел «любимый романс»:
Гори, гори, моя звезда,
Гори, звезда приветная!
Согласно другой легенде, где фигурирует один Буся, после выступления в Кремле и премии, 5000 рублей, Сталин пошутил: «Ну, Буся, теперь ты стал капиталистом, наверное, настолько зазнаешься, что не захочешь пригласить нас в гости». И услышал якобы неожиданно в ответ: «Я бы с большой радостью пригласил вас к себе, но мы живем в тесной квартире, и вас негде будет посадить». Не миф, а факт: квартиру в Москве 13-летний скрипач получил в новом доме на Земляном Валу, 14–16, построенном в 1934 году.
О Бусе, как о Чапаеве, слагали анекдоты. Ходил он якобы до старости в коротких штанишках. В тех, в которых выступал перед Сталиным. Сочиняли анекдоты о его маме, говорившей в кабинетах начальников, якобы как еврейки на одесском Привозе. Пишут, что талант вундеркинда угас. Поводы для легенд и анекдотов были.
До войны, в 13 и 15 лет, Гольдштейн возвращался в Москву лауреатом международных конкурсов. Ввойну, будучи студентом, выезжал на фронта. Когда играл музыку Бетховена и громкоговорители доносили звуки скрипки до германских окопов, немцы прекращали стрелять. Полгода выступал на Северном флоте. Запустил учебу, не сдал экзамен по истории ВКП(б). Его исключили из Московской консерватории и восстановили спустя десять лет, в год смерти Сталина.
За тридцать пять лет солист Московской филармонии в капиталистической стране выступил единственный раз. Студия записи «Мелодия» годами не записывала игру Буси – Бориса Гольдштейна, которая поражала уникальным звуком, «нежным и резким, мягким и жестким, смелым и застенчивым». (Заступился за него Шостакович.) Ему не давали в концертных залах Москвы играть то, что любил. Отправляли на гастроли туда, где мало кто хотел слушать классическую музыку.
Почему? Его биограф пишет, что разгадку травли надо искать в архивах Министерства культуры. Мне кажется, причина дискриминации на поверхности, и не в «пятом пункте», как можно подумать. Причину назвал Лев Харитон. Его отец, адвокат, восемь раз выступал в судах, разводивших «доброго, мягкого и простодушного» Бориса с женами. «Газеты, – по его словам, – стали писать о “развратнике”. Был жуткий фельетон в “Комсомольской правде”, который читала тогда вся Москва». За подобное «моральное разложение» после публикации пасквилей загнали в угол замечательного артиста.
Арнольд Каплан (справа) и скрипач Борис Гольдштейн
Из западни вышел способом, которым при Брежневе воспользовались многие евреи в СССР. Начал новую жизнь в 52 года на Западе и быстро завоевал признание. В начале 1987 года, после гастролей в Испании, музыкальный критик задал вопрос: «Почему нам никто не сказал, что так можно играть на скрипке?» В марте того года не «забитый и забытый» дал последний концерт в Иерусалиме и полгода спустя умер.
«Больше чем любовь». Заветная звезда адмирала Колчака
В отличие от первого в Москве Тверского бульвара, разбитого летом 1796 года, не известно точно в каком году зазеленели липы на Никитском бульваре. Прошло четверть века, прежде чем взамен разобранных стен Белого города центр Москвы стянули полукольцом десять разросшихся аллей. С тех пор их начали упоминать путеводители и писатели.
Одним из первых это сделал литератор Сергей Глинка, старший брат Федора Глинки, оставившего нам незабываемые романсы «Не слышно шума городского» и «Вот мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой». На его слова вслед за Верстовским, жившим на Никитском бульваре, писали музыку другие композиторы. Стало хрестоматийным его стихотворение «Москва»:
Город чудный. Город древний.
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы!
За двести лет до появления в наши дни «Русского журнала» и «Русского репортера» Сергей Глинка издавал в Москве «Русский вестник» в пику «Вестнику Европы» Карамзина. Современникам писатель был известен тем, что отпустил на волю своих крепостных, первый записался в московское ополчение 1812 года, словами и делами заслужил звание «народного трибуна». О себе писал, что в Москве «жил с народом на улицах и площадях, на рынках». С французского первый перевел «Марсельезу» и написал путеводитель по Москве, где бульварам, ставшим достопримечательностью, посвящено несколько строк: «Бульвары простираются полукругом около Белого города, и оба конца их прилегают к Москве-реке».
В московском альманахе 1829 года появилась похвала Сергея Глинки идее Екатерины II, реализованной в царствование ее сына Павла I и внука Александра I:
«Устройство бульваров есть щастливая выдумка, ибо это придало неимоверную красоту древней нашей столице». Белинский, «неистовый Виссарион», властитель дум читающей России и «революционный демократ», сравнивая Петербург и Москву, писал в 1845 году, что истинный петербуржец не удержался бы от громкого междометия, «если бы, пройдя круг опоясывающих Москву бульваров, – лучшего ее украшения, которому Петербург имеет полное право завидовать, – он, то спускаясь под гору, то подымаясь в гору, видел бы со всех сторон амфитеатры крыш, перемешанных с зеленью садов».
Другой московский литератор, Михаил Дмитриев, обвинивший Белинского в «покушении на лучшие традиции русской литературы», проявил с ним единодушие по отношению к бульварам. В полемическом стихотворении «Московская жизнь», датированном 15 июля 1845 года, помянул их в одном ряду с Кремлем и садами:
Кремль же седой наш? —
старик величав, а смотрите как весел!
Где его рвы и валы?
– Да завалены рвы под садами;
Срыты валы —
И на них как зеленая лента бульвары.
Спустя год, впервые увидавший Москву Николай Чернышевский, другой чтимый в русской истории и литературе «революционный демократ», поплатившийся свободой за призыв: «К топору зовите Русь», – подобно Белинскому поразился представшим к тому времени во всей красе липам: «Особую прелесть придают городу бульвары, густота деревьев удивительна».
По-видимому, при суровом Николае I порядка на улицах Москвы было больше, чем после воцарения либерального Александра II. После отмены крепостного права в 1862 году перед приездом в Москву императора генерал-губернатор Павел Тучков распорядился осмотреть бульвары, к тому времени запущенные. Зрелище предстало безотрадное. По словам газеты «Московские ведомости», осмотр «открыл большие беспорядки: деревьев не досчитывалось тысячами, барьер был поломан, газон измят, дорожки неудобны для ходьбы, на бульварах гуляли домашние животные окрестных владельцев, а зимой некоторые из последних сваливали на бульвары сорный снег с мостовых».
В результате после принятых мер появилась новая ограда, цветники, посажены молодые деревья, бульвары перешли в ведение появившейся Московской городской думы и стали неизменным местом прогулок и свиданий.
Большие перемены происходили по сторонам проездов. Во второй половине ХIХ века усадьбы в духе классицизма, где проживала одна семья с дворней, исчезали. Их вытесняли доходные дома в стилях, возникших в Европе: эклектики и модерна. Сады во дворах вырубались, новые здания становились выше и больше. Квартиры заселяли расплодившиеся чиновники, присяжные поверенные, врачи, профессора, преуспевавшие артисты и литераторы. Вдоль оград бульваров протянулись рельсы, покатили по ним вагоны на конной тяге.
В отличие от особняков ХVIII–ХIХ веков доходные дома, считавшиеся «буржуазными», советское государство не охраняло. До последних лет их фасады при капитальном ремонте лишались лица, здания сносили, чему способствовал установившийся взгляд на эклектику и модерн как на явления упадка. «Романтические ампирные особняки начала ХIХ века либо перестраиваются до неузнаваемости, либо уступают место громоздким домам-сундукам», – писал автор советского путеводителя «Московские бульвары» Юрий Федосюк. Как только он обращал внимание на доходный дом, так тотчас находил для него унижающие определения: «отделка домов богатая, но маловыразительная», они «вычурные», у них «тяжелые надоконные украшения» и так далее.
Дойдя до так называемого «Соловьиного дома» на Никитском бульваре, 6, не преминул высказаться, что «в архитектурном отношении дом № 6 невыразителен». Это здание, появившееся между бульваром и Калашным переулком, ничем не напоминало ампирный особняк. Протяженные выступы, карнизы, членили фасад на четыре этажа, заимствованный у классики руст, имитирующий кладку стен из крупных камней, выделял нижний этаж, все это и другие детали фасада выдавали столетний возраст здания и стиль, достойный уважения и охраны.
Дом за сто лет капитально не ремонтировался, обветшал настолько, что в другом путеводителе по Москве назван «неприглядным». Строение не имело статуса памятника архитекторы. Жильцов насильно отселили в «смутные годы», и дом разрушили в конце ХХ века, когда все еще не установилось ясного понимания ценности эклектики. А как бы к ней ни относились, именно она и модерн придали центру Москвы неповторимость и красоту.
Прав автор «Московских бульваров» в одном: «история здания интересна». В конце ХIХ века на месте бывшего особняка княгини Варвары Голицыной и директора императорских театров Федора Кокошкина появился доходный дом. Им владел инженер путей сообщения Александр Шмит, строитель железной дороги между Петербургом и Москвой. Он унаследовал на Пресне, на Прудовой улице, ныне Дружиниковской, мебельную фабрику, основанную в 1817 году Матвеем Шмитом, выходцем из Риги. На воротах каменного здания фабрики вывеска гласила: «Поставщик двора Его Императорского Величества». Мебелью Шмита из красного дерева пополнялись царские дворцы и богатые дома. За инженера-фабриканта вышла замуж Вера Викуловна Морозова. Таким образом, потомок латыша породнился с «Викулычами», одной из ветвей династии Морозовых – богатейших текстильных фабрикантов России. Сын Александра Шмита Николай в 21 год, будучи студентом Московского университета, унаследовал фабрику на Пресне.
Развивать семейное дело Николай не стремился. Подобно дяде Савве Морозову вносил крупные суммы в партийную кассу большевиков. Максим Горький представил «фабриканта-революционера» Ленину. Николай Шмит вооружил боевую дружину из своих рабочих маузерами, которых не было у московской полиции. Учился с ними в подвале машинного зала фабрики стрелять по мишеням, а в дни революции 1905 года убивал полицейских. Они прозвали фабрику, где засела дружина, «чертовым гнездом». На кладбищах Москвы хоронили в те дни убитых. Вместо мебели фабрика делала гробы. Артиллерия Семеновского полка сровняла с землей «чертово гнездо», а хозяин фабрики попал в Бутырскую тюрьму. По волеизъявлению, заверенному нотариусом тюрьмы, унаследованные капиталы Шмит, договорившись с сестрами, завещал партии Ленина. Перед выходом на поруки его нашли в камере с перерезанным осколком разбитого оконного стекла горлом. В честь «фабриканта-революционера»» назван Шмитовский проезд, в его начале барельеф в бронзе на камне памятника увековечил в студенческой тужурке профиль юного Николая.
В энциклопедии «Москва» 1980 года ему посвящена прочувствованная статья «Шмит, Николай Павлович». В энциклопедии «Москва» 1997 года – о нем ни слова. Кем был Шмит – героем или тем, кого надо забыть? Ясно мне одно, что если фабриканты вооружали рабочих, значит, революция была неизбежна. О бывшем доме Шмита на Никитском бульваре, 6, писал Александр Родин, живший в нем с 1914 года до кончины в 1963 году. Посмертно, в годы «оттепели», вышли его воспоминания «Из минувшего». Родин закончил в 1917 году Коммерческий институт, призванием его была педагогика, история, когда заниматься ею в СССР, как политикой, стало опасно для жизни. Историков сажали в тюрьмы, судили, расстреливали, ссылали в лагеря, а тех, кому повезло, возвращали на кафедры.
– После того как меня арестовали и допрашивали на Лубянке, – рассказал мне историк-москвовед Владимир Брониславович Муравьев, в молодости попавший в лагерь, на лесоповал, – следователи, судя по их вопросам, пытались и Родина посадить. Досье на него и учеников на Лубянке завели».
Навсегда запомнилась Муравьеву зима 1941 года. Город на осадном положении. Кто мог – эвакуировался. Уроки в школе отменили, ходил он голодный в холодный дворец пионеров в переулке Стопани. Занятия исторического кружка вел Родин, свидетель мировой войны и трех революций. Водил Александр Феоктистович учеников в Московский областной архив, там снял копии с исповедальных записей церкви, упоминавших семью Александра Суворова. Родину на глаза попался документ, написанный рукой отца генералиссимуса, позволивший точно установить, что его великий сын родился 13 ноября 1729 года, а не 1730 года, как считалось.
– Когда редакторы воспоминаний спрашивали у Родина: «Из какого источника вы это взяли», – он отвечал: «Я сам источник!» – вспомнил автор книг о Москве Сигурд Оттович Шмидт. По его словам, когда дом на Никитском бульваре, 6 в 1997 году сносили и выселяли жильцов, семья Родина, жена и дочь, не смогла сохранить архив. Небольшая его часть попала ему в руки.
«Мужественным и стойким» назвал Родина, сравнивая с лжецами-историками, другой ученик, запомнивший, как занесенной снегом Москвой ходил в кружок и домой к учителю, где можно было рыться в книгах библиотеки.
В доме на Никитском бульваре, 6 жил до переезда в 1901 году на казенную квартиру в новом здании Московской консерватории дирижер Василий Сафонов. О нем пишут в энциклопедии «Москва»: «сын казачьего офицера», а на самом деле генерал-лейтенанта, командира Терской казачьей дивизии. В 33 года профессора Петербургской консерватории, в детстве ученика Александра Виллуана, воспитавшего Антона и Григория Рубинштейнов, в Москву пригласил Чайковский. Из фортепианного класса Сафонова вышли Скрябин, Метнер, сестры Елена и Евгения Гнесины…
Обладая выдающимся талантом организатора, профессор стал директором Московской консерватории и возглавил комиссию, задавшуюся целью построить на Большой Никитской улице новое здание и Большой концертный зал с органом. Сафонов сумел привлечь деньги меценатов (купец Солодовников пожертвовал 100 000 рублей) и казны, чему способствовала жена, дочь министра финансов Вышеградского. Студенты острили:
Казак терский,
Зять министерский…
С лучшей в мире акустикой Большой зал открылся выступлением симфонического оркестра, которым дирижировал Сафонов, к удивлению публики, без палочки.
В годы революции 1905 года свободолюбивые студенты сочли директора, убежденного монархиста, «черносотенцем», устроили ему обструкцию. Подавший в отставку и уехавший из Москвы Сафонов прославился в Европе и Америке как дирижер. Три года возглавлял Нью-Йоркский симфонический оркестр и Нью-Йоркскую консерваторию.
Жена Сафонова родила десять детей. Дочь Анна появилась на свет в июле 1893 года, когда семья занимала квартиру в доме на Никитском бульваре, а на лето уезжала на родину отца. Анна училась рисованию и живописи. В восемнадцать лет, окончив московскую гимназию, вышла замуж за морского офицера Сергея Темирева, будущего адмирала. На Балтике, где зимовал российский флот, она встречает капитана первого ранга Колчака.
Это имя в школе я запомнил в связи с частушкой, услышанной на уроке истории:
Мундир английский,
Табак японский,
Патрон французский,
Правитель омский.
Учил, что адмирал Колчак, как генерал Деникин, барон Врангель, враг революции и народа, разбитый Красной армией. Не знал, что адмирал в числе первых исследовал Арктику, открытые им острова называли именем Колчака и его невесты Софьи, что адмирал блестяще командовал Черноморским флотом, базировавшимся в Севастополе.
Начавшийся на Балтике с Анной «почтовый» роман в письмах стал явным для жены адмирала. «Я вас больше чем люблю», – признался сорокалетний адмирал двадцатилетней женщине, влюбившейся в него с первого взгляда. В Гражданскую войну в Омске роман оборвался в час ареста адмирала, за которым последовала казнь.
А.В. Колчак в полярной экспедиции
Никогда Анна Темирева не жалела, что связала свою судьбу с возлюбленным, расстрелянным на льду Ангары. По легенде, якобы перед расстрелом Колчак запел «любимый романс»:
Гори, гори, моя звезда,
Гори, звезда приветная!