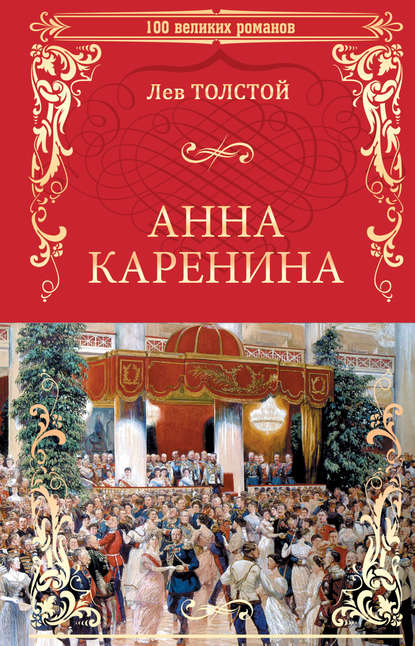По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Анна Каренина
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Анна Каренина
Лев Николаевич Толстой
100 великих романов
Роман «Анна Каренина» Льва Николаевича Толстого (1828–1910) является самой читаемой книгой в мире. По словам Достоевского, это произведение поражает «не только вседневностью содержания, но и огромной психологической разработкой души человеческой, страшной глубиной и силой».
История любви замужней женщины к блестящему офицеру, губительной для Анны, но завораживающей своей страстностью и самоотверженностью, уже более ста лет не сходит со сценических подмостков и экранизирована множество раз как в России, так и за рубежом.
Лев Николаевич Толстой
Анна Каренина
© Клех И.Ю., вступительная статья, 2017
© ООО «Издательство «Вече», 2017
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
Лев Николаевич Толстой
1828–1910
Испытание любовью
«Анна Каренина» – один из самых знаменитых романов мировой литературы. Как читать его в XXI веке? Во-первых, о чем он?
О том, что романтическая любовь обладает огромным разрушительным потенциалом? О скрытом антагонизме любви и брака, уничтожающем поочередно брак, семью, любовь, а следом и лиц, вовлеченных в беспощадную войну полов? Или о стране, в которой вдруг «всё переворотилось и только укладывается» – рушится жизненный уклад, и сами устои его поставлены под сомнение? Или же это философский роман о духовной подоплеке жизни – о мысли, опровергающей саму себя на каждом шагу, и поисках человеком нравственной опоры в себе и окружающем мире? Сам Лев Толстой (1828–1910) отвечал, что если бы мог выразиться короче, в форме четких суждений, то, несомненно, сделал бы это, а так – читайте роман, в нем все сказано и упрощенному пересказу не поддается.
Как роман о семейной жизни, любви и изменах, «Анна Каренина» Толстого затмевает другой похожий на него великий роман – «Госпожу Бовари» Флобера. Флобер заявлял, как известно, что его Эмма Бовари – это он сам, а Толстой признавался, что свою Анну он «усыновил». Не писательское это дело – осуждать собственных литературных героев. И тем не менее оба писателя дружно умертвили тех героинь, которых сами же выбрали. Француз отравил Эмму мышьяком – вышло мелкобуржуазно. Наш граф бросил Анну под поезд – и получилось героично. Возможно, последнее обстоятельство и склоняет чашу весов в пользу русского романа. Потому что помимо литературных достоинств и глубины проблематики великое произведение обязано потрясать. Анна, поезд – это уже навсегда.
Некий тогдашний критик высказал предположение, что вместо одного Толстой написал и выпустил под общей обложкой два романа. Откуда ему было знать, что рабочим названием романа на стадии черновиков было «Два брака»: то есть каренинский и лёвинский, «плохой» и «хороший», а прибавить еще семейство Облонских – так целых «три брака»!
Толстой наметил три сюжетные линии. Линию органического конформизма Облонских; линию бунта, лобового столкновения биологии, цивилизации и личного начала Вронского и Карениных; и лёвинскую линию, вымученную попытку третьего пути – на полдороге к толстовству. Титанический художник в Толстом боролся с матереющим в нем доктринером – и на поле боя, каким явилась «Анна Каренина», одержал свою самую впечатляющую победу. В результате Анна превратилась в красавицу с душой, Вронский – в максимально порядочного человека, насколько было возможно в его положении, Каренин научился страдать, а несносный для всякого моралиста тип Облонского источает такое личное обаяние, что его чары действуют даже на неуживчивого и корявого Лёвина – мученика рассудка и «альтер эго» Толстого (увы, бездарное, в отличие от своего прототипа).
Но «Анна Каренина» – это также самый «газетный» роман Толстого. Наиболее злободневные темы тех лет горячо обсуждаются на его страницах: независимые суды, пресса, земства, автономия университетов, спиритизм, дарвинизм, библейская критика и «историческая школа» в живописи и литературе, государственная коррупция, балканский вопрос, голод в России и положение крестьян, сельскохозяйственные и банковские тонкости, головокружительные карьеры пореформенного времени и фантастическое обогащение «железнодорожных королей», мало чем отличающихся от современных олигархов (ощущение дежавю может развиться от выражений вроде «чисто конкретно» или «одного боишься – это встречаться с русскими за границей»). Многое из этого и сегодня если не «горячо», то «тепло» (а в советское время казалось: прошлый век, доисторический период!). Но дело даже не в параллелях, а в общем ощущении огромной общественной сумятицы после длительного застоя, что позволяет сторонним наблюдателям называть Россию «страной хронической катастрофы» и, как встарь, ассоциировать ее с впадающим периодически в спячку медведем.
Толстой сумел сочинить зрячую книгу о перипетиях любви и семейной жизни на фоне жизни огромной страны, да так ловко увязать все линии и проблемы, что роман производит впечатление гордиева узла. Все лица здесь представлены в движении, все конфликты получают полное развитие, все элементы и качества по ходу повествования исчерпывают свои явные и потенциальные возможности, переходя в собственные противоположности. Сильное гибнет, слабое крепчает, сладкое горчит, а горькое лечит, плач успокаивает, мучитель и жертва меняются местами и т. д. Что, по Аристотелю, является первейшим признаком художественного шедевра.
Игорь Клех
Мне отмщение, и аз воздам
Часть первая
I
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский – Стива, как его звали в свете, – в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было? – думал он, вспоминая сон. – Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, – и столы пели: Il mio tesoro[1 - Мое сокровище (итал.).] и не II mio tesoro, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», – вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистый сафьян туфли и по старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» – замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.
«Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, – думал он. – Ах, ах, ах!» – приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры.
Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него.
– Что это? это? – спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился пред женой после открытия его вины. Вместо того чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным – все было бы лучше того, что он сделал! – его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», – подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.
Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа.
«Всему виной эта глупая улыбка», – думал Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что ж делать?» – с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.
II
Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.
«Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно! – твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог придумать. – И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил черные плутовские глаза m-lle Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже… Надо же это все как нарочно. Ай, ай, ай! Аяяй! Но что же, что же делать?»
Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном жизни.
«Там видно будет», – сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья.
– Из присутствия есть бумаги? – спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу.
– На столе, – отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: – От хозяина извозчика приходили.
Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: «Это зачем ты говоришь? разве ты не знаешь?»
Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина.
– Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор чтоб не беспокоили вас и себя понапрасну, – сказал он, видимо, приготовленную фразу.
Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова, и лицо его просияло.
– Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, – сказал он, остановив на минуту глянцевитую, пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами.
Лев Николаевич Толстой
100 великих романов
Роман «Анна Каренина» Льва Николаевича Толстого (1828–1910) является самой читаемой книгой в мире. По словам Достоевского, это произведение поражает «не только вседневностью содержания, но и огромной психологической разработкой души человеческой, страшной глубиной и силой».
История любви замужней женщины к блестящему офицеру, губительной для Анны, но завораживающей своей страстностью и самоотверженностью, уже более ста лет не сходит со сценических подмостков и экранизирована множество раз как в России, так и за рубежом.
Лев Николаевич Толстой
Анна Каренина
© Клех И.Ю., вступительная статья, 2017
© ООО «Издательство «Вече», 2017
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
Лев Николаевич Толстой
1828–1910
Испытание любовью
«Анна Каренина» – один из самых знаменитых романов мировой литературы. Как читать его в XXI веке? Во-первых, о чем он?
О том, что романтическая любовь обладает огромным разрушительным потенциалом? О скрытом антагонизме любви и брака, уничтожающем поочередно брак, семью, любовь, а следом и лиц, вовлеченных в беспощадную войну полов? Или о стране, в которой вдруг «всё переворотилось и только укладывается» – рушится жизненный уклад, и сами устои его поставлены под сомнение? Или же это философский роман о духовной подоплеке жизни – о мысли, опровергающей саму себя на каждом шагу, и поисках человеком нравственной опоры в себе и окружающем мире? Сам Лев Толстой (1828–1910) отвечал, что если бы мог выразиться короче, в форме четких суждений, то, несомненно, сделал бы это, а так – читайте роман, в нем все сказано и упрощенному пересказу не поддается.
Как роман о семейной жизни, любви и изменах, «Анна Каренина» Толстого затмевает другой похожий на него великий роман – «Госпожу Бовари» Флобера. Флобер заявлял, как известно, что его Эмма Бовари – это он сам, а Толстой признавался, что свою Анну он «усыновил». Не писательское это дело – осуждать собственных литературных героев. И тем не менее оба писателя дружно умертвили тех героинь, которых сами же выбрали. Француз отравил Эмму мышьяком – вышло мелкобуржуазно. Наш граф бросил Анну под поезд – и получилось героично. Возможно, последнее обстоятельство и склоняет чашу весов в пользу русского романа. Потому что помимо литературных достоинств и глубины проблематики великое произведение обязано потрясать. Анна, поезд – это уже навсегда.
Некий тогдашний критик высказал предположение, что вместо одного Толстой написал и выпустил под общей обложкой два романа. Откуда ему было знать, что рабочим названием романа на стадии черновиков было «Два брака»: то есть каренинский и лёвинский, «плохой» и «хороший», а прибавить еще семейство Облонских – так целых «три брака»!
Толстой наметил три сюжетные линии. Линию органического конформизма Облонских; линию бунта, лобового столкновения биологии, цивилизации и личного начала Вронского и Карениных; и лёвинскую линию, вымученную попытку третьего пути – на полдороге к толстовству. Титанический художник в Толстом боролся с матереющим в нем доктринером – и на поле боя, каким явилась «Анна Каренина», одержал свою самую впечатляющую победу. В результате Анна превратилась в красавицу с душой, Вронский – в максимально порядочного человека, насколько было возможно в его положении, Каренин научился страдать, а несносный для всякого моралиста тип Облонского источает такое личное обаяние, что его чары действуют даже на неуживчивого и корявого Лёвина – мученика рассудка и «альтер эго» Толстого (увы, бездарное, в отличие от своего прототипа).
Но «Анна Каренина» – это также самый «газетный» роман Толстого. Наиболее злободневные темы тех лет горячо обсуждаются на его страницах: независимые суды, пресса, земства, автономия университетов, спиритизм, дарвинизм, библейская критика и «историческая школа» в живописи и литературе, государственная коррупция, балканский вопрос, голод в России и положение крестьян, сельскохозяйственные и банковские тонкости, головокружительные карьеры пореформенного времени и фантастическое обогащение «железнодорожных королей», мало чем отличающихся от современных олигархов (ощущение дежавю может развиться от выражений вроде «чисто конкретно» или «одного боишься – это встречаться с русскими за границей»). Многое из этого и сегодня если не «горячо», то «тепло» (а в советское время казалось: прошлый век, доисторический период!). Но дело даже не в параллелях, а в общем ощущении огромной общественной сумятицы после длительного застоя, что позволяет сторонним наблюдателям называть Россию «страной хронической катастрофы» и, как встарь, ассоциировать ее с впадающим периодически в спячку медведем.
Толстой сумел сочинить зрячую книгу о перипетиях любви и семейной жизни на фоне жизни огромной страны, да так ловко увязать все линии и проблемы, что роман производит впечатление гордиева узла. Все лица здесь представлены в движении, все конфликты получают полное развитие, все элементы и качества по ходу повествования исчерпывают свои явные и потенциальные возможности, переходя в собственные противоположности. Сильное гибнет, слабое крепчает, сладкое горчит, а горькое лечит, плач успокаивает, мучитель и жертва меняются местами и т. д. Что, по Аристотелю, является первейшим признаком художественного шедевра.
Игорь Клех
Мне отмщение, и аз воздам
Часть первая
I
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский – Стива, как его звали в свете, – в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было? – думал он, вспоминая сон. – Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, – и столы пели: Il mio tesoro[1 - Мое сокровище (итал.).] и не II mio tesoro, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», – вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистый сафьян туфли и по старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» – замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.
«Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, – думал он. – Ах, ах, ах!» – приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры.
Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него.
– Что это? это? – спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился пред женой после открытия его вины. Вместо того чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным – все было бы лучше того, что он сделал! – его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», – подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.
Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа.
«Всему виной эта глупая улыбка», – думал Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что ж делать?» – с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.
II
Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.
«Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно! – твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог придумать. – И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил черные плутовские глаза m-lle Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже… Надо же это все как нарочно. Ай, ай, ай! Аяяй! Но что же, что же делать?»
Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном жизни.
«Там видно будет», – сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья.
– Из присутствия есть бумаги? – спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу.
– На столе, – отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: – От хозяина извозчика приходили.
Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: «Это зачем ты говоришь? разве ты не знаешь?»
Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина.
– Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор чтоб не беспокоили вас и себя понапрасну, – сказал он, видимо, приготовленную фразу.
Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова, и лицо его просияло.
– Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, – сказал он, остановив на минуту глянцевитую, пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами.