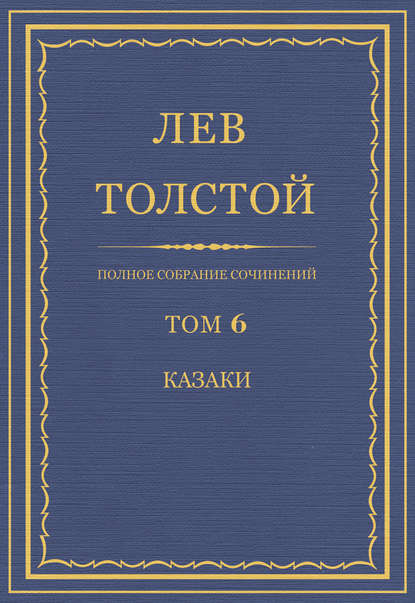По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 6. Казаки
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что ж, не пустила?
– А то пустить! Я раз слово сказала, и будет! Твердо, как камень, – серьезно отвечала Марьяна.
– А молодец! Только захоти, никакая девка им не побрезгает.
– Пускай к другим ходит, – гордо ответила Марьяна.
– Не жалеешь ты его?
– Жалею, а глупости не сделаю. Это дурно.
Устенька вдруг упала головой на грудь подруге, обхватила ее руками и вся затряслась от давившего ее смеха. – Глупая ты дура! – проговорила она запыхавшись: – счастья себе не хочешь, – и опять принялась щекотать Марьяну.
– Ай, брось! – говорила Марьяна, вскрикивая сквозь смех. – Лазутку раздавила.
– Вишь, черти, разыгрались, не умаялись, – послышался опять из-за арбы сонный голос старухи.
– Счастья не хочешь, – повторила Устенька шопотом и привставая. – А счастлива ты, ей-Богу! Как тебя любят! Ты корявая такая, а тебя любят. Эх, кабы я да на твоем месте была, я бы постояльца вашего так окрутила! Посмотрела я на него, как у нас были, так, кажется, и съел бы он тебя глазами. Мой дедушка – и тот чего мне не надавал! А ваш, слышь, из русских богач первый. Его денщик сказывал, что у них свои холопи есть.
Марьяна привстала и, задумавшись, улыбнулась.
– Чт? он мне раз сказал, постоялец-то, – проговорила она, перекусывая травинку. – Говорит: я бы хотел казаком, Лукашкой быть или твоим братишкой, Лазуткой. К чему это он так сказал?
– А так, врет, чт? на ум взбрело, – отвечала Устенька. – Мой чего не говорит! Точно порченый!
Марьяна бросилась головой на свернутый бешмет, кинула руку на плечо Устеньке и закрыла глаза.
– Нынче хотел в сады работать прийти; его батюшка звал, – проговорила она, помолчав немного, и заснула.
XXXI.
Солнце вышло уже из-за груши, отенявшей арбу, и косыми лучами, даже сквозь ветви, переплетенные Устенькой, жгло лица девок, спавших под арбой. Марьяна проснулась и стала убираться платком. Оглядевшись кругом, она увидала за грушей постояльца, который с ружьем на плече стоял и разговаривал с ее отцом. Она толконула Устеньку и молча, улыбнувшись, указала ей на него.
– Вчера я ходил, ни одного не нашел, – говорил Оленин, беспокойно поглядывая кругом и из-за веток не видя Марьяны.
– А вы вон к тому краю, прямо по циркулю пройдите, там в заброшенном саду, пустырем прозывается, всегда зайцы находятся, – сказал хорунжий, тотчас изменяя свой язык.
– Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать! Приходили бы лучше нам подсобить. С девками поработали бы, – весело сказала старуха. – Ну, девки, вставать! – крикнула она.
Марьяна и Устенька шептались и едва удерживались от смеха под арбой.
С тех пор как стало известно, что Оленин подарил коня в пятьдесят монетов Лукашке, хозяева его стали ласковее; особенно хорунжий, казалось, видел с удовольствием его сближение с дочерью.
– Да я не умею работать, – сказал Оленин, стараясь не смотреть сквозь зеленые ветви под арбой, где он заметил голубую рубаху и красный платок Марьяны.
– Приходи, шепталок дам, – сказала старуха.
– По казачьей гостеприимной старине, одна старушечья глупость, – сказал хорунжий, объясняя и как бы исправляя слова старухи: – в России, я думаю, не только шепталок, сколько ананасных варений и мочений кушали в свое удовольствие.
– Так в заброшенном саду есть? – спросил Оленин. – Я схожу, – и, бросив быстрый взгляд сквозь зеленые ветви, он приподнял папаху и скрылся между правильными зелеными рядами виноградника.
Уже солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лучами блестело сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. Еще издалека каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лоз и, обрывая ягоды, подошел к ней. Зарьявшая собака тоже иногда схватывала слюнявым ртом низко висевшую кисть. Раскрасневшись, засучив рукава и опустив платок ниже подбородка, Марьянка быстро срезала тяжелые кисти и складывала их в плетушку. Не выпуская из рук плети, которую она держала, она остановилась, ласково улыбнулась и снова принялась за работу. Оленин приблизился и перекинул ружье за плечи, чтоб освободить руки. «А твои где? Бог помочь! Ты одна?» хотел он сказать, но не сказал ничего и только приподнял папаху. Ему было неловко наедине с Марьянкой, но он, как будто нарочно мучая себя, подошел к ней.
– Ты этак баб из ружья застрелишь, – сказала Марьяна.
– Нет, я не стреляю.
Они оба помолчали.
– Ты бы подсобил.
Он достал ножичек и стал молча резать. Достав снизу из-под листьев тяжелую, фунта в три, сплошную кисть, в которой все ягоды сплющились одна на другую, не находя себе места, он показал ее Марьяне.
– Все резать? Эта не зелена?
– Давай сюда.
Руки их столкнулись. Оленин взял ее руку, а она, улыбаясь, глядела на него.
– Что, ты скоро замуж выйдешь? – сказал он.
Она, не отвечая, отвернулась и повела на него своими строгими глазами.
– Что, ты любишь Лукашку?
– А тебе что?
– Мне завидно.
– Легко ли!
– Право, ты такая красавица!
И ему вдруг стало страшно совестно за то, что он сказал: так пошло, казалось ему, звучали его слова. Он вспыхнул, растерялся и взял ее за обе руки.
– Какая ни есть, да не про тебя! Что смеяться-то! – отвечала Марьяна, но взгляд ее говорил, как твердо она знала, что он не смеялся.
– Как смеяться! Ежели бы ты знала, как я…
Слова звучали еще пошлее, еще несогласнее с тем, чт? он чувствовал; но он продолжал: – Я не знаю, что готов для тебя сделать…
– Отстань, смола!
Но ее лицо, ее блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, как было пошло всё, что он говорил ей, но стояла выше таких соображений; ему казалось, что она давно знала всё то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать, как он это скажет ей. «И как ей не знать, – думал он, – когда он хотел сказать ей лишь только всё то, что она сама была? Но она не хотела понимать, не хотела отвечать», думал он.
– Ау! – вдруг послышался недалеко за виноградником голосок Устеньки и ее тонкий смех. – Приходи, Митрий Андреич, мне подсоблять. Я одна! – прокричала она Оленину, высовывая из-за листьев свое круглое наивное личико.
Оленин ничего не отвечал и не двигался с места.
– А то пустить! Я раз слово сказала, и будет! Твердо, как камень, – серьезно отвечала Марьяна.
– А молодец! Только захоти, никакая девка им не побрезгает.
– Пускай к другим ходит, – гордо ответила Марьяна.
– Не жалеешь ты его?
– Жалею, а глупости не сделаю. Это дурно.
Устенька вдруг упала головой на грудь подруге, обхватила ее руками и вся затряслась от давившего ее смеха. – Глупая ты дура! – проговорила она запыхавшись: – счастья себе не хочешь, – и опять принялась щекотать Марьяну.
– Ай, брось! – говорила Марьяна, вскрикивая сквозь смех. – Лазутку раздавила.
– Вишь, черти, разыгрались, не умаялись, – послышался опять из-за арбы сонный голос старухи.
– Счастья не хочешь, – повторила Устенька шопотом и привставая. – А счастлива ты, ей-Богу! Как тебя любят! Ты корявая такая, а тебя любят. Эх, кабы я да на твоем месте была, я бы постояльца вашего так окрутила! Посмотрела я на него, как у нас были, так, кажется, и съел бы он тебя глазами. Мой дедушка – и тот чего мне не надавал! А ваш, слышь, из русских богач первый. Его денщик сказывал, что у них свои холопи есть.
Марьяна привстала и, задумавшись, улыбнулась.
– Чт? он мне раз сказал, постоялец-то, – проговорила она, перекусывая травинку. – Говорит: я бы хотел казаком, Лукашкой быть или твоим братишкой, Лазуткой. К чему это он так сказал?
– А так, врет, чт? на ум взбрело, – отвечала Устенька. – Мой чего не говорит! Точно порченый!
Марьяна бросилась головой на свернутый бешмет, кинула руку на плечо Устеньке и закрыла глаза.
– Нынче хотел в сады работать прийти; его батюшка звал, – проговорила она, помолчав немного, и заснула.
XXXI.
Солнце вышло уже из-за груши, отенявшей арбу, и косыми лучами, даже сквозь ветви, переплетенные Устенькой, жгло лица девок, спавших под арбой. Марьяна проснулась и стала убираться платком. Оглядевшись кругом, она увидала за грушей постояльца, который с ружьем на плече стоял и разговаривал с ее отцом. Она толконула Устеньку и молча, улыбнувшись, указала ей на него.
– Вчера я ходил, ни одного не нашел, – говорил Оленин, беспокойно поглядывая кругом и из-за веток не видя Марьяны.
– А вы вон к тому краю, прямо по циркулю пройдите, там в заброшенном саду, пустырем прозывается, всегда зайцы находятся, – сказал хорунжий, тотчас изменяя свой язык.
– Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать! Приходили бы лучше нам подсобить. С девками поработали бы, – весело сказала старуха. – Ну, девки, вставать! – крикнула она.
Марьяна и Устенька шептались и едва удерживались от смеха под арбой.
С тех пор как стало известно, что Оленин подарил коня в пятьдесят монетов Лукашке, хозяева его стали ласковее; особенно хорунжий, казалось, видел с удовольствием его сближение с дочерью.
– Да я не умею работать, – сказал Оленин, стараясь не смотреть сквозь зеленые ветви под арбой, где он заметил голубую рубаху и красный платок Марьяны.
– Приходи, шепталок дам, – сказала старуха.
– По казачьей гостеприимной старине, одна старушечья глупость, – сказал хорунжий, объясняя и как бы исправляя слова старухи: – в России, я думаю, не только шепталок, сколько ананасных варений и мочений кушали в свое удовольствие.
– Так в заброшенном саду есть? – спросил Оленин. – Я схожу, – и, бросив быстрый взгляд сквозь зеленые ветви, он приподнял папаху и скрылся между правильными зелеными рядами виноградника.
Уже солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лучами блестело сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. Еще издалека каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лоз и, обрывая ягоды, подошел к ней. Зарьявшая собака тоже иногда схватывала слюнявым ртом низко висевшую кисть. Раскрасневшись, засучив рукава и опустив платок ниже подбородка, Марьянка быстро срезала тяжелые кисти и складывала их в плетушку. Не выпуская из рук плети, которую она держала, она остановилась, ласково улыбнулась и снова принялась за работу. Оленин приблизился и перекинул ружье за плечи, чтоб освободить руки. «А твои где? Бог помочь! Ты одна?» хотел он сказать, но не сказал ничего и только приподнял папаху. Ему было неловко наедине с Марьянкой, но он, как будто нарочно мучая себя, подошел к ней.
– Ты этак баб из ружья застрелишь, – сказала Марьяна.
– Нет, я не стреляю.
Они оба помолчали.
– Ты бы подсобил.
Он достал ножичек и стал молча резать. Достав снизу из-под листьев тяжелую, фунта в три, сплошную кисть, в которой все ягоды сплющились одна на другую, не находя себе места, он показал ее Марьяне.
– Все резать? Эта не зелена?
– Давай сюда.
Руки их столкнулись. Оленин взял ее руку, а она, улыбаясь, глядела на него.
– Что, ты скоро замуж выйдешь? – сказал он.
Она, не отвечая, отвернулась и повела на него своими строгими глазами.
– Что, ты любишь Лукашку?
– А тебе что?
– Мне завидно.
– Легко ли!
– Право, ты такая красавица!
И ему вдруг стало страшно совестно за то, что он сказал: так пошло, казалось ему, звучали его слова. Он вспыхнул, растерялся и взял ее за обе руки.
– Какая ни есть, да не про тебя! Что смеяться-то! – отвечала Марьяна, но взгляд ее говорил, как твердо она знала, что он не смеялся.
– Как смеяться! Ежели бы ты знала, как я…
Слова звучали еще пошлее, еще несогласнее с тем, чт? он чувствовал; но он продолжал: – Я не знаю, что готов для тебя сделать…
– Отстань, смола!
Но ее лицо, ее блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, как было пошло всё, что он говорил ей, но стояла выше таких соображений; ему казалось, что она давно знала всё то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать, как он это скажет ей. «И как ей не знать, – думал он, – когда он хотел сказать ей лишь только всё то, что она сама была? Но она не хотела понимать, не хотела отвечать», думал он.
– Ау! – вдруг послышался недалеко за виноградником голосок Устеньки и ее тонкий смех. – Приходи, Митрий Андреич, мне подсоблять. Я одна! – прокричала она Оленину, высовывая из-за листьев свое круглое наивное личико.
Оленин ничего не отвечал и не двигался с места.