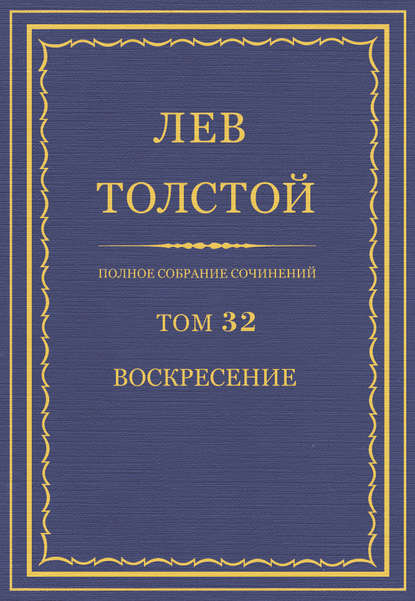По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 32. Воскресение
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И Нехлюдову, несмотря на то, что он ничего, кроме самых добрых чувств, не питал к сестре и ничего не скрывал от нее, теперь было тяжело, неловко с ней, и хотелось поскорее освободиться от нее. Он чувствовал, что нет больше той Наташи, которая когда-то была так близка ему, а есть только раба чуждого ему и неприятного черного волосатого мужа. Он ясно увидал это, потому что лицо ее осветилось особенным оживлением только тогда, когда он заговорил про то, что занимало ее мужа, – про отдачу земли крестьянам, про наследство. И это было грустно ему.
XL.
Жара в накаленном в продолжение целого дня солнцем и полном народа большом вагоне третьего класса была такая удушливая, что Нехлюдов не пошел в вагон, а остался на тормазе. Но и тут дышать нечем было, и Нехлюдов вздохнул всею грудью только тогда, когда вагоны выкатились из-за домов, и подул сквозной ветер. «Да, убили», повторил он себе слова, сказанные сестре. И в воображении его из-за всех впечатлений нынешнего дня с необыкновенной живостью возникло прекрасное лицо второго мертвого арестанта с улыбающимся выражением губ, строгим выражением лба и небольшим крепким ухом под бритым синеющим черепом. «И что ужаснее всего, это то, что убили, и никто не знает, кто его убил. А убили. Повели его, как и всех арестантов, по распоряжению Масленникова. Масленников, вероятно, сделал свое обычное распоряжение, подписал с своим дурацким росчерком бумагу с печатным заголовком и, конечно, уж никак не сочтет себя виноватым. Еще меньше может счесть себя виноватым острожный доктор, свидетельствовавший арестантов. Он аккуратно исполнил свою обязанность, отделил слабых и никак не мог предвидеть ни этой страшной жары ни того, что их поведут так поздно и такой кучей. Смотритель?.. Но смотритель только исполнил предписание о том, чтобы в такой-то день отправить столько-то каторжных, ссыльных, мужчин, женщин. Тоже не может быть виноват и конвойный, которого обязанность состояла в том, чтобы счетом принять там-то столько-то и там-то сдать столько же. Вел он партию как обыкновенно и как полагается и никак не мог предвидеть, что такие сильные люди, как те два, которых видел Нехлюдов, не выдержат и умрут. Никто не виноват, а люди убиты и убиты всё-таки этими самыми невиноватыми в этих смертях людьми».
«Сделалось всё это оттого, – думал Нехлюдов, – что все эти люди – губернаторы, смотрители, околоточные, городовые – считают, что есть на свете такие положения, в которых человеческое отношение с человеком не обязательно. Ведь все эти люда – и Масленников, и смотритель, и конвойный, – все они, если бы не были губернаторами, смотрителями, офицерами, двадцать раз подумали бы о том, можно ли отправлять людей в такую жару и такой кучей, двадцать раз дорогой остановились бы и, увидав, что человек слабеет, задыхается, вывели бы его из толпы, свели бы его в тень, дали бы воды, дали бы отдохнуть и, когда случилось несчастье, выказали бы сострадание. Они не сделали этого, даже мешали делать это другим только потому, что они видели перед собой не людей и свои обязанности перед ними, а службу и ее требования, которые они ставили выше требований человеческих отношений. В этом всё, – думал Нехлюдов. – Если можно признать, что что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном, исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя бы было совершать над людьми, не считая себя виноватым».
Нехлюдов так задумался, что и не заметил, как погода переменилась: солнце скрылось за передовым низким, разорванным облаком, и с западного горизонта надвигалась сплошная светлосерая туча, уже выливавшаяся там, где-то далеко, над полями и лесами, косым спорым дождем. От тучи тянуло влажным дождевым воздухом. Изредка тучу разрезали молнии, и с грохотом вагонов всё чаще и чаще смешивался грохот грома. Туча становилась ближе и ближе, косые капли дождя, гонимые ветром, стали пятнать площадку тормаза и пальто Нехлюдова. Он перешел на другую сторону и, вдыхая влажную свежесть и хлебный запах давно ждавшей дождя земли, смотрел на мимо бегущие сады, леса, желтеющие поля ржи, зеленые еще полосы овса и черные борозды темно-зеленого цветущего картофеля. Всё как будто покрылось лаком: зеленое становилось зеленее, желтое – желтее, черное – чернее.
– Еще, еще! – говорил Нехлюдов, радуясь на оживающие под благодатным дождем поля, сады, огороды.
Сильный дождь лил недолго. Туча частью вылилась, частью пронеслась, и на мокрую землю падали уже последние прямые, частые, мелкие капли. Солнце опять выглянуло, всё заблестело, а на востоке загнулась над горизонтом не высокая, но яркая с выступающим фиолетовым цветом, прерывающаяся только в одном конце радуга.
«Да, о чем, бишь, я думал? – спросил себя Нехлюдов, когда все эти перемены в природе кончились, и поезд спустился в выемку с высокими откосами. – Да, я думал о том, что все эти люди: смотритель, конвойные, все эти служащие, большей частью кроткие, добрые люди, сделались злыми только потому, что они служат».
Он вспомнил равнодушие Масленникова, когда он говорил ему о том, что делается в остроге, строгость смотрителя, жестокость конвойного офицера, когда он не пускал на подводы и не обратил внимания на то, что в поезде мучается родами женщина. «Все эти люди, очевидно, были неуязвимы, непромокаемы для самого простого чувства сострадания только потому, что они служили. Они, как служащие, были непроницаемы для чувства человеколюбия, как эта мощеная земля для дождя, – думал Нехлюдов, глядя на мощеный разноцветными камнями скат выемки, по которому дождевая вода не впитывалась в землю, а сочилась ручейками. – Может быть, и нужно укладывать камнями выемки, но грустно смотреть на эту лишенную растительности землю, которая бы могла родить хлеб, траву, кусты, деревья, как те, которые виднеются вверху выемки. То же самое и с людьми, – думал Нехлюдов, – может быть, и нужны эти губернаторы, смотрители, городовые, но ужасно видеть людей, лишенных главного человеческого свойства – любви и жалости друг к другу».
«Всё дело в том, – думал Нехлюдов, – что люди эти признают законом то, что не есть закон, и не признают законом то, что есть вечный, неизменный, неотложный закон, самим Богом написанный в сердцах людей. От этого-то мне и бывает так тяжело с этими людьми, – думал Нехлюдов. – Я просто боюсь их. И действительно, люди эти страшны. Страшнее разбойников. Разбойник всё-таки может пожалеть – эти же не могут пожалеть: они застрахованы от жалости, как эти камни от растительности. Вот этим-то они ужасны. Говорят, ужасны Пугачевы, Разины. Эти в тысячу раз ужаснее, – продолжал он думать. – Если бы была задана психологическая задача: как сделать так, чтобы люди нашего времени, христиане, гуманные, просто добрые люди, совершали самые ужасные злодейства, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение: надо, чтобы было то самое, что есть, надо, чтобы эти люди были губернаторами, смотрителями, офицерами, полицейскими, т. е. чтобы, во-первых, были уверены, что есть такое дело, называемое государственной службой, при котором можно обращаться с людьми, как с вещами, без человеческого, братского отношения к ним, а во-вторых, чтобы люди этой самой государственной службой были связаны так, чтобы ответственность за последствия их поступков с людьми не падала ни на кого отдельно. Вне этих условий нет возможности в наше время совершения таких ужасных дел, как те, которые я видел нынче. Всё дело в том, что люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без любви, а таких положений нет. С вещами можно обращаться без любви: можно рубить деревья, делать кирпичи, ковать железо без любви; но с людьми нельзя обращаться без любви так же, как нельзя обращаться с пчелами без осторожности. Таково свойство пчел. Если станешь обращаться с ними без осторожности, то им повредишь и себе. То же и с людьми. И это не может быть иначе, потому что взаимная любовь между людьми есть основной закон жизни человеческой. Правда, что человек не может заставить себя любить, как он может заставить себя работать, но из этого не следует, что можно обращаться с людьми без любви, особенно если чего-нибудь требуешь от них. Не чувствуешь любви к людям, сиди смирно, – думал Нехлюдов, обращаясь к себе, – занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не людьми. Как есть можно без вреда и с пользой только тогда, когда хочется есть, так и с людьми можно обращаться с пользой и без вреда только тогда, когда любишь. Только позволь себе обращаться с людьми без любви, как ты вчера обращался с зятем, и нет пределов жестокости и зверства по отношению других людей, как это я видел сегодня, и нет пределов страдания для себя, как я узнал это из всей своей жизни. Да, да, это так, – думал Нехлюдов. – Это хорошо, хорошо!» повторял он себе, испытывая двойное наслаждение – прохлады после мучительной жары и сознания достигнутой высшей ступени ясности в давно уже занимающем его вопросе.
XLI.
Вагон, в котором было место Нехлюдова, был до половины полон народом. Были тут прислуга, мастеровые, фабричные, мясники, евреи, приказчики, женщины, жены рабочих, был солдат, были две барыни: одна молодая, другая пожилая с браслетами на оголенной руке и строгого вида господин с кокардой на черной фуражке. Все эти люди, уже успокоенные после размещения, сидели смирно, кто щелкая семечки, кто куря папиросы, кто ведя оживленные разговоры с соседями.
Тарас с счастливым видом сидел направо от прохода, оберегая место для Нехлюдова, и оживленно разговаривал с сидевшим против него мускулистым человеком в расстегнутой суконной поддевке, как потом узнал Нехлюдов, садовником, ехавшим на место. Не доходя до Тараса, Нехлюдов остановился в проходе подле почтенного вида старика с белой бородой, в нанковой поддевке, разговаривавшего с молодой женщиной в деревенской одежде. Рядом с женщиной сидела, далеко не доставая ногами до пола, семилетняя девочка в новом сарафанчике с косичкой почти белых волос и не переставая щелкала семечки. Оглянувшись на Нехлюдова, старик подобрал с глянцовитой лавки, на которой он сидел один, полу своей поддевки и ласково сказал:
– Пожалуйте садиться.
Нехлюдов поблагодарил и сел на указанное место. Как только Нехлюдов уселся, женщина продолжала прерванный рассказ. Она рассказывала про то, как ее в городе принял муж, от которого она теперь возвращалась.
– Об масленницу была, да вот, Бог привел, теперь побывала, – говорила она. – Теперь, что Бог даст, на Рожество.
– Хорошее дело, – сказал старик, оглядываясь на Нехлюдова, – проведывать надо, а то человек молодой избалуется, в городе живучи.
– Нет, дедушка, мой – не такой человек. Не то что глупостей каких, он как красная девушка. Денежки все до копеечки домой посылает. А уж девчонке рад, рад был, что и сказать нельзя, – сказала женщина, улыбаясь.
Плевавшая семечки и слушавшая мать девочка, как бы подтверждая слова матери, взглянула спокойными, умными глазами в лицо старика и Нехлюдова.
– А умный, так и того лучше, – сказал старик. – А вот этим не займается? – прибавил он, указывая глазами на парочку – мужа с женой, очевидно фабричных, сидевших на другой стороне прохода.
Фабричный – муж, приставив ко рту бутылку с водкой, закинув голову, тянул из нее, а жена, держа в руке мешок, из которого вынута была бутылка, пристально смотрела на мужа.
– Нет, мой и не пьет и не курит, – сказала женщина, собеседница старика, пользуясь случаем еще раз похвалить своего мужа. – Таких людей, дедушка, мало земля родит. Вот он какой, – сказала она, обращаясь и к Нехлюдову.
– Чего лучше, – повторил старик, глядевший на пьющего фабричного.
Фабричный, отпив из бутылки, подал ее жене. Жена взяла бутылку и, смеясь и покачивая головой, приложила ее тоже ко рту. Заметив на себе взгляд Нехлюдова и старика, фабричный обратился к ним:
– Что, барин? Что пьем-то мы? Как работаем – никто не видит, а вот как пьем – все видят. Заработал – и пью и супругу потчую. И больше никаких.
– Да, да, – сказал Нехлюдов, не зная, что ответить.
– Верно, барин? Супруга моя женщина твердая! Я супругой доволен, потому она меня может жалеть. Так я говорю, Мавра?
– Ну, на, возьми. Не хочу больше, – сказала жена, отдавая ему бутылку. – И что лопочешь без толку, – прибавила она.
– Вот так-то, – продолжал фабричный, – то хороша-хороша, а то и заскрипит, как телега немазанная. Мавра, так я говорю?
Мавра, смеясь, пьяным жестом махнула рукой.
– Ну, понес…
– Вот так-то, хороша-хороша, да до поры до времени, а попади ей вожжа под хвост, она то сделает, что и вздумать нельзя… Верно я говорю. Вы меня, барин, извините. Я выпил, ну, что же теперь делать… – сказал фабричный и стал укладываться спать, положив голову на колени улыбающейся жены.
Нехлюдов посидел несколько времени с стариком, который рассказал ему про себя, что он печник, 53 года работает и склал на своем веку печей что и счету нет, а теперь собирается отдохнуть, да всё некогда. Был вот в городе, поставил ребят на дело, а теперь едет в деревню домашних проведать. Выслушав рассказ старика, Нехлюдов встал и пошел на то место, которое берег для него Тарас.
– Что ж, барин, садитесь. Мы мешок сюда примем, – ласково сказал, взглянув вверх, в лицо Нехлюдова, сидевший напротив Тараса садовник.
– В тесноте, да не в обиде, – сказал певучим голосом улыбающийся Тарас и, как перышко, своими сильными руками поднял свой двухпудовый мешок и перенес его к окну. – Места много, а то и постоять можно, и под лавкой можно. Уж на что покойно. А то вздорить! – говорил он, сияя добродушием и ласковостью.
Тарас говорил про себя, что когда он не выпьет, у него слов нет, а что у него от вина находятся слова хорошие, и он всё сказать может. И действительно, в трезвом состоянии Тарас больше молчал; когда же выпивал, что случалось с ним редко и и только в особенных случаях, то делался особенно приятно разговорчив. Он говорил тогда и много и хорошо, с большой простотою, правдивостью и, главное, ласковостью, которая так и светилась из его добрых голубых глаз и не сходящей с губ приветливой улыбки.
В таком состоянии он был сегодня. Приближение Нехлюдова на минуту остановило его речь. Но, устроив мешок, он сел по-прежнему и, положив сильные рабочие руки на колени, глядя прямо в глаза садовнику, продолжал свой рассказ. Он рассказывал своему новому знакомому во всех подробностях историю своей жены, за что ее ссылали, и почему он теперь ехал за ней в Сибирь.
Нехлюдов никогда не слыхал в подробности этого рассказа и потому с интересом слушал. Он застал рассказ в том месте, когда отравление уже совершилось, и в семье узнали, что сделала это Федосья.
– Это я про свое горе рассказываю, – сказал Тарас, задушевно дружески обращаясь к Нехлюдову. – Человек такой попался душевный, – разговорились, я и сказываю.
– Да, да, – сказал Нехлюдов.
– Ну, вот таким манером, братец ты мой, узналось дело. Взяла матушка лепешку эту самую, «иду, – говорит, – к уряднику». Батюшка у меня старик правильный. «Погоди, – говорит, – старуха, бабенка – робенок вовсе, сама не знала, что делала, пожалеть надо. Она, може, опамятуется». Куды тебе, не приняла слов никаких. «Пока мы ее держать будем, она, – говорит, – нас, как тараканов, изведет». Убралась, братец ты мой, к уряднику. Тот сейчас взбулгачился к нам… Сейчас понятых.
– Ну, а ты-то что? – спросил садовник.
– А я, братец ты мой, от живота валяюсь да блюю. Bcё нутро выворачивает, ничего и сказать не могу. Сейчас запрег батюшка телегу, посадил Федосью, – в стан, а оттуда к следователю. А она, братец ты мой, как сперначала повинилась во всем, так и следователю всё, как есть, чередом и выложила. И где мышьяк взяла и как лепешки скатала. «Зачем, – говорит, – ты сделала?» – «А потому, – говорит, – постылый он мне. Мне, – говорит, – Сибирь лучше, чем с ним жить», со мной, значит, – улыбаясь говорил Тарас. – Повинилась, значит, во всем. Известное дело, в з?мок. Батюшка один вернулся. А тут рабочая пора подходит, а баба у нас – одна матушка, да и та уж плоха. Думали, как быть, нельзя ли на поруки выручить. Поехал батюшка к начальнику к одному – не вышло, он – к другому. Начальников этих он человек пять объездил. Совсем уж было бросили хлопотать, да напался тут человечек один, из приказных. Ловкач такой, что на редкость сыскать. «Давай, – говорит, – пятерку – выручу». Сошлись на трешнице. Что ж, братец ты мой, я ее же холсты заложил, дал. Как написал он эту бумагу, – протянул Тарас, точно он говорил о выстреле, – сразу вышло. Я сам в те поры уж поднялся, сам за ней в город ездил. Приехал я, братец ты мой, в город. Сейчас кобылу на двор поставил, взял бумагу, прихожу в з?мок. «Чего тебе?» Так и так, говорю, хозяйка моя тут у вас заключена. «А бумага, – говорит, – есть?» Сейчас подал бумагу. Глянул он. «Подожди», говорит. Присел я тут на лавочке. Солнце уж за-полдни перешло. Выходит начальник: «ты, – говорит, – Варгушов?» – Я самый. – «Ну, получай», говорит. Сейчас отворили ворота. Вывели ее в одежде в своей, как должно. «Что же, пойдем». – «А ты разве пешой?» – «Нет, я на лошади». Пришли на двор, расчелся я за постой и запрег кобылу, подбил сенца, что осталось, под веретье. Села она, укуталась платком. Поехали. Она молчит, и я молчу. Только стали подъезжать к дому, она и говорит: «А что, матушка жива?» Я говорю: «жива». «А батюшка жив?» – «Жив». – «Прости, – говорит, – меня, Тарас, за мою глупость. Я и сама не знала, что делала». А я говорю: «Много баить не подобаить – давно простил». Больше и говорить не стал. Приехали домой, сейчас она матушке в ноги. Матушка говорит: «Бог простит». А батюшка поздоровкался и говорит: «Что старое поминать. Живи как получше. Нынче, – говорит, – время не такое: с поля убираться надо. За скородным, – говорит, – на навозном осьминнике рожь-матушка такая, Бог дал, родилась, что и крюк не берет, переплелась вся и полегла постелью. Выжать надо. Вот ты с Тараской поди завтра, пожнись». И взялась она, братец ты мой, с того часа работать. Да так работать стала, что на удивление. У нас тогда три десятины наемные были, а Бог дал, что рожь, что овес уродились на редкость. Я кошу, она вяжет, а то оба жнем. Я на работу ловок, из рук не вывалится, а она еще того ловчее, за что ни возьмется. Баба ухватистая да молодая, в соку. И к работе, братец ты мой, такая завистливая стала, что уж я ее укорачиваю. Придем домой, пальцы раздуются, руки гудут, отдохнуть бы надо, а она, не ужинамши, бежит в сарай, на утро свясла готовит. Что сделалось!
– И что ж, и к тебе ласкова стала? – спросил садовник.
– И не говори, так присмолилась ко мне, что как одна душа. Что я вздумаю, она понимает. Уж и матушка, на что сердита, и та говорит: «Федосью нашу точно подменили, совсем другая баба стала». Едем раз на-двоем за снопами, в одной передней сидим с ней. Я и говорю: «Как же ты это, Федосья, то дело вздумала?» – «А как вздумала, – говорит, – не хотела с тобой жить. Лучше, думаю, умру, да не стану». – «Ну, а теперь, – говорю?» – «А теперь, – говорит, – ты у меня у сердце». – Тарас остановился и, радостно улыбаясь, удивленно покачал головой. – Только убрались с поля, повез я пеньку мочить, приезжаю домой, – подождал он, помолчав, – глядь, повестка – судить. А мы и думать забыли, за что судить-то.
– Не иначе это, что нечистый, – сказал садовник, – разве сам человек может вздумать душу загубить? Так-то у нас человек один… – и садовник начал было рассказывать, но поезд стал останавливаться.
– Никак станция, – сказал он, – пойти напиться.
Разговор прекратился, и Нехлюдов вслед за садовником вышел из вагона на мокрые доски платформы.
XLII.
Нехлюдов, еще не выходя из вагона, заметил на дворе станции несколько богатых экипажей, запряженных четвернями и тройками сытых, побрякивающих бубенцами лошадей; выйдя же на потемневшую от дождя мокрую платформу, он увидал перед первым классом кучку народа, среди которой выделялась высокая толстая дама в шляпе с дорогими перьями, в ватерпруфе, и длинный молодой человек с тонкими ногами, в велосипедном костюме, с огромной сытой собакой в дорогом ошейнике. За ними стояли лакеи с плащами и зонтиками и кучер, вышедшие встречать. На всей этой кучке, от толстой барыни до кучера, поддерживавшего рукой полы длинного кафтана, лежала печать спокойной самоуверенности и избытка. Вокруг этой кучки тотчас же образовался круг любопытных и подобострастных перед богатством людей: начальник станции в красной фуражке, жандарм, всегда присутствующая летом при прибытии поездов худощавая девица в русском костюме с бусами, телеграфист и пассажиры: мужчины и женщины.