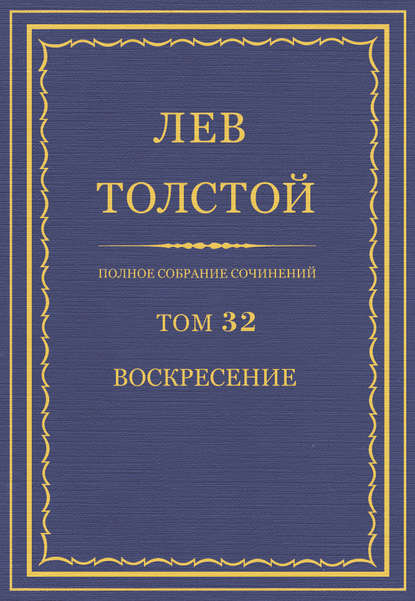По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 32. Воскресение
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В молодом человеке с собакой Нехлюдов узнал гимназиста, молодого Корчагина. Толстая же дама была сестра княгини, в имение которой переезжали Корчагины. Обер-кондуктор с блестящими галунами и сапогами отворил дверь вагона и в знак почтительности держал ее, в то время как Филипп и артельщик в белом фартуке осторожно выносили длиннолицую княгиню на ее складном кресле; сестры поздоровались, послышались французские фразы о том, в карете или коляске поедет княгиня, и шествие, замыкающееся горничной с кудряшками, зонтиками и футляром, двинулось к двери станции.
Нехлюдов, не желая встречаться с тем, чтоб опять прощаться, остановился, не доходя до двери станции, ожидая прохождения всего шествия. Княгиня с сыном, Мисси, доктор и горничная проследовали вперед, старый же князь остановился позади с свояченицей, и Нехлюдов, не подходя близко, слышал только отрывочные французские фразы их разговора. Одна из этих фраз, произнесенная князем, запала, как это часто бывает, почему-то в память Нехлюдову, со всеми интонациями и звуками голоса.
– Oh! il est du vrai grand monde, du vrai grand monde,[73 - [О, он человек подлинно большого света, подлинно большого света,]]– про кого-то сказал князь своим громким, самоуверенным голосом и вместе с свояченицей, сопутствуемый почтительными кондукторами и носильщиками, прошел в дверь станции.
В это самое время из-за угла станции появилась откуда-то на платформу толпа рабочих в лаптях и с полушубками и мешками за спинами. Рабочие решительными мягкими шагами подошли к первому вагону и хотели войти в него, но тотчас же были отогнаны от него кондуктором. Не останавливаясь, рабочие пошли, торопясь и наступая друг другу на ноги, дальше к соседнему вагону и стали уже, цепляясь мешками за углы и дверь вагона, входить в него, как другой кондуктор от двери станции увидал их намерение и строго закричал на них. Вошедшие рабочие тотчас же поспешно вышли и опять теми же мягкими решительными шагами пошли еще дальше к следующему вагону, тому самому, в котором сидел Нехлюдов. Кондуктор опять остановил их. Они было остановились, намереваясь итти еще дальше, но Нехлюдов сказал им, что в вагоне есть места, и чтобы они шли. Они послушали его, и Нехлюдов вошел вслед за ними. Рабочие хотели уже размещаться, но господин с кокардой и обе дамы, приняв их покушение поместиться в этом вагоне за личное себе оскорбление, решительно воспротивились этому и стали выгонять их. Рабочие – их было человек 20 – и старики и совсем молодые, все с измученными загорелыми сухими лицами, тотчас же, цепляя мешками за лавки, стены и двери, очевидно чувствуя себя вполне виноватыми, пошли дальше через вагон, очевидно, готовые итти до конца света и сесть куда бы ни велели, хоть на гвозди.
– Куда прете, черти! размещайтесь здесь, – крикнул вышедший им навстречу другой кондуктор.
– Voil? encore des nouvelles![74 - [Вот еще новости!]] – проговорила молодая из двух дам, вполне уверенная, что она своим хорошим французским языком обратит на себя внимание Нехлюдова. Дама же с браслетами только всё принюхивалась, морщилась и что-то сказала про приятность сидеть с вонючим мужичьем.
Рабочие же, испытывая радость и успокоение людей, миновавших большую опасность, остановились и стали размещаться, скидывая движениями плеча тяжелые мешки с спин и засовывая их под лавки.
Садовник, разговаривавший с Тарасом, сидел не на своем месте и ушел на свое, так что подле и против Тараса были три места. Трое рабочих сели на этих местах, но, когда Нехлюдов подошел к ним, вид его господской одежды так смутил их, что они встали, чтобы уйти, но Нехлюдов просил их остаться, а сам присел на ручку лавки к проходу.
Один из двух рабочих, человек лет пятидесяти, с недоумением и даже с испугом переглянулся с молодым. То, что Нехлюдов, вместо того чтобы, как это свойственно господину, ругать и гнать их, уступил им место, очень удивило и озадачило их. Они даже боялись, как бы чего-нибудь от этого не случилось для них худого. Увидав однако, что тут не было никакого подвоха, и что Нехлюдов просто разговаривал с Тарасом, они успокоились, велели малому сесть на мешок и потребовали, чтобы Нехлюдов сел на свое место. Сначала пожилой рабочий, сидевший против Нехлюдова, весь сжимался, старательно подбирая свои обутые в лапти ноги, чтоб не толкнуть барина, но потом так дружелюбно разговорился с Нехлюдовым и Тарасом, что даже ударял Нехлюдова по колену перевернутой кверху ладонью рукой в тех местах рассказа, на которые он хотел обратить его особенное внимание. Он рассказал про все свои обстоятельства и про работу на торфяных болотах, с которой они ехали теперь домой, проработав на ней два с половиной месяца и везя домой заработанные рублей по 10 денег на брата, так как часть заработков дана была вперед при наемке. Работа их, как он рассказывал, происходила по колено в воде и продолжалась от зари до зари с двухчасовым отдыхом в обеде.
– Которые без привычки, тем, известно, трудно, – говорил он, – а обтерпелся – ничего. Только бы харчи были настоящие. Сначала харчи плохи были. Ну, а потом народ обиделся, и харчи стали хорошие, и работать стало легко.
Потом он рассказал, как он в продолжение двадцати восьми лет ходил в заработки и весь свой заработок отдавал в дом, сначала отцу, потом старшему брату, теперь племяннику, заведывавшему хозяйством, сам же проживал из заработанных пятидесяти-шестидееяти рублей в год два-три рубля на баловство: на табак и спички.
– Грешен, когда с устатку и водочки выпьешь, – прибавил он, виновато улыбаясь.
Рассказал он еще, как женщины за них правят дома и как подрядчик угостил их нынче перед отъездом полведеркой, как один из них помер, а другого везут больного. Больной, про которого он говорил, сидел в этом же вагоне в углу. Это был молодой мальчик, серо-бледный, с синими губами. Его, очевидно, извела и изводила лихорадка. Нехлюдов подошел к нему, но мальчик таким строгим, страдальческим взглядом взглянул на него, что Нехлюдов не стал тревожить его расспросами, а посоветовал старшему купить хины и написал ему на бумажке название лекарства. Он хотел дать денег, но старый работник сказал, что не нужно: он свои отдаст.
– Ну, сколько ни ездил, таких господ не видал. Не то чтобы тебя в шею, а он еще место уступил. Всякие, значит, господа есть, – заключил он, обращаясь к Тарасу.
«Да, совсем новый, другой, новый мир», думал Нехлюдов, глядя на эти сухие, мускулистые члены, грубые домодельные одежды и загорелые, ласковые и измученные лица и чувствуя себя со всех сторон окруженным совсем новыми людьми с их серьезными интересами, радостями и страданиями настоящей трудовой и человеческой жизни.
«Вот он, le vrai grand monde», думал Нехлюдов, вспоминая фразу, сказанную князем Корчагиным, и весь этот праздный, роскошный мир Корчагиных с их ничтожными жалкими интересами.
И он испытывал чувство радости путешественника, открывшего новый, неизвестный и прекрасный мир.
Конец второй части
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
I.
Партия, с которой шла Маслова, прошла около пяти тысяч верст. До Перми Маслова шла по железной дороге и на пароходе с уголовными, и только в этом городе Нехлюдову удалось выхлопотать перемещение ее к политическим, как это советовала ему Богодуховская, шедшая с этой же партией.
Переезд до Перми был очень тяжел для Масловой и физически и нравственно. Физически – от тесноты, нечистоты и отвратительных насекомых, которые не давали покоя, и нравственно – от столь же отвратительных мужчин, которые, так же как насекомые, хотя и переменялись с каждым этапом, везде были одинаково назойливы, прилипчивы и не давали покоя. Между арестантками и арестантами, надзирателями и конвойными так установился обычай цинического разврата, что всякой, в особенности молодой женщине, если она не хотела пользоваться своим положением женщины, надо было быть постоянно настороже. И это всегдашнее положение страха и борьбы было очень тяжело. Маслова же особенно подвергалась этим нападкам и по привлекательности своей наружности и по известному всем ее прошедшему. Тот решительный отпор, который она давала теперь пристававшим к ней мужчинам, представлялся им оскорблением и вызывал в них против нее еще и озлобление. Облегчало ее положение в этом отношении близость ее с Федосьей и Тарасом, который, узнав о тех нападениях, которым подвергалась его жена, пожелал арестоваться, чтобы защищать ее, и с Нижнего ехал как арестант, вместе с заключенными.
Перевод в отделение политических улучшил положение Масловой во всех отношениях. Не говоря о том, что политические лучше помещались, лучше питались, подвергались меньшим грубостям, перевод Масловой к политическим улучшил ее положение тем, что прекратились эти преследования мужчин, и можно было жить без того, чтобы всякую минуту ей не напоминали о том ее прошедшем, которое она так хотела забыть теперь. Главное же преимущество этого перевода состояло в том, что она узнала некоторых людей, имевших на нее решительное и самое благотворное влияние.
Помещаться на этапах Масловой разрешено было с политическими, но итти она, в качестве здоровой женщины, должна была с уголовными. Так она шла всё время от самого Томска. С нею вместе шли также пешком двое политических: Марья Павловна Щетинина, та самая красивая девушка с бараньими глазами, которая поразила Нехлюдова при свидании с Богодуховской, и ссылавшийся в Якутскую область некто Симонсон, тот самый черный лохматый человек с глубоко ушедшими под лоб глазами, которого Нехлюдов тоже заметил на этом свидании. Марья Павловна шла пешком потому, что уступила свое место на подводе уголовной беременной женщине; Симонсон же потому, что считал несправедливым пользоваться классовым преимуществом. Эти трое отдельно от других политических, выезжавших позднее на подводах, выходили с уголовными рано утром. Так это и было на последнем этапе перед большим городом, на котором партию принял новый конвойный офицер.
Было раннее ненастное сентябрьское утро. Шел то снег, то дождь с порывами холодного ветра. Все арестанты партии, 400 человек мужчин и около 50 женщин, уже были на дворе этапа и частью толпились около конвойного-старш?го, раздававшего старостам кормовые деньги на двое суток, частью закупали съестное у впущенных на двор этапа торговок. Слышался гул голосов арестантов, считавших деньги, покупавших провизию, и визгливый говор торговок.
Катюша с Марьей Павловной, обе в сапогах и полушубках, обвязанные платками, вышли на двор из помещения этапа и направились к торговкам, которые, сидя за ветром у северной стены палей, одна перед другой предлагали свои товары: свежий ситный, пирог, рыбу, лапшу, кашу, печенку, говядину, яйца, молоко; у одной был даже жареный поросенок.
Симонсон, в гуттаперчевой куртке и резиновых калошах, укрепленных сверх шерстяных чулок бечевками (он был вегетарианец и не употреблял шкур убитых животных), был тоже на дворе, дожидаясь выхода партии. Он стоял у крыльца и вписывал в записную книжку пришедшую ему мысль. Мысль заключалась в следующем:
«Если бы, – писал он, – бактерия наблюдала и исследовала ноготь человека, она признала бы его неорганическим существом. Точно так же и мы признали земной шар, наблюдая его кору, существом неорганическим. Это неверно».
Сторговав яиц, связку бубликов, рыбы и свежего пшеничного хлеба, Маслова укладывала всё это в мешок, а Марья Павловна рассчитывалась с торговками, когда среди арестантов произошло движение. Всё замолкло, и люди стали строиться. Вышел офицер и делал последние перед выходом распоряжения.
Всё шло как обыкновенно: пересчитывали, осматривали целость кандалов и соединяли пары, шедшие в наручнях. Но вдруг послышался начальственно гневный крик офицера, удары по телу и плач ребенка. Всё затихло на мгновение, а потом по всей толпе пробежал глухой ропот. Маслова и Марья Павловна подвинулись к месту шума.
II.
Подойдя к месту шума, Марья Павловна и Катюша увидали следующее: офицер, плотный человек с большими белокурыми усами, хмурясь, потирал левою рукой ладонь правой, которую он зашиб о лицо арестанта, и не переставая произносил неприличные, грубые ругательства. Перед ним, отирая одной рукой разбитое в кровь лицо, а другой держа обмотанную платком пронзительно визжавшую девчонку, стоял в коротком халате и еще более коротких штанах длинный, худой арестант с бритой половиной головы.
– Я тебя (неприличное ругательство) научу рассуждать (опять ругательство); бабам отдашь, – кричал офицер. – Надевай.
Офицер требовал, чтобы были надеты наручни на общественника, шедшего в ссылку и во всю дорогу несшего на руках девочку, оставленную ему умершей в Томске от тифа женою. Отговорки арестанта, что ему нельзя в наручнях нести ребенка, раздражили бывшего не в духе офицера, и он избил непокорившегося сразу арестанта.[75 - Факт, описанный в книге Д. А. Линева: «По этапу».]
Против избитого стояли конвойный солдат и чернобородый арестант с надетой на одну руку наручней и мрачно смотревший исподлобья то на офицера, то на избитого арестанта с девочкой. Офицер повторил конвойному приказание взять девочку. Среди арестантов всё слышнее и слышнее становилось гоготание.
– От Томска шли, не надевали, – послышался хриплый голос из задних рядов.
– Не щенок, а ребенок.
– Куда ж ему девчонку деть?
– Не закон это, – сказал еще кто-то.
– Это кто? – как ужаленный, закричал офицер, бросаясь в толпу. – Я тебе покажу закон. Кто сказал? Ты? Ты?
– Все говорят. Потому… – сказал широколицый приземистый арестант.
Он не успел договорить. Офицер обеими руками стал бить его по лицу.
– Вы бунтовать! Я вам покажу, как бунтовать. Перестреляю, как собак. Начальство только спасибо скажет. Бери девчонку!
Толпа затихла. Отчаянно кричавшую девочку вырвал один конвойный, другой стал надевать наручни покорно подставившему свою руку арестанту.
– Снеси бабам, – крикнул офицер конвойному, оправляя на себе портупею шашки.
Девчонка, стараясь выпростать ручонки из платка, с налитым кровью лицом не переставая визжала. Из толпы выступила Марья Павловна и подошла к конвойному.
– Господин офицер, позвольте я понесу девочку.
Конвойный солдат с девочкой остановился.
– Ты кто? – спросил офицер.
– Я политическая.