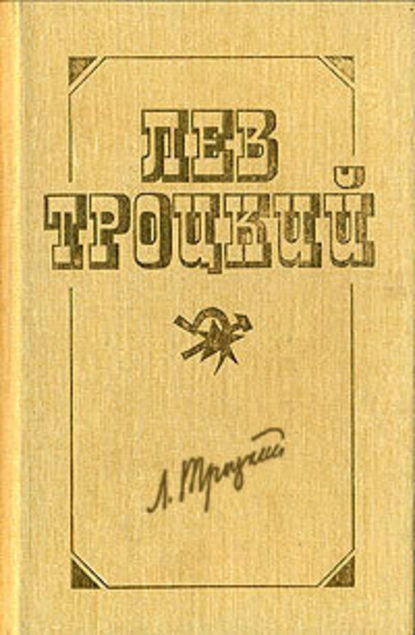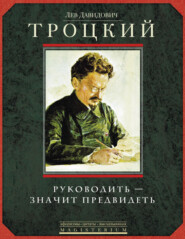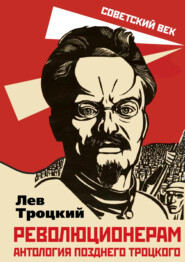По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Перед историческим рубежом. Балканы и балканская война
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Л. Троцкий. РАССКАЗ ОФИЦЕРА
Если следить, как вам приходилось, по карте за движением болгарской армии, которое совершалось с замечательной быстротой и планомерностью, то можно вообразить, будто все войсковые части в правильном порядке переходят с позиции на позицию. На самом деле этого нет и в помине. Дивизии, полку или батальону дается задача совершить по такой-то линии переход. И в общем, в сумме дивизия или полк эту задачу выполняют. Но внутри больших войсковых единиц с обозом при тяжелых переходах, с тяжелыми ранцами за плечами, с артиллерией, которую приходится вытаскивать из грязи, порядок совершенно не соблюдается, – особенно после больших сражений, когда солдаты, с одной стороны, утомлены, а с другой, уже успели попривыкнуть, менее боятся растеряться и не расходуют столько внимания на то, чтобы держаться правильными колоннами.
До Лозенграда, под Петрой, например дело еще шло гладко, по учебнику. А после Лозенграда когда мы двигались к Люле-Бургасу, порядок совсем расстроился и, как показали дальнейшие события, без ущерба для дела. Наш полк перемешался с четырьмя другими, команда почти исчезла, я, например, совсем не видал за это время полкового командира, его куда-то отняли от нас, мой взвод исчез, и у меня под командою оказалось человек 100 солдат разных полков. Была твердая уверенность, подтверждавшаяся слухами, шедшими со всех сторон, что в том же направлении движутся наши, что их много, но где кто – этого мы не знали, ни солдаты, ни я. И эта неизвестность нисколько не угнетала, она дополнялась твердой уверенностью, что придем куда нужно.
Не было ли гонцов от одной части к другой? Ведь, я же говорю, что я даже не видал нашего полкового командира. Могла ли быть правильная связь между полками, если они разбились, перемешались, а командиров оторвало и перетасовало. Впечатление такое, будто армия движется стихийно, но эта стихийность относится только к движению отдельных групп частей и колонн внутри армии. А вся армия передвигается правильно, как следует, куда надо. В составе этой тяжелой массы есть люди, которые знают, куда идти, а все остальные приноровляются к ним. Вы говорите, что при таком ходе дела не может быть над солдатами правильного контроля и отдельные трусы могут покидать поле сражения? Не знаю, были ли такие попытки. Но не думаю, чтобы это было возможно. Общий план действий отдельным солдатам неизвестен. Где неприятель, он не знает. Справа, слева, спереди, сзади – свои. Он их и держится, боится оторваться и, хочет – не хочет, идет в бой…
В учебниках тактики все строго указано и предусмотрено: войсковая часть тут, начальник там, неприятельская позиция на столько-то шагов, обход с фланга столько-то минут. И от всего этого на третий, а то и на второй день почти ничего не остается. Я не хочу этим сказать, что теория тактики – вещь излишняя. Нет, не будь предварительной выучки, получилась бы полная анархия. А тут, именно благодаря вложенным в солдат элементам организации и порядка, во всей этой хаотической на вид стихийности сохраняется своя планомерность. Но разница между математическими абстракциями школьных учебников и живой реальностью движения и боя – огромная. Один солдат из запасных, которых я до похода в течение двадцати дней обучал воинским движениям и приемам, по дороге ядовито подшучивал надо мною: что, мол, господин офицер, тут, ведь, не совсем так идет, как по правилам полагается.
В Лозенград мы вступили без боя. Население нас, действительно, приняло хорошо. Тут в официальном сообщении никакого преувеличения нет. Турки бежали до нашего прибытия, а на дверях христианских домов везде был начерчен крест, на иных очень яркой краской, что бросалось в глаза. Очевидно, все-таки опасались. Многие христиане носили раньше фески, а тут побросали, и так как шапок не имели, то ходили с обнаженными головами.
В Лозенграде наш полк оставался не более двух-трех часов. Только передохнули и сейчас же тронулись в путь на Каваклы. Там за несколько часов до нас были турки. Они бежали, по-видимому, в панической растерянности, побросав весь провиант, все боевые припасы. Нужно сказать, что после Лозенграда мы все время, в сущности, жили на счет турецкого провианта. В Каваклы была дневка. Ночевали там две ночи. Делали оттуда вылазку на 15 километров против двух турецких колонн, которые выступили будто бы из Адрианополя, но никого не оказалось. Возможно, что это были болгарские войска, а рекогносцировочный артиллерийский отряд по ошибке принял их за турок.
В этом бою под Люле-Бургасом я и ранен был, в первый же день. Подошли мы к позициям 15-го вечером, переночевали, а на рассвете в понедельник началось сражение, в половине шестого вечера меня ранило. Дело было так. Отряд, которым я командовал, полтора-два сборных взвода, имел сперва стычку с турками в небольшом лесу, мы их оттуда выбили. Потом брали деревню Карагач. Турки и оттуда бежали. Дальше шла гора. Я скомандовал: «Вперед, на гору», и солдаты стали маленькими группами подниматься. А наверху уже были наши. Видно было простым глазом, как они преследовали бегущих турок. Кто направо от нас, кто налево – ничего этого я не знал. Знал только, что нужно идти вперед на гору. А что дальше будет – тоже не знал. При самом начале подъема я остановился и стал оглядывать местность, чтобы не натолкнуться на какой-нибудь отставший турецкий отряд. В это время я и попал под пулю. Кто и откуда ранил – конечно, не знаю. Только пуля турецкая, видно по ране, и он, разумеется не знал, что ранил кого-нибудь, мы с ним находились на расстоянии не менее 400 метров друг от друга. Пуля, как вы видите, вошла здесь, с левой стороны лица, около середины носа, а вышла около правого уха. Сейчас после выстрела я упал ничком, должно быть, больше от неожиданности. Упал и сейчас же внутренно сказал себе: «должно быть, рана смертельная», но как-то совсем глухо это подумал, без всякого… как бы сказать… без всякой сентиментальности, значит, умираю, подумал, конец, и было при этом только чувство какой-то досады на себя, что это так просто происходит, ни одной мысли высокой не приходит в голову. Это мне казалось обидно. Потом боль почувствовал и очень сильную, но не там, где пуля вошла, а где вышла. Так что я первое время решил было, что пуля вошла справа, подле уха. Крови много вытекло, целая лужа. Через несколько минут я приподнялся, вынул санитарный пакетик, сделал себе сам кое-как перевязку…
Потом стал искать санитаров. Но с санитарами беда: они очень поздно приходят. Раненые всегда ими возмущаются. И совершенно справедливо. Турки уже бежали, опасности никакой, а санитаров, смотришь, нет как нет. Появляются через два-три часа, а то и позже. Объясняю я себе это так. Санитары стоят не в огне, а подле огня; они не чувствуют себя, как сражающиеся, в таком положении, что некуда деваться, потому что каждый сантиметр воздуха вокруг грозит смертью. Они только видят вблизи, как умирают другие, поэтому чувство самосохранения у них обостряется до крайности. Боятся идти в огонь – и только. В таком состоянии худшие инстинкты вылезают наружу. Иные санитары, вместо того чтобы идти к раненым, обшаривают убитых. Прямо мерзость… А поставьте этого самого санитара с ружьем на боевую позицию, он будет хорошо сражаться и вместе с другими, когда нужно, бросится вперед «на нож». Вот, ведь, какая штука – человек! Нелепо, в самом деле, думать, что из 200 тысяч солдаты все так-таки сплошь герои, даже и в отдельных, героически настроенных людях далеко не все героично. Военный героизм, по крайней мере в нынешних войнах – массовый. Войско может совершать героические действия, но это вовсе не значит, что все солдаты или офицеры в отдельности – герои. Нужно только, чтоб армия в целом знала, во имя чего она борется, чтобы цель войны она считала своей целью, – и героизм уже вырастет из условий самой войны.
Вы спрашиваете, почему не подняли меня мои собственные солдаты, раз не было санитаров. Это запрещается. Солдат должен сражаться, пока не ранен, а если позволить ему ухаживать за ранеными, никого не останется на линии. Потом, когда я стал бродить по полю, один из моих солдат, действительно, подошел ко мне и взял под руку. Так я при его помощи и добрался до санитарного пункта – ровно через шесть часов после того как был ранен. Тут прижгли отверстие йодом, сделали перевязку и отправили назад с другими ранеными к Лозенграду.
Когда я лежал в телеге, больше всего угнетала не рана, а скрип и стук десятков телег. Это сейчас же восстановило в моем мозгу звук картечниц – самый скверный звук, знаете ли. На поле сражения мне этот звук сперва даже понравился: ровный, спокойный, непрерывный, а потом стал раздражать, чем дальше, тем хуже. Утомляет и надоедает до невыносимости, трещит без пауз и запинки… Подлый автомат! Ничего нет человеческого в этом звуке. Тук-тук-тук-тук-тук – двадцать четыре часа подряд. Пушки несравненно человечнее. Когда раздается пушечный выстрел, вы всегда чувствуете за ним какую-то живую волю, кто-то дернул за какую-то веревку. А пулемет совсем бездушен, это – perpetuum mobile убийства, сыпет пули, несет смерть, а человеческого духа за этим не слышно. Это и есть самое ужасное.
Страха? Страха во время сражения нет, т.-е., собственно, уже под огнем. А до сражения и после сражения – страх большой, это же самое, только в меньшем виде, бывает, ведь, и во время экзаменов, и при выступлениях с трибуны. Во время мобилизации никому не хотелось идти в огонь. Разумеется, при торжественной оказии, когда чувствуют, глядят и кричат всей массой, энтузиазм большой. Но когда разговаривали в одиночку, всякому хотелось, чтобы минула его чаша сия. А некоторые таким тоном говорили, что я даже опасался: не выдержат, думал, они первой атаки. А оказалось совсем не так. Страх совсем исчезает, его заменяет после некоторого времени безразличие, а у трусливых и нервных проявляются моментами такие взрывы, которые имеют совершенно героический вид.
Страх целесообразен в жизни человеческой; это – психическая реакция организма на угрожающую ему опасность. Но если опасность эта – непрерывная и неизбывная, если некуда податься от нее, если каждый кубический сантиметр воздуха может быть в любой момент занят пулей, – тогда страх перестает быть целесообразным, он уже не предохраняет, а разрушает организм. И тогда на смену ему выдвигается безразличие, как своего рода защитный психологический покров.
Страха нет во время сражения, зато есть какое-то томление нервной усталости… Начинается канонада на утренней заре. Идет непрерывно. Солнце поднимается, ходишь, сидишь или лежишь – непрерывная пальба весь день до ночи. А раз даже и всю ночь. Живешь под этим и ни на минуту не освобождаешься. Вам приходилось, вероятно, бывать в поле под грозою: гремит над головой, стреляет сверху вниз молния, и некуда укрыться. Теперь представьте себе, что опасность увеличивается в тысячу раз, что молнии падают сверху непрерывно и что это длится час, два, десять, сутки, двое суток, трое… Страх, как острый отклик на смертельную опасность, исчезает, но растет во всем организме, в мышцах и костях, томление усталости. Страшно, невыносимо, адски надоедает… В канонаде та же безличность, что и в грозе, – смерть стихийная осаждает сверху, справа, слева. Трещит, свистит, ухает, обдает тепловыми воздушными вихрями, землей, сваливает с ног и трещит дальше без конца. Каждый день к вечеру кажется: теперь уже конец, больше этого не выдержу. Но проходит следующий день – и снова то же. От этого вырастает в душе тоска по врагу.
Архив 1912 г.
4. Отголоски войны
Л. Троцкий. ДЛИННЫЙ МЕСЯЦ
Все изменилось за этот длинный месяц, который так быстро промелькнул. Тогда, в начале войны, была прекрасная погода и большие надежды, по улицам еще ходили отряды запасных, македонцев, добровольцев с военной музыкой, песнями и громкими криками «ура»! Одно за другим приходили известия о победоносном движении болгарской армии вперед – почти без жертв. Собиралась уличная толпа, слушала телеграммы, подхватывала на руки союзных посланников, а мальчишки звонили голосами, наперебой выкликали свои газеты, в которых всегда были вести о новых и новых победах над турками или над общественным мнением Европы. Из кафе в кафе сновали ловкие журналисты в мягких шелковых шляпах, с биноклями и кодаками, жадные все знать, видеть и слышать. Софийские женщины – они остались здесь в полном числе, на кровавый театр ушли только мужья, женихи и братья – проходили нарядные по главным улицам, залитым солнцем. Стояло начало октября, а казалось, что наступила весна, которая никогда не кончится…
Но весна кончилась. Пошли холодные ночи, Витоша покрылась снегом, хозяин отеля пустил по чугунным трубам горячую воду, по утрам вползает в открытое окно скверный туман, дождь идет два дня из трех, на улицах все меньше корреспондентов и все больше раненых, уволенных из больниц. Ушли последние остатки резерва, ушел македонский легион с армянским отрядом, прошли к Адрианополю сербские дивизии, нет украшенных цветами добровольцев, в шапках с красными верхами. Мокро сверху, снизу и с боков, мальчишки прячут от дождя под полою газетные листы и, засунув красные руки в дырявые карманы, осипшими от сырости и месячной натуги голосами выкрикивают о перемирии или о возобновлении военных действий. Давно уже не собирается толпа и не слышно радостных криков на улицах Софии. Нарядные женщины не скользят, а тревожно пробираются под зонтами, приподняв юбки над мокрым тротуаром. Больше нищих выползло из Юч-Бунара, и, пересекая дорогу иностранцам, они жалобно мычат, протягивая грязные руки за подаянием. Иноземные санитары непрерывно прибывают группами и рассасываются госпиталями, население которых растет и растет…
Сейчас самое тяжкое время тут. Война не закончилась, Адрианополь стоит, сведения относительно взятия Чаталджи, которые были в свое время пропущены цензурой и, следовательно (такова здесь практика!), признаны достоверными, оказались ошибочными. Турецкая армия или, по крайней мере, значительная часть ее стоит у Чаталджи, и вместе с турецкой армией стоит призрак холеры. Война не кончена, но войны нет. Ведутся переговоры. Весть о перемирии была принята нерадостно, ибо сопровождалась вестью о растущих затруднениях с той стороны, на которую так неосновательно возлагали надежды. Уже никого не приводит здесь в восторг большой патриотический барабан Вас. И. Немировича-Данченко, ибо раздражающая фальшь слышится в звуках этого музыкального инструмента даже самому тугому уху. Огни пушек еще не догорели, но цветы военной поэзии уже облетели, – страшная реальность войны вместе с волнами раненых разошлась по всей стране…
Болгары не сентиментальны, лишены лиризма и чувства театральности. Газетные статьи о победах пишутся, разумеется, отвечающим важности событий приподнятым стилем, но это стиль сухой, черствый, формально-торжественный, уже после первых дней сбившийся на шаблон. Взятие Лозенграда вызвало в свое время в городе большое оживление, овации и шествия с факелами. Но все дальнейшие реляции о сражениях при Люле-Бургасе и Чорлу, о занятии Салоник не вызвали ни уличных шествий, ни радостного подъема. Единственный отголосок, какой находят еще сейчас на улицах события войны, – это крики газетных мальчишек, начинающиеся в 6 часов утра и кончающиеся в 10 ночи. Известие о том, что болгарские миноноски потопили турецкий крейсер, распространенное здесь вчера всеми вечерними газетами и особой «притуркой» к официозу «България», ничем не отразилось на уличной жизни. Население устало от побед, – оно хочет победы.
Л. Троцкий и Х. Кабакчиев. «Очерки политической Болгарии».
Л. Троцкий. ЮЧ-БУНАР
Это – не театр военных действий, не оккупированная провинция, поэтому нет надобности разыскивать это имя на карте генерального штаба. Юч-Бунар, это – часть Софии, столицы Болгарии.
Мы идем по длинной Пиротской улице, сворачиваем на бульвар Драгоман, а отсюда – на улицу святой Клементины. Налево – прекрасная гора Витоша, уже покрытая снегом, в рамке совсем весенних облаков. Еще несколько шагов, и мы попадаем на улицу Паисия, названную так по имени одного из провозвестников болгарского национального пробуждения, летописца-монаха, укорявшего болгар в том, что они стыдятся называться болгарами. С тех времен много снегов растаяло на Витоше, и теперь духовные потомки Паисия насильственно обращают в болгарство тех, которые этого не хотят…
С улицы Паисия начинается безраздельное царство нищеты. И как бы для того, чтобы показать, что нищета не знает национального лицеприятия, судьба сбросила в Юч-Бунар голь еврейскую, цыганскую и болгарскую, точно смела их сюда большой метлой.
София в центре – от вокзала до дворца и парламента – совсем европейский город. Отличные чистые мостовые, высокие дома, электричество, трамвай, корсо, элегантные наряды, дамские шляпы больших размеров, чем в Париже. Но у этой чистой и щегольской, совсем «европейской» Софии есть свой ужасающий, свой архи-азиатский Юч-Бунар. Странам Ближнего, как, впрочем, и Дальнего Востока, да в значительной мере и нашей России история дала слишком мало времени для постепенного перехода от варварства к капиталистической цивилизации. Она заставила их строить железные дороги и заводить для своих армий аэропланы – прежде чем они провели шоссейные дороги; она напялила их имущим классам на головы лоснящиеся цилиндры – прежде чем в эти головы проникли европейские понятия; она осветила, наконец, центры городов великолепными калильными фонарями – прежде чем осушила на окраинах отвратительные лужи, очаги зловония и заразы.
Будем осторожно проходить по этой улице, среди луж и гниющих отбросов – мы в Юч-Бунаре, в еврейской его части. Нас уже заметили и вообразили, что мы несем с собою немедленную помощь. Из дверей, похожих на дыры, выползают фигуры, которые кажутся воплощением нищеты, ужаса и унижения человеческого. Они жалко, со страхом и надеждой заглядывают нам в глаза. Старые горбатые евреи в грязных отрепьях, которые, кажется, вросли в тело, в больших позеленевших очках, криво сидящих на носу. Подростки, с бескровными деснами и зловещей синевой вокруг глаз, автоматически протягивают за подаянием руки, которые никогда, по-видимому, не знали мыла. А эти юч-бунарские женщины, вьючные животные нищеты, с тяжелыми животами, с кривыми ногами, окруженные кривоногими золотушными детьми с гноящимися веками!.. Обгоняя одна другую, в отстающих от грязных пяток деревянных башмаках, они бормочут на испаньольском языке что-то жалобное нашему проводнику.
Дома мы давно уже покинули за нашей спиной, тут вокруг нас не дома, а землянки-норы, с одним квадратным окошком, в одну «комнату», со входом прямо с улицы, без передней и даже без порога.
Все это построено из глины и грязи, своими руками, на участке земли, беззаконно захваченном у города. Худо знакомые со священным римским правом, юч-бунарские пауперы произвольно решили, что и для них должно найтись хоть небольшое местечко на этой земле, которую эпическая поэзия называет нашей матерью. Городское самоуправление Софии не раз пыталось истребить этот наивный предрассудок при помощи пожарной кишки. Еще в прошлом году только софийские пожарные усердно разрушали эти жалкие норы, незаконно построенные на городской земле; они действовали по тому же методу, как в новороссийских степях истребляют сусликов, выгоняя их водою из нор. Но тщетно: неисправимые юч-бунарцы так и не дали себя оторвать от земной коры. А затем пришла война и всех выгнала в поле: и дерзких «захватчиков» и пожарных…
Заглянем в одно из юч-бунарских жилищ – на этой улице, которая носит гордое название «Бульвар Сливница» и на деле представляет длинный ряд луж, окаймленных с двух сторон землянками. Одна комната с железной печью – пять аршин длины, аршина четыре ширины. Населения в ней одиннадцать душ: хромой старик, старуха, три дочери, сын, жена сына и четверо маленьких детей. Земляной пол покрыт тряпьем для спанья, в углу тряпками же постланные доски на двух ящиках; окно – в квадратный аршин и грязный потолок над головой. Таковы они все, эти жилища – одно в одно. В своей совокупности они образуют Юч-Бунар.
– А когда будут снова раздавать? – спрашивают женщины нашего проводника, тов. Яко Левиева, гласного софийской городской думы, избранного преимущественно голосами еврейской махлы (квартала) Юч-Бунара. Речь идет о городской комиссии, на которую возложена задача – распределение субсидии в полмиллиона франков (менее 200 тысяч рублей) между беднотой Софии в течение полугода. Яко Левиев состоит одним из деятельнейших членов этой комиссии.
– Когда будут снова раздавать?.. Мы не можем больше ждать!..
– У меня пятеро детей в семье, а муж на войне…
– У меня девять душ в семье, а муж под Одриным (Адрианополем).
– Мне ничего не дают, потому что мой муж не в армии. А разве я вижу своего мужа? Разве я знаю, где он?.. У меня двое детей в скарлатине…
– Мы соберемся все и пойдем в кметство (городскую управу)!..
– Нет, мы все пойдем с нашими детьми к самой царице и скажем ей, что нам и нашим детям нечего есть… Пусть делает с нами, что хочет!..
В рядах болгарской армии сейчас 700 солдат из еврейской части Юч-Бунара. Там они завоевывают новые территории для династии и имущих классов Болгарии, а здесь у них стремятся выдернуть 4 квадратных аршина из-под ног.
Однако, и в этом омуте нищеты и унижения происходит борьба идей. Ее можно проследить даже по вывескам. Вот «Кърчмарница и Кафене Цийон» («Корчма и Кофейня Сион»), а тут же рядом «Кафене Интернационал» Хаим Ш. Варсано. Это – два основных принципа, которые сурово разделяют еврейскую махлу: Сион и Интернационал. Одни, утопая в гноящейся луже, обольщают себя сказкой о грядущем царстве Сиона, а другие вышли из-под чар религиозных напевов и национальных суеверий и перенесли свои надежды на социалистический интернационал труда.
Тут неподалеку квартира тов. Соломона Исакова; заглянем туда на несколько минут к его семье: сам Исаков теперь под Чаталджой. Одна комната, уже знакомого нам вида, только очень чистая и украшенная по стенам гравюрами. В углу висит большой портрет Карла Маркса в раме. Исаков – печатарь (наборщик) и редактор профессионального органа своего союза. Он зарабатывает 80 франков (30 рублей) в месяц и не менее двух-трех месяцев в году сидит без работы. Вот его старуха-мать, эта молодая женщина с приятным и живым лицом – его жена, а вот его девятимесячный ребенок, в зыбке на полу. Зовут ребенка Карл – в честь того человека с львиной гривой, портрет которого висит в углу.
Мы снова на улице. Тут – юч-бунарский клуб социал-демократической организации. А невдалеке видна небольшая и неприглядная еврейская синагога, духовное прибежище темных мечтателей, которые тоскуют по Сиону.
Речка Владайка отделяет от собственно Юч-Бунара (по-турецки: три колодца) – Дорт-Бунар (четыре колодца). Там живут, главным образом, цыгане, но есть и евреи.
Когда Владайка, сейчас похожая на лужу, разбухает от дождей, разливается и сносит прочь гнилые деревянные мостки, Дорт-Бунар отрывается от города и на несколько дней лишается хлеба. Но и в обычное время у него нет избытка в съестных припасах. Цыганские землянки выглядят несколько лучше и просторнее еврейских, – вероятно, потому, что цыганам не приходилось строиться крадучись: город насильственно выселил их из центральной части, где они ютились на площади, и отвел им свободный участок на окраине. Но в общем Дорт-Бунар – родной брат Юч-Бунару. Те же лужи, отбросы людей и животных, гниющие кучи у дверей и венки паприки (красного перцу) над окнами. Навстречу нам ползет на руках по грязи безногий цыган. Цыганята протягивают руки и кричат «леб» (хлеб). На веревке, протянутой между отхожим местом и мало чем от него отличающимся жильем, сушится грязное белье из одних заплат. Вот «парикмахерская»: в пустой полутемной каморке одно «кресло» и ножницы с корявым гребешком на ящике. Рядом «Бакалница на дребно», потом «Папиросы на дребно». В Бунаре ничего не продают и не покупают оптом, – все «на дребно»…
В болгарской части Бунара живут извозчики, ломовики и македонцы – это нечто среднее между нацией, партией и профессией. Их не любят – за грубость и паразитизм. Эта часть называется коневицей, от извозчичьих коней, которых теперь, впрочем, не видать: и кони, и экипажи, и извозчики – все в распоряжении реквизиционной комиссии для надобностей войны. Дома остались жены с детьми. Бунар служит отечеству: отцы проливают кровь, дети пухнут с голоду…
Садясь в вагон трамвая, где обязанности кондукторов выполняют гимназисты (кондуктора – в армии), мы окидываем общим взглядом Бунар. Глаз натыкается на приют для «незаконных» детей, у порога которого стоят две «незаконные» малютки, на толпу македонцев в широких поясах и барашковых шапках с зеленым верхом; задерживается на мгновение на здании училища, где место учащихся детей занимают теперь резервные солдаты, и упирается в новое монументальнейшее здание, величественный замок, который повелительно высится над всеми тремя Бунарами: еврейским, цыганским и болгарским, как торжественное воплощение социальной справедливости и человечности: софийская тюрьма!
«Луч» N 77 (163), 2 апреля 1913 г.
Л. Троцкий. БОЛГАРИЯ И РУССКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
(Беседа с болгарским государственным деятелем)
– Скажите, пожалуйста, есть ли у России политика в балканском вопросе?