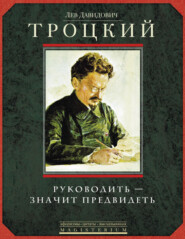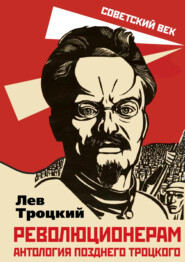По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моя жизнь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Второй математик, Злотчанский, был противоположностью Юрченке: худой, с колючими усами на зеленовато-желтом лице, с всегда мутными белками глаз и усталыми движениями, точно спросонья, он то и дело шумно отхаркивался и отплевывался в классе. Про него известно было, что у него несчастный роман и что он кутит и пьет. Неплохой математик, Злотчанский, однако, глядел куда-то поверх учеников, поверх занятий и даже поверх самой математики. Несколько лет спустя он перерезал себе горло бритвой.
С обоими математиками у меня отношения были ровные и благоприятные, так как в математике я был силен. В последних классах реального училища я собирался даже пойти по чистой математике.
Историю преподавал Любимов, крупный и осанистый человек, с золотыми очками на небольшом носу и с мужественной молодой бородкой вокруг полного лица. Только когда он улыбался, открывалось внезапно и с полной очевидностью даже для нас, мальчиков, что осанистость этого человека мнимая, что он слабоволен, робок, чем-то раздирается изнутри и боится, что об нем что-то знают или могут узнать.
В историю я втягивался с возраставшим, хотя и очень расплывчатым интересом. Я постепенно расширял круг своих занятий, отходя от жалких официальных учебников к университетским курсам или к тяжелым томам Шлоссера. В моем увлечении историей был, несомненно, элемент спорта: я заучивал множество ненужных имен и подробностей, обременительных для памяти, чтобы поставить иногда в затруднительное положение преподавателя. Руководить занятиями Любимов не был в состоянии. Во время уроков он иногда неожиданно вспыхивал огнем и злобно оглядывался вокруг, ловя шепот, будто бы произносивший оскорбительные для него слова. Класс удивленно настораживался. Любимов преподавал в одной из женских гимназий, и там тоже стали замечать за ним странности. Кончилось тем, что в припадке помешательства Любимов повесился на переплете окна.
Географа Жуковского боялись как огня. Он резал школьников, как автоматическая мясорубка. Во время уроков Жуковский требовал какой-то совершенно несбыточной тишины. Нередко, оборвав рассказ ученика, он настораживался с видом хищника, который прислушивается к звуку отдаленной опасности. Все знали, что это значит: нужно не шевелиться и по возможности не дышать. Один только раз на моей памяти Жуковский чутьчуть поотпустил вожжи, кажется, это было в день его рождения. Кто-то из учеников сказал ему что-то полуприватное, т. е. не непосредственно относящееся к уроку. Жуковский стерпел. Это само по себе было событием. Немедленно же приподнялся Ваккер, подлипала, и, осклабясь, сказал: «У нас все говорят, что Любимов Жуковскому в подметки не годится». Жуковский сразу весь напрягся. «Что такое? Садитесь!». Воцарилась немедленно та особая тишина, которая бывала только на уроках географии. Ваккер присел, как под ударом. Со всех сторон к нему оборачивались укоризненные или брезгливые лица. «Ей богу, правда», – шепотом отвечал Ваккер, надеясь этим все-таки тронуть сердце географа, у которого он был на плохом счету.
Основным учителем немецкого языка был Струве, огромный немец с большой головой и бородой, доходившей до пояса. На маленьких, почти детских ножках этот человек переваливал свое тяжелое тело, которое казалось сосудом добродушия. Струве был честнейшим человеком, страдал неуспехами своих учеников, волновался, уговаривал, горестно переживал каждую поставленную им двойку: до единицы он не спускался никогда; старался никого не оставлять на второй год и устроил в училище племянника своей кухарки, только что упомянутого Ваккера, который, впрочем, оказался малоспособным и еще менее привлекательным мальчиком. Струве был немножко смешной, но в общем симпатичной фигурой.
Французский язык преподавал Густав Самойлович Бюрнанд, – швейцарец, тощий человек с плоским, точно из-под тисков вышедшим профилем, с небольшой лысиной, с тонкими синими и недобрыми губами, острым носом и с таинственным большим шрамом в виде буквы икс на лбу. Бюрнанда все единодушно терпеть не могли, и было за что. Страдая несварением желудка, он глотал в течение урока какие-то конфетки и в каждом ученике видел личного врага. Шрам на его лбу служил постоянным источииком догадок и гипотез. Утверждали, что в молодости Густав дрался на дуэли и противник успел рапирой начертать у него косой крест на лбу. Через несколько месяцев появились опровержения. Дуэли не было, а была хирургическая операция, при которой часть лба понадобилась для починки носа. Школьники тщательно вглядывались в нос француза и наиболее отважные утверждали, что ясно видят линию шва. Были спокойные умы, искавшие объяснения шраму в приключении раннего детства: упал с лестницы и расшибся. Но это объяснение отвергалось как слишком прозаическое. К тому же совершенно невозможно было представить себе Бюрнанда ребенком.
Старшим швейцаром, игравшим немалую роль в нашей жизни, был невозмутимый немец Антон с очень внушительными седеющими бакенбардами. По части опозданий, оставления без обеда, заключения в карцер Антон имел как будто лишь техническую, но на деле большую власть, и с ним надлежало сохранять дружественные отношения. Я, впрочем, относился к нему довольно безразлично, как и он ко мне, так как я не принадлежал к числу его клиентов: в школу я являлся аккуратно, ранец мой был в порядке и ученический билет уверенно покоился в левом кармане куртки. Но десятки учеников каждый день попадали в зависимость от Антона и разными путями покупали его благорасположение. Во всяком случае он для всех нас являлся одним из устоев реального училища св. Павла. Каково же было наше удивление, когда, вернувшись с каникул, мы узнали, что старик Антон стрелял в восемнадцатилетнюю дочь другого швейцара на почве страсти и ревности и сейчас сидит в тюрьме.
Так в размеренную жизнь школы и во всю тогдашнюю, загнанную внутрь общественную жизнь врывались отдельные личные катастрофы и порождали каждый раз чрезмерное впечатление, как вопль под пустыми сводами.
При церкви св. Павла существовал сиротский дом. Для него был выделен угол нашего училищного двора. В синей застиранной парусине, мальчики из приюта появлялись на дворе с нерадостными лицами, уныло бродили в своем углу и понуро поднимались по лестнице к себе. Несмотря на то что двор был общий и сиротский угол ничем не был отгорожен, реалисты и «воспитанники», как они назывались, представляли два совершенно замкнутых мира. Я пробовал раза два заговаривать с мальчиками в синей парусине, но они отвечали угрюмо, нехотя и торопились вернуться к себе: у них был строгий наказ не вмешиваться в дела реалистов. Так, в течение семи лет я гулял на этом дворе и не знал имени ни одного из сирот. Пастор Биннеман, надо полагать, благословлял их в начале года по сокращенному требнику.
В той части двора, которая примыкала к сиротскому дому, высились сложные гимнастические приспособления: кольца, шесты, лестницы, вертикальные и наклонные, трапеции, параллельные брусья и прочее. Вскоре после поступления в училище я хотел повторить прием, проделанный на моих глазах одним из мальчиков сиротского дома. Поднявшись по вертикальной лестнице к зацепившись носками за верхнюю перекладину, я повис вниз головой и, захватив руками перекладину лестницы как можно ниже, оттолкнулся носками, чтобы, описав в воздухе дугу в 180 градусов, стать на землю упругим прыжком. Но я не выпустил вовремя из рук перекладины и, описавши дугу, всем телом ударился об лестницу. Грудь сдавило клещами, сперло дыхание, я извивался на земле, как червь, хватал за ноги стоящих вокруг мальчиков и потерял сознание. После этого я стал осторожнее с гимнастикой.
Я совсем мало жил жизнью улицы, площади, спорта и развлечений на открытом воздухе. Это я наверстывал на каникулах в деревне. Город представлялся мне созданным для занятий и чтения. Драки мальчиков на улице казались мне позором. Между тем недостатка в поводах не было никогда.
Гимназисты, за их серебристые пуговицы и гербы, назывались селедками, а медно-желтые реалисты именовались копченками. По Ямской, когда я возвращался домой, меня настойчиво преследовал долговязый гимназист, допрашивая: «Почем у вас копченки?» – и, не получая ответа на свой деловой вопрос, подталкивал меня плечом. «Чего вы ко мне пристаете?» – спросил я его тоном задыхающейся вежливости. Гимназист опешил, с минуту подумал, а потом спросил:
– А у вас рогатка есть?
– Рогатка, – переспросил я, – а что это такое? Долговязый гимназист молча вынул из кармана небольшой прибор: резину на деревянной развилке и кусок олова. «Я из окошка на крыше голубей бью, а потом жарю». Я глядел на своего нового знакомого с удивлением. Такое занятие казалось мне небезынтересным, но все же неуместным и как бы неприличным в городской обстановке.
Многие из мальчиков катались на море в лодке, ловили с волнореза рыбу на уду. Я этих удовольствий совершенно не знал. Странным образом море в тот период вообще не занимало в моей жизни никакого места, хотя на берегу его я прожил семь лет. За все это время я ни разу не катался в лодке, не ловил рыбы и вообще встречался с морем только во время переездов в деревню и обратно. Когда Карльсон приходил в понедельник с загоревшим носом, на котором лупилась кожа, и хвалился, как он вчера ловил бычков с лодки, мне эти радости казались далекими и ко мне не относящимися. Во мне тогда еще не просыпался страстный охотник и рыболов.
В приготовительном классе я близко сошелся с Костей Р., сыном врача. Костя был на год моложе меня, меньше ростом, с виду тихоня, но шалун и плут, с острыми глазенками. Он знал хорошо город и имел в этой области большой перевес надо мной. Прилежанием он не отличался, а я как начал с первого дня, так и шел на пятерках. Дома Костя только и разговаривал, что о своем новом приятеле. Кончилось тем, что Костина мама, сухонькая, маленькая женщина, пришла к Фанни Соломоновне с просьбой: «Нельзя ли мальчикам заниматься вместе?». После совещания, к которому был привлечен и я, решили согласиться. В течение двух или трех лет мы сидели на одной парте, пока Костя не остался в классе на второй год и не оторвался этим от меня. Впрочем, связи сохранились и дальше.
У Кости была гимназистка сестра, года на два старше его. У сестры были подруги. У подруг братья. Сестры обучались музыке. Братья увивались вокруг подруг своих сестер. В дни рождения родители приглашали гостей. Создавался маленький мирок симпатий, соревнований, вальса, фантов, зависти и вражды. Центром этого мирка была семья богатого купца А., жившая в том же доме, что и семья Кости, и в том же этаже, так что коридоры квартир выходили во дворе на одну и ту же висячую галерею, на которой и происходили случайные и неслучайные встречи. В семье А. царила совсем другая атмосфера, чем та, к которой я привык в семье Шпенцера. Там всегда вращалось много гимназистов и гимназисток, которые упражнялись в ухаживании под снисходительную улыбку матери. В разговорах нередко упоминалось, кто к кому неравнодушен. Я всегда обнаруживал к этому вопросу величайшее свое презрение, довольно, впрочем, лицемерное. «Когда вы в кого-нибудь влюбитесь, – говорила мне наставительно четырнадцатилетняя гимназистка, старшая из сестер А., – то вы мне обязаны это сказать». «Так как я ничем не рискую, то могу обещать», – ответил я со слегка высокомерным достоинством человека, который знает себе цену: я был уже во втором классе. Недели через две девочки ставили живые картины. Младшая из сестер на фоне большого черного платка, усеянного звездами из серебряной бумаги, изображала с приподнятой вверх рукой ночь. «Смотрите, какая она хорошенькая», – говорила старшая, слегка меня подталкивая. Я смотрел, внутренне соглашался и тут же внезапно решил про себя: пришел час выполнить обещание. Вскоре старшая подвергла меня допросу: «Вам нечего мне сказать?». Увы, потупя глаза, я ответил: «Есть».
– Кто же она?..
Но у меня не поворачивался язык. Она предложила мне назвать первую букву. Это было легче. Старшую звали Анной. Младшую сестру – Бертой. Я назвал вторую букву алфавита, а не первую.
– Бе? – повторила она с разочарованием, и на этом разговор прекратился.
На второй день я шел заниматься к Косте длинным коридором третьего этажа, как всегда, со двора. Еще с лестницы я заметил, что обе сестры с матерью сидят у своей двери на галерее. Когда мне оставалось несколько шагов до женской группы, я почувствовал, что на мне скрещиваются иглы иронических взглядов, которые пронизывают меня насквозь. Младшая не улыбалась, наоборот, отвела глаза куда-то в сторону с выражением ужасающего безразличия. Это сразу убедило меня в том, что я предан. Мать и старшая подали мне руки с выражением, ясно говорившим: «Хорош, гусь, теперь мы знаем, что скрывается под твоей серьезностью», – а младшая протянула руку, как дощечку, не глядя на меня и не отвечая на пожатие. Мне предстояло после этого пройти кусок галереи, повернуть и продвигаться на виду у мучительниц вдоль всей поперечной стороны. Все время я чувствовал те же убийственные иглы за спиною. После такого неслыханного предательства я решил совершенно порвать с этим коварным племенем, не ходить к ним, забыть их, вырвать их навсегда из своего сердца. Мне помогли скоро наступившие каникулы.
Неожиданно для меня обнаружилось, что я близорук. Меня свели к глазному врачу, и тот прописал мне очки. Нельзя сказать, чтобы это огорчило меня: как-никак очки придавали мне значительность. Я не без удовольствия предвкушал свое появление в очках в Яновке. Но для отца очки оказались невыносимым ударом. Он считал, что все это притворство и важничанье, и категорически потребовал, чтобы я снял очки. Напрасно я убеждал его, что не вижу в классе букв на доске и не разбираю на улице вывесок. Очки мне приходилось в Яновке носить только тайком.
Все же в деревне я был гораздо смелее, размашистее и предприимчивее. Я как бы отряхал дисциплину города со своих плеч. Я ездил один верхом в Бобринец и возвращался в тот же день к вечеру домой. Это составляло 50 километров. В Бобринце я показывал на улицах свои очки и не сомневался во впечатлении. В Бобринце было только мужское городское училище. Ближайшая гимназия была в Елизаветграде, в 50 километрах. В то же время в Бобринце была женская прогимназия. Партнерами гимназисток были ученики городского училища. Но летом дело менялось. Из Елизаветграда возвращались гимназисты и реалисты и оттесняли великолепием формы и изысканностью обращения учеников городского училища. Антагонизм был жестокий. Обиженные бобринецкие школьники группировались в небольшие ударные шайки и пускали при случае в дело не только палки и камни, но и ножи. Я безмятежно сидел на ветке шелковицы в саду у знакомой семьи и лакомился ягодами, как кто-то изрядным камнем из-за забора хватил меня по голове. Это был маленький эпизод долгой и небескровной борьбы, которая прерывалась только с отъездом привилегированного сословия из Бобринца на занятия. В Елнзаветграде дело обстояло иначе. Там гимназисты и реалисты господствовали на улицах и в сердцах в течение учебного года. Но на лето из Харькова, Одессы и более отдаленных университетских городов возвращались студенты и сразу отодвигали гимназистов на задворки. Антагонизм и здесь был жестокий. Вероломство гимназисток было неописуемо. Но, по общему правилу, борьба велась преимущественно духовным мечом.
В деревне я играл в крокет и кегли, руководил фантами и говорил дерзости девицам. В деревне же я научился ездить на двухколесном велосипеде, целиком сделанном Иваном Васильевичем. Только благодаря этому и отважился позже упражняться на одесском треке. Мало того, в деревне я самостоятельно управлял кровным жеребцом, запряженным в бегунки. К этому времени в Яновке имелись уже хорошие выездные лошади. Я предлагаю прокатить дядю Бродского – пивовара. «А ты меня не опрокинешь?» – спрашивает дядя, который по всему своему характеру не склонен к отважным предприятиям. «Что вы, дядя», – говорю я таким возмущенным тоном, что дядя со вздохом, но безропотно садится за моей спиною. Я выезжаю через балку, мимо мельницы, по дороге, только что примятой летним дождем. Гнедому жеребцу хочется размаха, его раздражает, что ехать приходится в гору, и он сразу берет рывком. Я натягиваю вожжи, упираясь ногами в передок, и приподнимаюсь ровно на столько, чтобы не заметил дядя, что я вишу на вожжах. Но у жеребца есть своя амбиция. Он в три с лишним раза моложе меня, ему четыре года. Гнедой подхватывает в гору легкие бегунки с раздражением, как кошка, которая стремится удрать от привязанной к хвосту жестянки. Я чувствую, как дядя за моей спиной прекратил курение, чаще дышит и собирается поставить ультиматум. Я сажусь плотнее, отпускаю гнедому вожжи и для придания себе полной уверенности прищелкиваю языком в такт селезенке, которая играет у гнедого на славу. «Не шали, мальчик», – покровительственно говорю я жеребцу, когда тот пробует перейти на галоп, и раздвигаю локти пошире. Я чувствую, что дядя успокоился и снова задышал папироской. Игра выиграна, хотя сердце мое екает, как селезенка гнедого.
Вернувшись в город, снова протягиваю шею в ярмо дисциплины. Я делаю это без большого усилия. Игры и спорт уступают место книгам и отчасти театру. Я подчиняюсь городу, почти не соприкасаясь с ним. Жизнь города проходит почти полностью мимо меня. Впрочем, не только мимо меня одного. И взрослые обыватели старались не слишком высовывать голову из окна. Одесса была, пожалуй, самым полицейским городом в полицейской России. Главным лицом в городе был градоначальник, бывший контр-адмирал Зеленой Второй. Неограниченная власть сочеталась в нем с необузданным темпераментом. О нем ходили неисчислимые анекдоты, которые одесситы передавали друг другу шепотом. За границей, в вольной типографии, вышел в те годы целый сборник рассказов о подвигах контр-адмирала Зеленого Второго. Я видел его только один раз, и то лишь со спины. Но этого было для меня вполне достаточно. Градоначальник стоял во весь рост в своем экипаже, хриплым голосом испускал на всю улицу ругательства и потрясал вперед кулаком. Перед ним тянулись полицейские с руками у козырьков и дворники с шапками в руках, а из-за занавесок глядели перепуганные лица. Я подтянул ремни ранца и ускоренным шагом направился домой.
Когда я хочу восстановить в памяти образ официальной России в годы моей ранней юности, я вижу спину градоначальника, его протянутый в пространство кулак и слышу хриплые ругательства, которые не принято печатать в словарях.
Глава IV. КНИГИ И ПЕРВЫЕ КОНФЛИКТЫ
Природа и люди не только в школьные, но и в дальнейшие годы юности занимали в моем духовном обиходе меньшее место, чем книги и мысли. Несмотря на свое деревенское происхождение, я не был чуток к природе. Внимание к ней и понимание ее я развил в себе позже, когда не только детство, но и первая юность остались позади. Люди долго скользили по моему сознанию, как случайные тени. Я смотрел в себя и в книги, в которых искал опять-таки себя или свое будущее.
Чтение мое началось с 1887 г., со времени приезда в Яновку Моисея Филипповича, который привез в деревню пачку книг, среди которых были народные произведения Толстого. Вчитываться в книги на первых порах было нс столько сладостным, сколько тяжким делом. Каждая новая книжка представляла новые препятствия: неизвестные слова, непонятные жизненные отношения, зыбкость, отделяющая реальное от фантастического. Спросить по большей части не у кого было. Я терялся, начинал, бросал и начинал снова, сочетая неуверенную радость познания с испугом перед неизвестным. Может быть, ближе всего можно сравнить мое тогдашнее чтение с ездою ночью по степным дорогам: слышен скрип колес, пересекающиеся голоса, костры у дороги выступают из тьмы; все как будто знакомо и в то же время непонятно, что происходит, кто и с чем едет, и даже неясно, куда сам едешь, вперед или назад. И нет никого, кто, подобно дяде Григорию, объяснил бы тебе: это наши чумаки пшеницу везут.
В Одессе выбор книг был несравненно более широкий и было руководство, внимательное и доброжелательное. Я стал читать запоем. На прогулку меня приходилось отрывать. На ходу я переживал прочитанное и спешил к продолжению. По вечерам упрашивал дать мне еще четверть часа, ну хотя бы пять минут, чтобы докончить главу. Каждый вечер происходили на этой почве небольшие препирательства.
Пробуждающаяся жажда видеть, знать, овладеть находила себе выход в этом неутомимом поглощении печатных строк, в этих всегда протянутых детских руках и губах к сосуду словесного вымысла. Все, что в дальнейшем жизнь давала интересного, захватывающего, радостного или скорбного, было уже заключено в переживаниях чтения, как намек, как обещание, как осторожный и легкий набросок карандашом или акварелью.
Чтение вслух по вечерам в первые годы моей жизни в Одессе составляло лучшие часы или, вернее, получасы между концом домашних занятий и сном. Читал Моисей Филиппович, обыкновенно Пушкина или Некрасова, чаще последнего. Но в положенный час Фанни Соломоновпа говорила: «Пора тебе, Левушка, спать». Я глядел на нее с мольбою. «Надо, мальчик, спать», – говорил Моисей Филиппович. «Еще пять минут», – умолял я, и мне давали еще пять минут. После этого я целовался и уходил с таким чувством, что мог бы еще слушать чтение целую ночь, но засыпал, едва донесши голову до подушки.
Гимназистка восьмого класса, Софья, дальняя родственница, попала в семью Шпенцера на несколько недель, чтоб переждать скарлатину в своей собственной семье. Это была очень способная и начитанная девица, правда, лишенная оригинальности и характера и скоро увядшая. Я восторгался ею, открывая у нее каждый день все новые и новые знания и качества и непрерывно чувствуя свое полное ничтожество. Я переписывал для нее программу к экзаменам и вообще оказывал ей целый ряд мелких услуг. Зато в послеобеденные часы, когда старшие отдыхали, восьмиклассница читала со мной вслух, а затем мы стали вместе сочинять сатирическую поэму в стихах «Путешествие на луну». В работе этой я все время терял темп. Стоило мне внести какое-нибудь скромное предложение, как старшая сотрудница подхватывала мысль, быстро развивала ее, вносила варианты, легко подбирала рифмы, таща меня за собой на буксире. Когда прошли положенные шесть недель и Софья возвратилась к себе, я чувствовал себя подросшим.
Срединаиболее выдающихся знакомых семьи находился Сергей Иванович Сычевский, старый журналист, романтик и известный на юге знаток и истолкователь Шекспира. Это был даровитый, но спившийся человек. От того, что он сильно пил, его отношение к людям, даже к детям, было отношением виноватости. Он знал Фанни Соломоновну с юных лет и называл ее Фанюшкой. Сергей Иванович возлюбил меня крепко с первого разу. Расспросивши, что у нас проходят в школе, старик задал мне тему: сравнить «Поэт и книгопродавец» Пушкина и «Поэт и гражданин» Некрасова. Я обомлел. Второго произведения я даже не читал, а главное, я робел перед Сычевским, как перед писателем. Самое слово это звучало для меня с недосягаемой высоты. «Мы сейчас это все прочтем», – сказал Сергей Иванович и туг же стал читать, а читал он прекрасно. «Понял? Ну вот и напиши». Меня усадили в кабинете, дали мне Пушкина и Некрасова, бумаги и чернил. «Да я не могу, – клялся я трагическим шепотом Фанни Соломоновне, – что я тут напишу?». «А ты не волнуйся», – отвечала она и гладила меня по голове. «Ты напиши, как понял, так просто и напиши». У нее была нежная рука и нежный голос. Я немного успокоился, т. е. кое-как совладал с напуганным своим самолюбием, и стал писать. Через час примерно меня потребовали к ответу. Я принес большую исписанную страницу и с таким трепетом, которого никогда не знал в училище, вручил ее писателю. Сергей Иванович пробежал несколько строк про себя, потом брызнул из глаз светлыми искрами на меня и воскликнул: «Но вы послушайте только, что он написал, вот молодчина-то какой», – и стал читать вслух: «Поэт жил с любимой им природой, каждый звук которой, и радостный и грустный, отражался у него в сердце». Сергей Иванович поднял палец вверх. «Ведь как сказал прекрасно: каждый звук которой, – слышите, – и радостный и грустный, отражался у поэта в сердце». И так эти слова врезались тогда в мое собственное сердце, что я запомнил их на всю жизнь.
За обедом Сергей Иванович много шутил, вспоминал, рассказывал, вдохновляясь рюмочкой: водка для него была наготове. Время от времени он взглядывал на меня через стол и восклицал: «Да как же это ты так хорошо все изложил, дай же я тебя поцелую», – и он начинал старательно вытирать салфеткой усы и губы, приподнимался со стула и неверными шагами пускался в обход стола. Я сидел, как под ударом катастрофы, радостной, но катастрофы. «Встань, Левочка, пойди к нему навстречу», – шепотом учил меня Моисей Филиппович. После обеда Сергей Иванович читал на память сатирический «Сон Попова». Я с напряжением глядел под седые усы, из-под которых выходили такие забавные слова. Полупьяное состояние писателя нисколько не умаляло в моих глазах его авторитет. Дети обладают большой силой отвлечения.
Иногда перед сумерками я гулял с Моисеем Филипповичем, и, когда он бывал хорошо настроен, мы разговаривали о самых различных вещах. Однажды он излагал мне содержание оперы «Фауст», которую очень любил. Я ловил с жадностью рассказ, мечтая послушать когданибудь оперу на сцене. По тону рассказчика я почувствовал, что дело подходит к какому-то щекотливому пункту. Я волновался за рассказчика и боялся, что не узнаю продолжения. Но Моисей Филиппович совладал с собою и продолжал так: «Тут у Гретхен родился ребеночек до брака…». Когда перевалили через рубеж, обоим нам стало легче, и повесть была благополучно доведена до конца.
Я лежал с перевязанным горлом и мне дали в утешение Диккенса «Оливер Твист». Первая же фраза доктора в родильном доме насчет того, что у женщины нет на руке кольца, поставила меня в тупик. «Что это значит? – спрашивал я Моисея Филипповича. – Причем тут кольцо?». «А это, – ответил он мне, замявшись, – когда невенчанные, тогда нет кольца». Я вспомнил Гретхен. И судьба Оливера Твиста развертывалась в моем воображении из кольца, из того кольца, которого не было.
Запретный мир человеческих отношений толчками врывался в мое сознание через книги, и многое, уже слышанное в случайной, чаще всего грубой и непристойной форме, теперь через литературу обобщалось и облагораживалось, поднимаясь в какую-то более высокую область.
В это время волновала умы недавно появившаяся «Власть тьмы» Толстого. О ней говорили многозначительно, теряясь в суждениях. Победоносцев добился от Александра III недопущения пьесы в театры. Я знал, что Моисей Филиппович и Фанни Соломоновна после того, как я уходил спать, читали в соседней комнате драму: мне чуть слышен был гул голосов. «А мне можно прочитать?» – спрашивал я. «Нет, голубчик, тебе еще рановато», – ответили мне с такой категоричностью, что я больше не настаивал. Но я заметил, что новенькая тоненькая книжка появилась на знакомой мне полке. Пользуясь часами отсутствия старших, я в несколько приемов прочитал толстовскую драму. Она подействовала на меня далеко не так глубоко, как опасались, очевидно, мои воспитатели. Наиболее трагические места, как удушение ребенка и разговор о хрусте костей, воспринимались не как страшная реальность, а как книжное измышление, как выдумка для сцены, т. е. по существу дела, не воспринимались вовсе.
Во время каникул я натолкнулся на деревенском шкафу, под самым потолком, среди старых бумаг на привезенную из Елизаветграда старшим братом маленькую книжечку и, развернув ее, почуял в ней что-то необычное и тайное. Это был судебный отчет по делу об убийстве девочки на почве полового преступления. Я читал книжку, пересыпанную медицинскими и юридическими подробностями, в состоянии тревоги, точно ночью попал в лес, где наталкиваюсь на полуосвещенные луною призрачные деревья и не нахожу выхода. Но уже очень скоро это впечатление рассеялось. В человеческой психологии, особенно же в детской, есть свои буфера, тормоза, предохранительные клапаны и амортизаторы – большая и хорошо разработанная система, предохраняющая от слишком резких или несвоевременных сотрясений.
В театр я первый раз попал, будучи в приготовительном классе. Это было необыкновенно, и этого изобразить невозможно. Меня отправили на украинский спектакль в сопровождении училищного сторожа Григория Холода. Я сидел бледный как полотно – это Григорий потом докладывал Фанни Соломоновне – и мучился радостью, которой не мог вместить. Во время антрактов я не вставал с места, чтобы чего-нибудь, упаси боже, не упустить. В завершение ставился водевиль «Жилец с тромбоном». Напряжение драмы разрешилось здесь бурным смехом. Я качался на своем месте, запрокидывая голову, и снова впивался в сцену. Дома я излагал «Жильца с тромбоном», прибавляя все новые и новые подробности, чтобы вызвать тот самый смех, который я только что пережил. Но я с горечью убеждался, что не достигаю цели.
– Да тебе, видно, «Назар Стодоля» вовсе не понравился? – спросил Моисей Филиппович. Я почувствовал эти слова как внутренний упрек; я вспомнил страдания Назара и сказал:
– Нет, это было совсем замечательно.
Перед третьим классом я жил недолго под Одессой, на даче у дяди-инженера, и попал на любительский спектакль, где слугу играл ученик нашего училища Кругляков. Это был слабогрудый, веснушчатый мальчик, с умными глазами, но совсем больной. Я привязался к нему всей душой и умолял его вместе со мной поставить какой-нибудь спектакль. Остановились на «Скупом рыцаре» Пушкина. Мне выпала роль сына, а Круглякову – отца. Я целиком подчинился его руководству и целыми днями заучивал пушкинские строфы. Какое это было сладостное волнение! Но скоро все рушилось: родители запретили Круглякову ставить спектакль из-за его здоровья. Когда занятия начались, он лишь в течение нескольких первых недель являлся в училище. Я каждый раз подстерегал его у выхода, чтобы иметь возможность – на обратном пути вести с ним литературные беседы. Но вскоре Кругляков совсем исчез. Я узнал, что он болеет, а несколько месяцев спустя пришла весть, что он умер от чахотки.
Колдовство театра владело мною несколько лет. Позже я пристрастился к итальянской опере, которою очень гордилась Одесса. В шестом классе я стал даже давать платный урок только для того, чтобы иметь деньги на театр. В течение нескольких месяцев я был безмолвно влюблен в колоратурное сопрано, которое носило таинственное имя Джузеппины Угет и казалось мне временно сошедшим с небес на подмостки одесского театра.
Газет мне не полагалось читать, но на этот счет не было очень твердого режима, и постепенно, с несколькими отступлениями я завоевал себе право чтения газет, главным образом фельетона. В центре интересов одесской прессы стоял театр, главным образом опера, и важнейшие группировки общественного мнения шли, пожалуй, по линии театральных пристрастий. Только в этой области газетам дозволялось проявлять подобие темперамента.
В те дни высоко поднялась звезда фельетониста Дорошевича. Он стал в короткое время властителем дум, хотя писал о мелочах и нередко о пустяках. Но он был несомненный талант и дерзкой формой безобидных по существу фельетонов как бы приоткрывал отдушину из придавленной Зеленым Вторым Одессы. Я нетерпеливо набрасывался на утреннюю газету, ища подписи Дорошевича. В увлечении его статьями сходились тогда и умеренные либеральные отцы, и еще не успевшие стать неумеренными дети,
Любовь к слову сопровождала меня с ранних лет, то ослабевая, то нарастая, а вообще несомненно укрепляясь. Писатели, журналисты, артисты оставались для меня самым привлекательным миром, в который доступ открыт только самым избранным.
Во втором классе мы затеяли журнал. Я об этом много советовался с Моисеем Филипповичем, который придумал даже и заглавие – «Капля». Мысль была такова: второй класс реального училища святого Павла вносит свою каплю в океан литературы. Я написал на эту тему стихотворение, исполнявшее обязанности программной статьи. Были стихи и рассказы, по большей части мои же. Один из рисовальщиков украсил обложку сложным орнаментом. Кто-то предложил показать «Каплю» Крыжановскому. Эту миссию взял на себя Ю., живший у Крыжановского на квартире. Он выполнил задачу с блеском: встал со своего места, подошел к кафедре, твердо положил на нее «Каплю», вежливо поклонился и твердыми шагами вернулся обратно. Все замерли. Крыжановский посмотрел на обложку, погримасничал усами, бровями и бородой и молча стал читать про себя. В классе стояла полная тишина, только чуть шуршали страницы «Капли». Потом Крыжановский встал с кафедры и очень проникновенно прочитал мою «Капельку чистую». «Хорошо?» – спросил он. «Хорошо», – ответил довольно дружный хор. «Хорошо-то хорошо, – сказал Крыжановский, – только автор стихосложения не знает. Ну-ка, знаешь ты, что такое дактиль?» – обратился он ко мне, разгадав автора за прозрачным псевдонимом. «Нет, не знаю», – признался я. «Ну так я расскажу». И забросив на несколько уроков грамматику и синтаксис, Крыжановский разъяснял второклассникам тайны метрического стихосложения. «А насчет журнала, – сказал он под конец, – лучше пусть это будет не журнал, и океана словесности не надо, а пусть это будет просто тетрадка ваших упражнений». Дело н том, что школьные журналы были запрещены. Но вопрос разрешился с другого конца. Мирное течение моих занятий неожиданно прервалось: я оказался исключен из реального училища св. Павла.