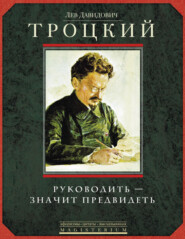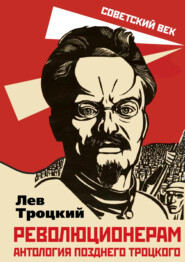По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моя жизнь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я познакомился и сблизился с садовником Швиговским, чехом по происхождению. В его лице я видел впервые рабочего, который получал газеты, читал по-немецки, знал классиков, свободно участвовал в спорах марксистов с народниками. Его избушка в саду, состоявшая из одной комнаты, была местом, где встречались приезжие студенты, бывшие ссыльные и местная молодежь. Через Швиговского можно было достать запрещенную книгу. В разговорах ссыльных мелькали имена народовольцев: Желябова, Перовской, Фигнер – не как героев легенды, а как живых людей, с которыми встречались если не эти ссыльные, то их старшие друзья. У меня было такое чувство, что я включаюсь маленьким звеном в большую цепь.
Я набрасывался на книги в страхе, что всей жизни не хватит на подготовку к действию. Чтение было нервное, нетерпеливое и несистематическое. От нелегальных брошюрок предшествующей эпохи я переходил к «Логике» Джона Стюарта Милля, потом садился за «Первобытную культуру» Липперта, не дочитав «Логики» и до половины. Утилитаризм Бентама казался мне последним словом человеческой мысли. В течение нескольких месяцев я чувствовал себя несокрушимым бентамистом. По той же линии шли увлечения реалистической эстетикой Чернышевского. Не покончив с Липпертом, я перебрасывался на «Историю французской революции» Минье. Каждая книга жила особо, не находя себе места в системе. Борьба за систему имела напряженный, моментами неистовый характер. В то же время я отталкивался от марксизма отчасти именно потому, что он представлял собой законченную систему.
Одновременно я стал читать газеты, не так, как в Одессе, а под политическим углом зрения. Наибольшим авторитетом пользовалась тогда московская либеральная газета «Русские ведомости». Мы ее не читали, а изучали, начиная с импотентных профессорских передовиц и кончая научными фельетонами. Гордостью газеты были иностранные корреспонденции, особенно из Берлина. Через «Русские ведомости» я получил первое представление о политической жизни Западной Европы, особенно о парламентских партиях. Сейчас трудно даже представить себе то волнение, с каким мы следили за речами Бебеля и даже Евгения Рихтера. И до сих пор я помню фразу, которую Дашинский бросил вошедшим в здание парламента полицейским: «Я представитель 30000 рабочих и крестьян Галиции, кто смеет ко мне прикоснуться!». Мы рисовали себе при этом титаническую фигуру галицийского революционера. Театральные подмостки парламентаризма, увы, жестоко обманывали нас. Успехи немецкого социализма, президентские выборы в Соединенных Штатах, потасовки в австрийском рейхсрате, происки французских роялистов, все это захватывало нас гораздо больше, чем личная судьба каждого из нас.
Тем временем отношения с родными ухудшились. Приезжая в Николаев для продажи зерна, отец какими-то путями узнал о моих новых знакомствах. Он чувствовал, что надвигается опасность, но надеялся еще отвратить ее силою отцовского авторитета. У нас было несколько бурных объяснений. Я непримиримо боролся за свою самостоятельность, за право выбора пути. Кончилось тем, что я отказался от материальной помощи семьи, покинул свою ученическую квартиру и поселился вместе со Швиговским, который к этому времени арендовал другой сад, с более обширной избою. Здесь мы вшестером жили «коммуной». Летом число наше увеличивалось одним-двумя туберкулезными студентами, искавшими чистого воздуха. Я стал давать уроки. Мы жили спартанцами, без постельного белья, и питались похлебками, которые сами готовили. Мы носили синие блузы, круглые соломенные шляпы и черные палки. В городе считали, что мы примкнули к таинственной секте. Мы беспорядочно читали, неистово спорили, страстно заглядывали в будущее и были по-своему счастливы.
Через некоторое время мы создали общество для распространения в народе полезных книг. Мы собирали денежные взносы, покупали дешевые издания, но не умели их распространять. В саду Швиговского работали один наемный рабочий и один подросток – ученик. Нашу просветительную энергию мы направили прежде всего на них. Но рабочий оказался переодетым жандармом, который был специально подкинут к нам в сад для наблюдения за нами. Его звали Кирилл Тхоржевский. Он втянул в связь с жандармами и подростка. Тот стащил у нас большую пачку народных книг и снес ее в жандармское управление. Начало было явно неудачно. Но мы твердо надеялись на успехи в будущем.
Я написал для народнического издания в Одессе полемическую статью против первого марксистского журнала. В статье было много эпиграфов, цитат и яду. Содержания в ней было значительно меньше. Я послал статью по почте, а через неделю сам поехал за ответом. Редактор через большие очки с симпатией глядел на автора, у которого вздымалась огромная копна волос на голове при отсутствии хотя бы намека на растительность на лице. Статья не увидела света. Никто от этого не потерял, меньше всего я сам.
Когда выборная дирекция общественной библиотеки подняла годовую абонементную плату с пяти рублей до шести, мы увидели в этом попытку отгородиться от демократии и ударили в набат. Несколько недель мы только и делали, что подготовляли общее собрание членов библиотеки. Мы вытряхивали все свои демократические карманы, собирали рубли и полтинники и на эти деньги записывали новых, более радикальных членов, из которых далеко не все обладали не только шестью рублями, но и указанным в уставе двадцатилетним возрастом. Книгу заявлений в библиотеке мы превратили в собрание пламенных памфлетов. На годовом собрании сшиблись две партии: чиновники, учителя, либеральные помещики и морские офицеры, с одной стороны, мы, демократия, – с другой. Победа оказалась за нами по всей линии: мы восстановили пятирублевую плату и выбрали новое правление.
Бросаясь из стороны в сторону, мы решили создать университет на началах взаимообучения. Слушателей было человек двадцать. На меня легли лекции по социологии. Это звучало гордо. Я готовился к своему курсу изо всех сил. После двух лекций, прошедших вполне благополучно, я почувствовал сразу, что мои ресурсы истощены. Второй лектор, на которого лег курс французской революции, сбился на первых фразах и пообещал представить лекцию в письменном виде. Обещания он, разумеется, не выполнил. На этом предприятие закончилось.
Тогда с этим самым вторым лектором, старшим из братьев Соколовских, мы решили написать драму. Для этой цели мы даже вышли временно из коммуны и укрылись в отдельной комнате, никому не сообщая адреса.
Пьеса наша была проникнута общественными тенденциями на фоне борьбы поколений. Хотя оба драматурга еще полунедоверчиво относились к марксизму, тем не менее народник в пьесе представлял собою скорее инвалидную фигуру, а бодрость, свежесть, надежда были на стороне молодых марксистов. Такова сила времени! Романический элемент нашел выражение в том, что разбитый жизнью революционер старшего поколения влюбляется в марксистку, но она отчитывает его немилосердной речью о крушении народничества.
Работа над пьесой шла немалая. Иногда мы писали совместно, подталкивая и поправляя друг друга, иногда разбивали сцены на части, и каждый из нас в течение дня заготовлял явление или монолог. А в монологах, нужно сказать, у нас недостатка не было. Вечером Соколовский приходил со службы, которая позволяла ему свободно обрабатывать жалобные речи разбитого жизнью семидесятника. Я возвращался с уроков или от Швиговского. Хозяйская дочь подавала нам самовар. Соколовский вынимал из карманов хлеб и колбасу. Отделенные таинственной броней от всего мира, драматурги проводили остаток вечера в напряженной работе. Первое действие мы написали целиком, даже с надлежащим эффектом под занавес. Остальные действия, числом четыре, были только в набросках. Чем дальше мы подвигались, однако, тем больше охладевали к своей работе. Через некоторое время мы пришли к заключению, что таинственную комнату нашу надо ликвидировать, а завершение драмы отложить до будущего времени. Сверток рукописей был перенесен Соколовским на какую-то другую квартиру. Позже, когда мы сидели уже в одесской тюрьме, Соколовский сделал через своих родных попытку разыскать рукопись. Может быть, у него мелькала мысль о том, что ссылка будет как раз подходящим временем для обработки драматического произведения. Но рукописи не было, она исчезла бесследно. Вернее всего, хозяева, у которых она хранилась, после ареста злополучных авторов сочли за лучшее предать ее сожжению. Я мирюсь с этим тем легче, что на дальнейшем моем, не всегда гладком жизненном пути у меня пропали рукописи несравненно большего значения.
Глава VII. МОЯ ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Осенью 1896 г. я все же посетил деревню. Но дело ограничилось коротким перемирием с семьей. Отец хотел, чтоб я стал инженером. А я еще колебался между чистой математикой, к которой чувствовал большое тяготение, и революцией, которая постепенно овладевала мною. Каждое прикосновение к этому вопросу приводило к острому кризису в семье. Все были мрачны, все страдали, старшая сестра потихоньку плакала, и никто не знал, что предпринять. Гостивший в деревне дядя, инженер и владелец завода в Одессе, уговорил меня поехать на время к нему. Это все же был, хоть временный, выход из тупика. Я прожил у дяди несколько недель. Мы спорили о прибыли и прибавочной стоимости. Мой дядя был сильнее в присвоении прибыли, чем в объяснении ее. Поступление на математический факультет оттягивалось. Я жил в Одессе и искал. Чего? Главным образом, себя. Я заводил случайные знакомства с рабочими, доставал нелегальную литературу, давал уроки, читал тайные лекции старшим ученикам ремесленного училища, вел споры с марксистами, все еще пытаясь не сдаваться. С последним осенним пароходом я уехал в Николаев и снова поселился со Швиговским в саду.
Возобновилось старое. Мы обсуждали последние книжки радикальных журналов, спорили о дарвинизме, неопределенно готовились и ждали. Что послужило непосредственным толчком к начатию революционной пропаганды? На это трудно ответить. Толчок был внутренний. В той интеллигентской среде, в которой я вращался, никто не вел настоящей революционной работы. Мы отдавали себе отчет в том, что между нашими бесконечными беседами за чаем и революционной организацией – целая пропасть. Мы знали, что связи с рабочими требуют большой конспирации. Это слово мы произносили серьезно, с уважением, почти мистическим. Мы не сомневались, что в конце концов перейдем от чаепитий к конспирации, но никто определенно не говорил, когда и как это произойдет. Чаще всего в оправдание оттяжек мы говорили друг другу: надо подготовиться. И это не было так уж неверно.
Но что-то, очевидно, сдвинулось в воздухе и резко приблизило наш переход на путь революционной пропаганды. Сдвиг произошел не непосредственно в самом Николаеве, а во всей стране, прежде всего в столицах, но отдался и у нас. В 1896 г. в Петербурге разразились знаменитые массовые стачки ткачей. Это придало духу интеллигенции. Почувствовав пробуждение тяжелых резервов, студенты стали смелее. Летом, на Рождество и на Пасху десятки студентов появлялись в Николаеве и приносили с собой отголоски петербургской, московской и киевской борьбы. Некоторых исключали из университета, и недавние гимназисты возвращались с ореолом борцов. В феврале 1897 г. сожгла себя в Петропавловской крепости курсистка Ветрова. Эта трагедия, так и оставшаяся невыясненной до конца, всполошила всех. В университетских городах происходили волнения. Аресты и высылки учащались.
К революционной работе я приступил под аккомпанемент «ветровских» демонстраций. Дело было так: я шел по улице с младшим участником нашей коммуны Григорием Соколовским, юношей моего, примерно, возраста. «Надо бы все-таки и нам начать», – говорил я. «Надо начать, – ответил Соколовский. – Только как?» «Вот именно: как? – Надо найти рабочих, никого не дожидаться, никого не спрашивать, а найти рабочих и начать». «Я думаю, найти можно, – сказал Соколовский. – У меня был знакомый сторож на бульваре, библеец. Вот я к нему и схожу».
Соколовский в тот же день сходил на бульвар к библейцу. Того уже давно не было. Была какая-то женщина, а у этой женщины был знакомый, тоже сектант. Через этого знакомого незнакомой нам женщины Соколовский в тот же день познакомился с несколькими рабочими, среди которых был электротехник Иван Андреевич Мухин, ставший вскоре главной фигурой организации. Соколовский вернулся с поисков с горящими глазами. «Вот это люди так люди!»
На другой день мы сидели в трактире, группой человек в пять-шесть. Музыкальная машина бешено грохотала над нами и прикрывала нашу беседу от посторонних. Мухин, худощавый, бородка клинышком, щурит лукаво умный левый глаз, глядит дружелюбно, но опасливо на мое безусое и безбородое лицо и обстоятельно, с лукавыми остановочками, разъясняет мне: «Евангелие для меня в этом деле, как крючок. Я с религии начинаю, а перевожу на жизнь. Я штундистам на днях на фасолях всю правду раскрыл». «Как на фасолях?» «Очень просто: кладу зерно на стол – вот это царь, кругом еще обкладываю зерна: это министры, архиереи, генералы, дальше – дворянство, купечество, а вот эти фасоли кучей – простой народ. Теперь спрашиваю: где царь? Он показывает в середку. Где министры? Показывает кругом. Как я ему сказал, так он и мне говорит. Ну, теперь постой, – говорит Иван Андреевич, – теперь погоди». Он вовсе закрывает левый глаз и делает паузу. «Тут я, значит, рукой все эти фасоли и перемешал. А ну-ка покажи, где царь? Где министры? Да кто ж его, говорит, теперь узнает? Теперь его не найдешь… Вот то-то, говорю, и есть, что не найдешь, вот так, говорю, и надо все фасоли перемешать».
Я даже вспотел от восторга, слушая Ивана Андреевича. Вот это настоящее, а мы мудрили, да гадали, да дожидались. Машина играет – конспирация, Иван Андреевич на фасолях классовую механику ниспровергает – революционная пропаганда.
– Только как их перемешать, едят их мухи, вот в чем дело? – говорит Мухин уже другим тоном и глядит на меня строго, в оба глаза. – Это ведь не фасоли, а? – И теперь уже он ждет ответа с моей стороны.
С этого дня мы окунулись с головой в работу. У нас не было старших руководителей, не хватало собственного опыта, но ни трудностей, ни замешательства мы не испытывали, пожалуй, ни разу. Одно вытекало из другого так же неотразимо, как в трактирной беседе с Мухиным.
Экономическая жизнь России в конце прошлого столетия резко передвигалась на юго-восток. На юге воздвигались один за другим крупные заводы, два из них в Николаеве. В 1897 г. считалось в Николаеве около 8000 заводских рабочих да около 2000 ремесленных. Культурный уровень рабочих, как и заработок, были сравнительно высоки. Безграмотные составляли ничтожный процент. Место революционных организаций занимало до некоторой степени сектантство, успешно ведшее борьбу с казенным православием. За отсутствием больших тревог жандармерия в Николаеве мирно дремала. Это оказалось нам как нельзя более на руку. При серьезной постановке сыска мы были бы арестованы в первые же недели. Но мы являлись пионерами и имели все выгоды этого. Жандармов мы раскачали лишь после того, как раскачали николаевских рабочих.
Знакомясь с Мухиным и его друзьями, я назвал себя Львовым. Эта первая конспиративная ложь далась мне нелегко: было прямо-таки мучительным «обманывать» людей, с которыми сходишься для такого большого и хорошего дела. Но кличка Львова очень скоро за мной закрепилась, и я сам привык к ней.
Рабочие шли к нам самотеком, точно на заводах нас давно ждали. Каждый приводил приятеля, некоторые приходили с женами, несколько пожилых рабочих вошли в кружки с сыновьями. Не мы искали рабочих, а они нас. Молодые и неопытные руководители, мы скоро стали захлебываться в вызванном нами движении. Каждое слово встречало отклик. На подпольные чтения и беседы, по квартирам, в лесу, на реке собиралось 20–25 человек и более. Преобладали рабочие высокой квалификации, недурно зарабатывавшие. На николаевском судостроительном заводе уже тогда существовал восьмичасовой рабочий день. Стачками эти рабочие не интересовались, они искали правды социальных отношений. Некоторые из них называли себя баптистами, штундистами, евангельскими христианами. Но это не было догматическое сектантство. Рабочие просто отходили от православия, баптизм становился для них коротким этапом на революционном пути. В первые недели наших бесед некоторые из них еще употребляли сектантские обороты и прибегали к сравнениям с эпохой первых христиан. Но почти все скоро освободились от этой фразеологии, над которой бесцеремонно потешались более молодые рабочие.
Наиболее яркие фигуры и сегодня стоят передо мной как живые. Столяр Коротков, в котелке, давно разделавшийся со всякой мистикой, балагур и стихотворец. «Я – рациалист» (рационалист), – говорил он торжественно. А когда Тарас Савельевич, старый евангелист, у которого уже были внучата, в сотый раз начинал говорить о первых христианах, которые так же, как и мы, собирались втайне, Коротков обрывал его: мне твоя богословия – вот! И он снимал с головы свой котелок и швырял его с негодованием куда-то вверх, промеж деревьев. Потом, постояв, отправлялся разыскивать свой головной убор. Дело происходило в лесу на песках.
Многие рабочие, захваченные новыми чувствами, стали сочинять стихи. Коротков написал «пролетарский марш», который начинался так: «Мы альфы и омеги, начала и концы». Нестеренко, тоже плотник, участвовавший в кружке Александры Львовны Соколовской вместе со своим сыном, сочинил украинскую думку про Карла Маркса. Ее распевали хором. Но сам Нестеренко кончил плохо: связался с полицией и выдал ей всю организацию.
Молодой чернорабочий Ефимов, русый гигант с голубыми глазами, из офицерской семьи, хорошо грамотный, даже начитанный, жил на самом дне города. Я разыскал его в обжорке босяков. Ефимов работал в порту грузчиком, не пил и не курил, был сдержан и вежлив, но в нем жила какая-то тайна, делавшая его мрачным, несмотря на его 21 год. Ефимов вскоре поведал мне, будто познакомился с таинственной организацией народовольцев и предложил свести нас с ними. Втроем – я, Мухин и Ефимов – пили чай в шумном трактире «Россия», слушали оглушительную музыку машины и ждали. Наконец Ефимов показал нам глазами большого, плотного человека с купеческой бородкой. «Он». Человек этот долго пил за отдельным столиком чай, потом встал одеваться и автоматическим жестом перекрестился на иконы. «Вот так народоволец!» – ахнул потихоньку Мухин. «Народоволец» уклонился от знакомства, передав через Ефимова какое-то туманное объяснение. История осталась таинственной навсегда. Сам Ефимов вскоре подвел свои счеты с жизнью, удушив себя угольным газом. Возможно, что гигант с голубыми глазами был просто игрушкой в руках сыщика, но возможно и худшее…
Мухин, электротехник по профессии, устроил у себя в квартире сложную систему сигнализации на случай полицейского налета. Мухину было 27 лет, он понемножку кашлял кровью, был богат житейским опытом, полон практической мудрости и казался мне чуть не стариком. Мухин остался революционером на всю жизнь. После первой его ссылки последовала новая тюрьма, затем новая ссылка. Я встретился с ним после перерыва в 23 года на конференции украинской коммунистической партии в Харькове. Мы долго сидели в углу, перетряхивая старину, вспоминая отдельные эпизоды и рассказывая друг другу о дальнейшей судьбе тех лиц, с которыми были связаны на заре революции. На этой конференции Мухин был выбран в центральную контрольную комиссию украинской партии. Он вполне заслужил такого избрания всей своей жизнью. Но уже вскоре после конференции Мухин слег и больше не поднимался.
Сейчас же после нашего знакомства Мухин свел меня со своим приятелем, тоже из сектантов. Бабенкой, у которого был свой небольшой домик и свои яблони во дворе. Бабенко был хром, медлителен, всегда трезв и научил меня чай пить с яблоками, вместо лимона. Вместе с другими Бабенко был арестован, изрядно посидел, потом опять вернулся в Николаев. Судьба нас развела совсем. Случайно прочитал я в какой-то газете в 1925 г., что на Кубани проживает бывший член Южно-русского рабочего союза Бабенко. К этому времени у него отнялись ноги. Мне удалось добиться – в 1925 г. это было для меня уже нелегко – перевода старика в Ессентуки для лечения. Ноги опять стали ходить. Я посетил Бабенко в его санатории. Он не знал, что Троцкий и Львов – одно и то же лицо. Мы опять с ним пили чай с яблоками и вспоминали прошлое. То-то, должно быть, он удивился, услышав вскоре, что Троцкий – контрреволюционер!
Много было интересных фигур, всех не перечислить. Была прекрасная молодежь, очень культурная, прошедшая техническую школу при судостроительном заводе. Она понимала руководителя с полуслова. Революционная пропаганда оказалась, таким образом, несравненно доступнее, чем рисовалась в мечтах. Нас поражала и опьяняла высокая продуктивность работы. Из рассказов о революционной деятельности мы знали, что число распропагандированных рабочих выражалось обычно немногими единицами. Революционер, который привлек двух-трех рабочих, считал это неплохим успехом. У нас же число рабочих, входивших и желавших входить в кружки, казалось практически неограниченным. Недостаток был только за руководителями. Не хватало литературы. Руководители рвали друг у друга из рук один-единственный заношенный рукописный экземпляр «Коммунистического манифеста» Маркса – Энгельса, списанный разными почерками в Одессе, с многочисленными пропусками и искажениями.
Вскоре мы сами начали создавать литературу. Это и было собственно началом моей литературной работы. Оно почти совпало с началом революционной работы. Я писал прокламации или статьи, затем переписывал их печатными буквами для гектографа. О пишущих машинках тогда еще не подозревали. Я выводил печатные буквы с величайшей тщательностью, считая делом чести добиться того, чтобы даже плохо грамотному рабочему можно было без труда разобрать прокламацию, сошедшую с нашего гектографа. Каждая страница требовала не менее двух часов. Иногда я в течение недели не разгибал спины, отрываясь только для собраний и занятий в кружках. Зато какое чувство удовлетворения доставляли сведения с заводов и с цехов о том, как рабочие жадно читали, передавали друг другу и горячо обсуждали таинственные листки с лиловыми буквами. Они воображали себе автора листков могущественной и таинственной фигурой, которая проникает во все заводы, знает, что происходит в цехах, и через 24 часа уже отвечает на события свежими листками.
Первоначально мы варили гектограф и печатали прокламации у себя в комнате по ночам. Кто-нибудь стоял во дворе на страже. В открытой печке заготовлены были спички и керосин, чтоб в случае опасности сжечь улики. Все было крайне наивно. Но николаевские жандармы были тогда немногим опытнее нас. Позже мы перенесли свою печатню на квартиру пожилого рабочего, который потерял зрение при несчастном случае в цехе. Квартиру он предоставил нам без колебаний. «Для слепого везде тюрьма», – говорил он со спокойной усмешкой. Постепенно мы сосредоточивали у него большой запас глицерина, желатина и бумаги. Работали ночью. Запущенная комната с потолком над самой головой имела жалкий, поистине нищенский вид. На железной печке мы готовили революционное варево, выливая его затем на жестяной лист. Слепой уверенней всех двигался в полутемной комнате, помогая нам. Молодой рабочий и работница с благоговением взглядывали друг на друга, когда я снимал с гектографа свежеотпечатанный лист. Если б сверху «трезвым» взглядом поглядеть на эту группку молодежи, копошащейся в полутьме вокруг жалкого гектографа, – какой убогой фантазией представился бы ее замысел повалить могущественное вековое государство? И однако же замысел удался на протяжении одного человеческого поколения: до 1905 г. прошло с тех ночей всего восемь лет, до 1917 – неполных двадцать лет.
Устная пропаганда не давала мне, пожалуй, такого удовлетворения, как печатная. Знания были недостаточны, и не хватало уменья надлежащим образом преподнести их. Речей в подлинном смысле у нас почти еще не было. Один только раз в лесу, в день первого мая, мне пришлось сказать нечто вроде речи. Это повергло меня в величайшее смущение. Каждое собственное слово, прежде чем оно выходило из горла, казалось мне невыносимо фальшивым. Но беседы в кружках удавались иногда неплохо. В общем же революционная работа шла полным ходом. Связи с Одессой я поддерживал и развивал. Вечером я шел на николаевскую пристань, брал за рубль билет третьего класса, укладывался на палубе парохода, поближе к трубе, клал под голову пиджак и укрывался пальто. Утром я просыпался в Одессе и отправлялся по знакомым адресам. Следующую ночь опять проводил на пароходе. Таким образом, я не тратил лишнего времени на езду. Связи мои в Одессе неожиданно обогатились. У входа в Публичную библиотеку я познакомился с рабочим в очках: мы поглядели друг на друга пристально и догадались друг о друге. Это был Альберт Поляк, наборщик, организатор знаменитой впоследствии центральной типографии партии. Знакомство с ним составило эпоху в жизни нашей организации. Уже через несколько дней я доставил в Николаев чемодан, наполненный нелегальной литературой заграничного издания. Это были сплошь новенькие агитационные брошюрки в веселых цветных обложках. Мы по многу раз открывали чемодан, чтоб полюбоваться своим сокровищем. Брошюрки быстро разошлись по рукам и сильно подняли наш авторитет в рабочих кругах.
От Поляка я случайно узнал в беседе, что техник Шренцель, выдававший себя за инженера и давно тершийся вокруг нас, – старый провокатор. Это был глупый и назойливый человечек в форменной фуражке со значком. Мы инстинктивно не доверяли ему, но кое-кого и кое-что он знал. Я пригласил Шренцеля на квартиру к Мухину. Здесь я подробно изложил биографию Шренцеля, не называя его, и довел его этим до полной невменяемости. Мы пригрозили ему, в случае выдачи, короткой расправой. По-видимому, это подействовало, так как месяца три после того нас не тревожили. Зато после нашего ареста Шренцель громоздил в своих показаниях ужасы на ужасы.
Организацию мы назвали «Южно-русским рабочим союзом», имея в виду втянуть и другие города. Я составил устав Союза в социал-демократическом духе. Администрация пыталась выступать против нас с речами на заводах. Мы на другой день отвечали прокламациями. Эта дуэль взволновала не только рабочих, но и широкие круги городского населения. Весь город говорил под конец о революционерах, которые наводняют заводы своими листками. Наши имена называли со всех сторон. Но полиция медлила, не веря, что «мальчишки из сада» способны вести такую кампанию, и предполагая, что за нашей спиною стоят более опытные руководители. Они подозревали, по-видимому, старых ссыльных. Это дало нам два-три лишних месяца. Но в конце концов слежка за нами приняла слишком явный характер, и жандармы узнавали неизбежно один кружок за другим. Мы решили на несколько недель разъехаться из Николаева в разные стороны, чтоб оборвать полицейскую нить. Я должен был поехать в деревню к родителям, Соколовская с братом – в Екатеринослав и т. д. В то же время мы твердо решили в случае повальных арестов не скрываться, а дать арестовать себя, чтоб жандармы не могли говорить рабочим: «Руководители вас покинули».
Перед моим отъездом Нестеренко потребовал, чтоб я непосредственно ему передал пачку прокламаций. Он назначил встречу за кладбищем поздно вечером. Лежал глубокий снег. Ночь была лунная. За кладбищем открывалось совершенно пустынное пространство. Нестеренко я нашел на условленном месте. Но в тот момент, когда я передавал ему вынутый из-под полы пакет, от кладбищенской стены отделилась фигура и прошла близко возле нас, задев Нестеренко локтем. «Кто это?» – спросил я с удивлением. «Не знаю», – ответил Нестеренко, глядя уходящему вслед. Он уже был тогда в связи с полицией. Но мне и в голову не пришло заподозрить его.
28 января 1898 г. произведены были массовые аресты. Всего выхвачено было свыше 200 человек. Пошла расправа. Один из арестованных, солдат Соколов, был доведен запугиваниями до того, что бросился из тюремного коридора второго этажа вниз, но отделался тяжелыми ушибами. Другого из заключенных, Левандовского, жандармы довели до психического расстройства. Были и еще жертвы.
Среди арестованных было много случайного народу. Некоторые из тех, на кого мы надеялись, отходили, даже выдавали. Наоборот, кое-кто из тех, которые стояли в тени, показали силу характера. Арестованным, и надолго, оказался почему-то токарь – немец Август Дорн, лет пятидесяти, всего раз или два заглянувший в кружок. Он держал себя великолепно, пел на всю тюрьму веселые, не всегда, правда, добродетельные немецкие песенки, шутил на ломаном русском языке, поддерживая дух молодых. В московской пересыльной тюрьме, где мы сидели в общей камере, Дорн убеждал самовар приблизиться к нему и заканчивал диалог так: «Не хочешь, тогда Дорн пойдет к тебе!» И хотя сцена повторялась изо дня в день, все добродушно смеялись.
Николаевская организация получила жестокий удар, но не исчезла. Нас скоро заменили другие. И революционеры, и жандармы становились опытнее.
Глава VIII. МОИ ПЕРВЫЕ ТЮРЬМЫ
При общей облаве в январе 1898 г. я был арестован не в Николаеве, а в имении крупного помещика Соковника, куда Швиговский перешел на службу садовником. Я заехал к нему по пути из Яновки в Николаев, с большим портфелем рукописей, рисунков, писем и всякого вообще нелегального материала. На ночь Швиговский спрятал опасный пакет в яму с капустой, а на рассвете, отправляясь сажать лес, вынул папку из ямы, чтоб передать мне для работы. В это время как раз и нагрянули жандармы. Швиговский успел в передней бросить пакет за кадку с водой. Экономке, которая под надзором жандармов кормила нас обедом, Швиговский успел шепнуть, чтоб она унесла папку и спрятала получше. Старуха не нашла ничего другого, как зарыть папку в саду в снег. Мы твердо считали, что документы не попадут в руки врага. Наступила весна, снег стаял, выросла трава и снова скрыла папку, разбухшую от весенней воды. Мы сидели в тюрьме. Наступило лето. Рабочий косил в помещичьем саду траву, два его мальчика, игравшие тут же, наткнулись на пакет и передали отцу, тот снес его в барский дом, а перепуганный насмерть либеральный помещик немедленно свез бумаги в Николаев и сдал их жандармскому полковнику. Почерки рукописей послужили уликой против нескольких лиц.
Старая николаевская тюрьма совсем не была приспособлена для политических, да еще в таком числе. Я попал в одну камеру с молодым переплетчиком Явичем. Камера была очень велика, человек на тридцать, без всякой мебели и еле отапливалась. В двери был большой квадратный вырез в коридор, открытый прямо на двор. Стояли январские морозы. На ночь нам клали на пол соломенник, а в шесть часов утра выносили его. Подниматься и одеваться было мукой. В пальто, в шапках и калошах мы садились с Явичем плечо к плечу на пол и, упершись спинами в чуть теплую печь, грезили и дремали час-два. Это было, пожалуй, самое счастливое время дня. На допрос нас не звали. Мы бегали из угла в угол, чтоб согреться, предавались воспоминаниям, догадкам и надеждам. Я стал заниматься с Явичем науками. Так прошло недели три. Потом наступила перемена. Меня вызвали в тюремную контору с вещами и передали двум рослым жандармам, которые перевезли меня на лошадях в херсонскую тюрьму. Это было еще более старое здание. Камера была просторная, но с узким, наглухо заделанным окном в тяжелом железном переплете, едва пропускавшем свет. Одиночество было полное, абсолютное, беспросветное. Ни прогулок, ни соседей. Из заделанного позимнему окна ничего не было видно. Передач с воли я не получал. У меня не было ни чаю, ни сахару. Арестантскую похлебку давали раз в день, в обед. Паек ржаного хлеба с солью служил мне завтраком и ужином. Я вел с собой длинные диалоги о том, имею ли я право увеличить утреннюю порцию за счет вечерней. Утренние доводы казались вечером бессмысленными и преступными. За ужином я ненавидел того, который завтракал. У меня не было смены белья. Три месяца я носил одну и ту же пару. У меня не было мыла. Тюремные паразиты ели меня заживо. Я давал себе урок: пройти по диагонали тысячу сто одиннадцать шагов. Мне шел девятнадцатый год. Изоляция была абсолютная, какой я позже не знал нигде и никогда, хотя побывал в двух десятках тюрем. У меня не было ни одной книги, ни карандаша, ни бумаги. Камера не проветривалась. О том, какой в ней воздух, я судил по гримасе помощника начальника, когда он входил ко мне. Я откусывал кусочек тюремного хлеба, ходил по диагонали и сочинял стихи. Народническую «дубинушку» я переделал на пролетарскую «машинушку». Я сочинил революционную «камаринскую». Весьма посредственного качества, стихи эти позже приобрели большую популярность. Они перепечатываются в песенниках и сейчас. Но иногда меня грызла жестокая тоска одиночества. Тогда я преувеличенно твердо отсчитывал стоптанными подметками тысячу сто одиннадцать шагов. К концу третьего месяца, когда тюремный хлеб, мешок, набитый соломой, и вши стали для меня незыблемыми элементами жизни, как день и ночь, надзиратели вечером внесли ко мне гору предметов из другого, фантастического мира: свежее белье, одеяло, подушку, белый хлеб, чай, сахар, ветчину, консервы, апельсины, яблоки, да, большие ярко окрашенные апельсины… И сейчас, через 31 год, я не без волнения перечисляю эти замечательные предметы и уличаю себя в том, что упустил баночку варенья, мыло и гребешок. «Это вам мать доставила», – сказал мне помощник. И как ни плохо я тогда читал в человеческих душах, но по тону его понял сразу, что он получил взятку.
Скоро меня перевезли на пароходе в Одессу и там поместили в одиночную тюрьму, построенную за несколько лет перед тем, по последнему слову техники. После Николаева и Херсона одесская одиночка показалась мне идеальным учреждением. Перестукиванья, записочки, «телефон», прямой крик через окна – словом, служба связи действовала почти непрерывно. Я выстукивал соседям свои херсонские стихи, они снабжали меня в ответ новостями. От Швиговского я успел через окно узнать о полученном жандармами пакете с моими бумагами и потому без труда расстроил план подполковника Дремлюги, пытавшегося устроить мне ловушку. Нужно сказать, что в тот период мы еще не начали отказываться от дачи показаний, как несколько лет спустя.
Тюрьма была переполнена после всероссийского весеннего провала. 1 марта 1898 г., во время моего сиденья в херсонской тюрьме, собрался в Минске учредительный съезд социал-демократической партии. Он состоял всего из девяти человек и сейчас же потонул в волне арестов. Через несколько месяцев о нем уже не говорили. Но позднейшие последствия его сказались на истории всего человечества… Принятый манифест рисовал такую перспективу политической борьбы: «…чем дальше на восток Европы, тем, в политическом отношении, трусливее и подлее становится буржуазия и тем большие культурные и политические задачи выпадают на долю пролетариата». Не лишен исторической пикантности тот факт, что автором манифеста был небезызвестный Петр Струве, ставший позже лидером либерализма, а еще позже публицистом церковной и монархической реакции.
Первые месяцы пребывания в одесской тюрьме я не получал книг извне и вынужден был довольствоваться тюремной библиотекой. Она состояла главным образом из консервативно-исторических и религиозных журналов за долгий ряд лет. Я штудировал их с неутомимой жадностью. Я знал все секты и все ереси старого и нового времени, все преимущества православного богослужения, самые лучшие доводы против католицизма, протестантства, толстовства, дарвинизма. Христианское сознание, читал я в «Православном обозрении», любит истинные науки, и в том числе естествознание, как умственную родственницу веры. Чудо с ослицей Валаама, вступившей в дискуссию с пророком, не может быть опровергнуто и с естественнонаучной точки зрения: «Ведь существуют же говорящие попугаи и даже канарейки». Этот довод архиепископа Никанора занимал меня целыми днями и иногда снился даже по ночам. Исследования о бесах или демонах, об их князьях, дьяволе и об их темном бесовском царстве каждый раз заново поражали и в своем роде восхищали молодую рационалистическую мысль кодифицированной глупостью тысячелетий. Пространное изыскание о рае, об его внутреннем устройстве и о месте нахождения заканчивалось меланхолической нотой: «Точных указаний о месте нахождения рая нет». Я повторял эту фразу за обедом, за чаем и на прогулке. Насчет географической долготы райских блаженств указаний нет. С жандармским унтером Миклиным я затевал при каждом подходящем случае богословские препирательства. Миклин был жаден, лжив, злобен, начитан в священных книгах и благочестив до крайности. Перебегая с ключами по звонким железным лестницам, он мурлыкал церковные напевы. «За одно, за одно единственное слово христородица, вместо богородиц а, – внушал мне Миклин, – у еретика Ария живот лопнул». «А почему теперь у еретиков животы в сохранности?» – «Теперь, теперь… – отвечал обиженно Миклин, – теперь другие времена».
Прибывшая из деревни сестра доставила мне, по моей просьбе, четыре Евангелия на иностранных языках. Опираясь на школьное знакомство с немецким и французским языком, я, стих за стихом, читал Евангелие также и по-английски и по-итальянски. За несколько месяцев я значительно продвинулся, таким образом, вперед. Нужно, однако, сказать, что мои лингвистические способности весьма посредственны. В совершенстве я и сейчас не знаю ни одного иностранного языка, хотя долго жил в разных странах Европы.
Во время свиданий с родными заключенных помещали в узенькие деревянные клетки, отделенные от посетителей двумя решетками. При первой встрече со мной отец вообразил, что я все время заключения вынужден стоять в этом тесном ящике. Внутреннее содрогание лишило его речи. В ответ на мои вопросы он беззвучно шевелил побелевшими губами. Никогда не забуду его лица. Мать явилась уже предупрежденной и была спокойнее.
Отголоски мировых событий доходили до нас в виде осколков. Южноафриканская война еле затронула нас. Мы были еще в полном смысле слова провинциалами. Борьбу англичан с бурами мы склонны были истолковывать главным образом с точки зрения неизбежности победы крупного капитала над мелким. Дело Дрейфуса, достигшее в тот момент своей кульминации, время от времени захватывало нас своим драматизмом. К нам однажды проник слух, что во Франции произошел переворот и восстановлена королевская власть. Мы были охвачены чувством несмываемого позора. Жандармы бегали в беспокойстве по железным коридорам и лестницам, чтоб унять стук и крики. Они думали, что нам снова дали несвежий обед. Нет, политический флигель тюрьмы бурно протестовал против реставрации монархии во Франции.
Статьи о франкмасонстве в богословских журналах заинтересовали меня. «Откуда взялось это странное течение? – спрашивал я себя. – Как объяснил бы его марксизм?» Я сравнительно долго сопротивлялся историческому материализму, держась за теорию множественности исторических факторов, которая и сейчас остается, как известно, наиболее широко распространенной теорией социальной науки. Разные стороны своей общественной деятельности люди называют факторами, придают этому понятию сверхобщественный характер и свою собственную общественную деятельность суеверно объясняют затем как продукт взаимодействия этих самостоятельных сил. Откуда взялись факторы, т. е. под действием каких условий они развились из первобытного человеческого общества, – на этом официальная эклектика едва останавливается. Я с восторгом читал в своей камере два известных очерка старого итальянского гегелианца-марксиста Антонио Лабриолы, проникших в тюрьму на французском языке. Как немногие из латинских писателей, Лабриола овладел материалистической диалектикой если не в политике, где он был беспомощен, то в области философии истории. Под блестящим дилетантизмом его изложения скрывалась на самом деле настоящая глубина. С теорией многочисленных факторов, населяющих Олимп истории и оттуда управляющих нашими судьбами, Лабриола расправлялся великолепно. Хотя с того времени, как я читал его опыты, прошло тридцать лет, но общий ход его мыслей крепко врезался в мою память, как и постоянный припев: «Идеи не падают с неба». Бессильными показались мне после этого русские теоретики многообразия факторов: Лавров, Михайловский, Кареев и другие. Много позже я никак не мог понять тех марксистов, на которых оказала влияние бесплодная книга немецкого профессора Штаммлера «Хозяйство и право», представляющая одну из бесчисленных попыток пропустить великий естественноисторический и исторический поток, идущий от амебы к нам и от нас дальше, через замкнутые кольца вечных категорий, представляющие на деле лишь отпечатки живого процесса в мозгу педанта.
В этот именно период меня заинтересовал вопрос о франкмасонстве. Я в течение нескольких месяцев усердно читал книги по истории масонства, которые мне доставлялись родными и друзьями из города. Почему, для чего торговцы, художники, банкиры, чиновники и адвокаты стали называть себя с первой четверти XVII века каменщиками, воссоздавая ритуал средневекового цеха? Откуда этот странный маскарад? Постепенно картина становилась мне яснее. Старый цех был не только производственной, но и морально-бытовой организацией. Он охватывал жизнь городского населения со всех сторон, особенно цех полуремесленников, полуартистов строительного дела. Распад цехового хозяйства означал моральный кризис общества, едва оставившего позади средневековье. Новая мораль складывалась гораздо медленнее, чем разрушалась старая. Отсюда столь нередкая в человеческой истории попытка сохранить те формы нравственной дисциплины, под которыми исторический процесс давно уже подкопал социальные, в данном случае производственно-цеховые основы. Оперативное масонство превратилось в спекулятивное масонство. Но как всегда в таких случаях, пережившие себя морально-бытовые формы, за которые люди пытались держаться ради них самих, получали под напором жизни совершенно новое содержание. В отдельных ветвях франкмасонства были сильны элементы прямой феодальной реакции, как в шотландской системе. В XVIII веке формы франкмасонства заполняются в ряде стран содержанием воинственного просветительства, иллюминатства, выполняющего предреволюционную роль, а на левом своем фланге переходящего в карбонарство. К франкмасонам принадлежал Людовик XVI, но также и доктор Гильотен, изобретший гильотину. В Южной Германии франкмасонство принимало явно революционный характер, а при дворе Екатерины стало маскарадным отражением дворянско-чиновничьей иерархии. Франкмасона Новикова франкмасонская императрица сослала в Сибирь.