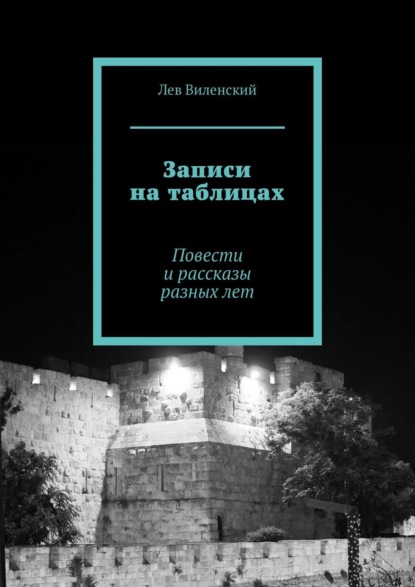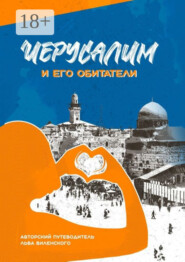По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Записи на таблицах. Повести и рассказы разных лет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Принесли специально выделанный тонкий обожженный черепок глиняный, писец присел на корточки и, обмакнув тростинку в чернила, аккуратно вывел подробности сделки, искусно нарисовав гору с гумном Шемера внизу документа. Капнул мокрой глины – царь поставил оттиск опаловой печати, Шемер прокатил свою печать, цилиндрическую, купленную у вавилонского купца. Обнялись, выпили и встали около края крыши, где ограда из столбиков в форме листьев позволяла облокотиться и не падать, разглядывая окрестности.
– Так вот, Шемер, толстая твоя шея, – усмехнулся Омри, – я хочу заложить на твоем, тьфу, моем гумне город. И это не будет простой город! Он встанет на караванных путях, на Дороге Отцов от Бет-Шеана и до Иудеи, и по путям пройдут караваны из Бавэля, из земли хеттов, из Египта и земли Плиштим, от финикийцев и арамейцев. Отовсюду пройдут караваны, и богатства стекутся в город. Центром цивилизации сделаю я его, и станет новая столица мощнее Шхема и славнее Тирцы, и Иерушалаим, эта горная деревня, померкнет со своим храмом перед славой нового города! Я позову лучших архитекторов из Финикии, они возведут мне дворец из слоновой кости, более славный и великий чем храм, который построил сам Шеломо! Сюда будут обращены взоры народов, сюда придут поклониться нам послы стран сопредельных! Отсюда я буду править Исраэлем, и расширю его пределы, и покорю отложившиеся Аммон, Моав и Арам[9 - территории за Иорданом и в Сирии, находившиеся под контролем Израильско-иудейского царства в эпоху царя Давида]! И пусть боги смотрят на меня с завистью, а люди с подобострастием, ибо стану я властелином мира, и богом среди богов! А теперь, Шемер, слушай волю мою, – и Омри выпятил грудь и стукнул ладонью по перилам, – я назову этот город Шомроном! В твою честь, толстый, ты это заслужил!
А про себя Омри подумал, – теперь он никому не расскажет, что я люблю мальчиков, слишком велика честь оказанная ему!
Шемер присел от волнения. В животе забурлило, и толстяка одолело желание сходить на двор. Город – городов названный в его честь? Больше Иерушалаима и сильнее Дамэссека? Центр цивилизации, как сказал Омри? Ах, какой он… настоящий друг!
И, все еще сдерживая спазмы в животе, Шемер прохрипел благодарно
– Я тебе приведу мою новую невестку в постель сегодня же вечером!
И кубарем скатился с лестницы, спеша в дворовые помещения.
***
«Омри возводил стены новой столицы», – писал Шевна, изредка останавливаясь и массируя правую руку левой. Рука стала плохо слушаться в эти зимние холода, – «погоняя строителей и архитекторов, он даже нанял рабов в Араме, чтобы те таскали и рубили камень для стен и башен, для домов, которые, впервые в наших краях, царь приказал закладывать и возводить в два этажа. При этом Омри следовал грехам Йеровоама, сына Невата[10 - первый царь Израиля после разделения Израильско-иудейского царства, 928—907 гг до н.э], и закладывал вокруг города высоты каменные, на которых возводил обелиски богам ханаанейским и финикийским. И Ашейру сделал из черного камня, называемого „базелет“, который привозят с гор Голанских, большую Ашейру, стоящую на коне, и вокруг ее стоят идолы улыбающиеся с флейтами и тимпанами. И поставил ее на возвышении у городских ворот, чтобы каждый входящий в них мимо идола проходил и кланялся. А дворец Омри построили мастера из Финикии, в три этажа с высокою башней возвели они дворец ему, с балконом большим на башне, откуда в дни ясные видно было всю землю Исраэля, и Шхем, и долину Хула, и Ярдэн[11 - река Иордан (в русском переводе)], до гор Иудейских видна была земля. И сидел Омри на балконе, где резные перила с женскими ликами, и смотрел на землю свою и радовался, но недолго оставалось ему жить. Вскоре, во время пира, царь неожиданно вскрикнул, и упал лицом в блюдо винограда, поставленное перед ним. Никто не знает, сам ли умер Омри, или ему помогли умереть охочие до перемен придворные его финикийцы. Но похоронили его недалеко от дворца, на специальном месте, выбранном им до кончины – не так как у нас, иудеев, а по обычаю финикийскому, и водрузили над могилой каменный столб. И сел править вместо него Ахав, сын его, и случилось это на тридцать восьмом году правления Асы, царя Иудейского. Йезевель, дочь Этбаала, царя Цидона[12 - Финикийский город в нынешнем Ливане] взял он в жены себе, и ездил в Цидон, и поклонялся там Баалу, мерзости цидонитской, и поставил ему трон в капище, что возвел в Шомроне для себя и нечистой супруги своей, Йезевель. И послал он человека, названного Хиэль, который жил в Бетэле, и приказал ему сделать дело грешное, а именно – восстановить нечистый город Йерихо, дотла уничтоженный более трехсот весен назад Иеошуа Бин-Нуном. И приступил Хиэль к месту, где лежали камни от городских стен, которые, как написано в Книге Иеошуа, упали от звука труб и крика воинств Исраэля. Место это проклято, и даже дикий кочевник не разобьет там стана, там живет муха, чей укус ядовит, и на месте укуса вырастает огромная шишка, гноеточивая и смрадная, и вскоре человек от гноя распухает и умирает в муках. Там гиена и шакал воет по ночам, и птица-сова гулко ухает в долине, где течет к Ярдэну ручей Прат. Но Хиэль, которого вела извращенная воля царя, не потерялся, он принес в жертву Молоху[13 - Молох – обряд принесения в жертву первенца] Авирама, первенца своего, и на костях его заложил стену, а младшего сына Сегува, чью головку размозжил во славу того же Молоха, возложил нечистый Хиэль у основания ворот. Так отстроил он Йерихо, и переселил туда исраэльтян из Тирцы и Шхема, всех, кто желал получить землю и дом в этом жарком и страшном краю. Ибо исраэльтяне не боялись проклятия Господа над этим местом, так как большинство из них не знало Господа, а молилось кто кому хотел – кто грому небесному, кто тельцу бронзовому, кто змею медному, а кто богам финикийским Баалу и Ашейре. И первенцев своих несли Молоху, и было так».
***
Ахава разбудили после обеденной трапезы, когда он, прикрывшись легким покрывалом, спал во внутренних покоях дворца, переваривая обильную пищу и наслаждаясь прохладой, которую несли толстые каменные стены. Мясо молочного теленка, обильно приправленное перцем и солью, политое соусом из трав и корений, несло приятную тяжесть желудку и успокоение голове, ни звука не доносилось до ушей царя, казалось, весь огромный город спал вместе с ним, посапывая тысячью носов в унисон. Даже собаки на дворцовой псарне (жена так любит этих грациозных египетских животных) молчали, разомлев от жары, и тоже спали, высунув длинные розовые языки. Вдруг за кедровой дверью усыпальницы раздался чей-то крик, сначала отдаленный, потом становившийся все яснее и яснее, слышались звуки борьбы, словно кто-то очень сильный и решительный схватился с дворцовой стражей, и все громче становился крик неизвестного нарушителя царской неги: «Где Ахав!? Я должен видеть его! У меня важная новость для царя!».
Испуганный начальник дневной стражи деликатно покашлял у царского уха, дескать, незнакомец пришел к тебе, царь, важное слово сказать хочет. Обыскан, оружия у него нет, посох отобрали, да и сам он худ и тонок, непонятно, как не остановили его трое атлетически сложенных стражников. Те ведь и быка остановить могут, а тут…
– Ведите, – пробормотал сонный Ахав, и быстро смахнул кончиками пальцев застоявшиеся грязные катышки из углов глаз, – ведите сюда негодяя этого, шумящего как свинья, которую режут. А потом я решу, что с ним делать и как его наказать.
В дверь втолкнули истощенного мужчину средних лет. Видом своим неизвестный напоминал жердь, на которую опирается пастух, или засохшую ветку теребинта, или старого исхудавшего пса, которому одна дорога, куча мусора за воротами, где даже кости такие сухие, что глодать их – себе дороже. Одет он был просто – измученное худое тело покрывал серый, вытертый плащ, а под ним накинута желтоватая распашная жилетка с кистями на концах, выдававшая в нем иудея. И, словно в подтверждение иудейского его происхождения, косо сидела на голове белая шапочка из грубого полотна, такая же старая как плащ, пожелтевшая от пота. Пришелец переминался босыми загорелыми ногами на каменном полу залы, и, несмотря на жару снаружи и весьма сомнительную прохладу внутри, его била крупная, все возрастающая дрожь. Каждая часть его тела дрожала по-своему. Мелко тряслись руки, ноги дергались, отбивая нагими желтыми пятками чечетку, помаргивали веки, изредка резко вздрагивал угол рта. Незнакомец пристально вглядывался в Ахава умными черными глазами, а Ахав непонимающе смотрел на его, еще не покинув окончательно уютное убежище сна. Это продолжалось недолго, как вдруг посетитель заговорил неожиданно сильным, звучным голосом, подняв указательный палец правой руки к небу, он говорил, и Ахав был не в силах прервать эту речь. Царь сидел, скованный ужасом, и внимал словам неизвестного, понимая, что перед ним пророк. Причем, пророк иудейский, страшный. Такие, бывает, взглядом убить могут, их лучше не злить:
«Ахав, Ахав», – причитал пророк, звенел его голос и эхом отдавался от толстых стен залы, – «зачем тебе… зачем грехи берешь на душу свою? Зачем идешь тропой Йеровоама, сына Невота, бунтаря, смеявшегося над Господом и оторвавшим вас от братьев ваших? И для чего поставил ты идолов, простираешься перед истуканами? Отчего не вспомнить тебе завет с Авраамом, и Ицхаком, и Яаковом, не вернуться к тропе Давидовой, не воссоединить царства наши? Отчего ты делаешь противное в очах Господа?»
Ахав усмехнулся было: «Пророк, я не понимаю тебя», – но на душе лежал страх, тяжелый, липкий, лежал словно мокрый войлок, сковывал, не давал дышать. Куда-то делась та хваленая легкость быстрых слов и фраз, которыми Ахав обыкновенно ошарашивал собеседника, морочил его, доводил до смеха, до плача, до восторга. А ведь речи царя порою звучали так, что старики забывали о своей старости, и молодые девушки бросались в его объятия, что цари соседних народов приносили ему дары богатые, а бедный люд – по кувшинчику масла, рассыпалась речь его подобно речным камушкам, журчала ручейком горным. Но вот – пришел неизвестный, худой, изможденный, пришел иудей, и глаза его, горящие непонятным черным пламенем запечатали царские уста.
«Ахав», – продолжал быстро и монотонно, срываясь на крик, причитать пророк, раскачиваясь, словно былинка на ветру, и полы его плаща раскачивались в такт ему, и развевались белые кисти по углам, – «ты презрел Господа! Ты ненавидишь само имя Его, ибо ты хочешь быть больше и сильнее Его! Ты – словно Паро Египетский, хочешь стать богом на земле – и словно Паро Египетский падешь ты, сраженный железом, и не станет тебя! Посмотри – засуха в Исраэле, черными стали лица людей, птицы падают с неба, обожжённые солнцем, ветер свирепый и жаркий гонит в поля саранчу, и скоро задрожат сильные города твоего, и станет их мало, и потускнеют глаза у глядящих в окна, и встанете вы по голосу птиц, и высоты страшны вам, и на дороге ужасы. И тогда усохнут оливы, и рассыплется в прах стена Шомрона, и придет день, в котором ужас, и гибель, и Малах а-Мавет пройдет с мечом огненным над гордыми зубцами стен дворца твоего! И как жив Господь, Бог Исраэйлев, пред Которым я стою, что не будет в эти годы ни росы, ни дождя; разве лишь по слову моему!»
Ахав не узнавал себя. Храбрый, безрассудно храбрый, охотившийся в одиночку против дикого кабана, прыгавший со скал в горные озера, выходивший один на несколько воинов, скакавший в колеснице, запряженной дикими конями, он, словно ушибленная змея, шипя, медленно уползал в угол, стремясь сжаться в комочек, ощутить себя маленьким, спрятаться на руках матери, ласковое прикосновение которых он помнил. Он отползал по гладкому каменному полу, покрытому коврами и упругими подушечками, отползал в самый дальний угол комнаты, пытался поднять руки, чтобы закрыть уши, но голос пророка становился все выше и выше, пока не перешел в победный вой, схвативши себя за края одежды, истощенный гость подпрыгнул в воздух и воскликнул еще раз: « Ни росы, ни дождя! Ни росы, ни дождя!», после чего скользнул в темный проем открывшейся двери и исчез.
***
«После того, как проклял Элиягу из Тишби[14 - в русском переводе – пророк Илья] Ахава, царя Израильского», – продолжал неутомимо писать Шевна, – «ему пришлось бежать от царского гнева. По слову Господа ушел пророк Элиягу к ручью Керит, что возле Ярдена, и жил в пещере, а вороны носили ему хлеб и мясо, и водой из Керита утолял он жажду, пока – по его собственному проклятию, которое наложил пророк на Ахава, не пересохли ручьи и Ярден не превратился в грязные лужицы глинистой жижи, для питья непригодной. И тогда Элиягу, продолжая скрываться от гнева Ахава, побрел в Финикию. Там выпадали еще дожди, и текла к Великому морю большая река Литани, за которой города финикийские, богатые товарами и торговым людом, привольно лежали на желтых песчаных берегах. Элиягу брел дорогами и звериными тропами ночью, потому что днем солнце палило его голову, и без воды он много не прошел бы. Днем он закапывался в землю как зверь, или прятался в пещерах, в душной тени которых можно было дождаться ночи. А когда на небо поднимался Ярех, месяц – желтый и круглый, светивший в полную силу, ибо настала середина месяца Буль, пророк поднимался с иссушенного своего ложа и начинал быстро и ровно переступать длинными жилистыми ногами. Так он шел семь ночей, пока не добрался до города в округе Цидонской, называемого Царефат».
***
Царефат, небольшой унылый городишко в дюнах, лежал к северу от Цидона. Городские стены не окружали его, кому нужен был этот убогий, полузасыпанный песками, приют бедняков и неудачников, которым так и не улыбнулось счастье в славном своими товарами богатом Цидоне. Здесь существовали на подаяние, изредка морской бог Ямм показывал жителям Царефата свою доброту, и на берег выносила волна мелкую рыбешку, дохлого дельфина, труп чайки, случайно оказавшейся жертвой своего более удачливого соперника – баклана. Как бы то ни было, в Царефате были и те, кто не горевал особо по поводу бедности своей и убожества, потому что просто устали горевать, и не видели проку в этом. Жили здесь как звери – от добычи к добыче, а если таковой не находилось, и цидоняне не давали милостыню – уходили на берег моря, ложились на песок и ждали, пока бог Мот[15 - финикийский бог смерти] придет за ними. Ждали и звали его. И тот – добрый и полный сострадания – приходил всегда. А трупы смывало морским прибоем, и становились они добычей чаек и рыб.
Вдова Батбаал, еще нестарая, но высохшая женщина, грустно смотрела на маленькую горку муки, лежащую перед ней в широком старом кувшинчике. Кувшинчик из красной глины был с небольшой трещинкой, но красивый. Его вылепил собственоручно муж Батбаал, когда был еще сильным и здоровым рыбаком, ходил в море на ладном смоленом судне, владел которым веселый капитан Урумилки, бородач с рыжинкой в бороде. У капитана багровела на щеке огромная родинка, которая – как он доверительно сообщал всем и каждому – знак от бога Мелека, дарующий счастье и защиту. В ту самую ночь ни родинка Урумилки, ни крепкий смоленый борт корабля не защитили рыбаков от верной гибели. Страшный шквал навалился на берега Финикии, тучи песка взметнулись к небу, завыло, заклокотало море, белыми рваными клочьями заливая набережную Цидона. Застонали корабли в порту, вытирая смоленые носы в щепы о каменную кладку мола, заскрипели их мачты и захлопали паруса, которые не успели свернуть. О тех, кто ушел в море, старались не думать. А там, где бог Ямм[16 - финикийский бог моря], вращая над головой огромным посохом своим, взметнул неистовые воды до самого неба, стремясь достать ими до престола Баала, тонул, уходя кормой в пучину, корабль Урумилки, и горькая вода заглушила последние крики рыбаков… Что было в тех криках? Кто звал жену, кто детей, видя свою жизнь от начала и до конца в один последний миг, кто богохульствовал, а кто молил свирепого Ямма о помиловании… Лишь Урумилки, вцепившись в кормовое весло так, что кровь выступила из под ногтей, ушел к Ямму молча, как подобает герою. А ставшая вдовой Батбаал, дочь Баалова, не имевшая милостей от бога своего, перебралась из Цидона в угрюмый, окутанный тучами пыли днем и ночными туманами в полночь, Царефат, где запах гниющей рыбы не давал ей сначала спать и дышать, а потом она привыкла. Как привыкла собирать отбросы моря, идя сильными босыми ногами по полосе отлива, и держа маленького сына своего Эламана за спиной в большом куске ткани. А вскоре Эламан научился ходить, и первые робкие шаги он делал вместе с матерью – по линии отлива, смеясь от щекотки песочных струек, нагоняемых низкой волной. Он собирал пестрые раковины, помогал матери нести собранную добычу, и рос среди таких же тихих, тощих и улыбчивых черноглазых детишек, из которых мало кто удосуживался дожить до совершеннолетия. Мот, суровый бог, забирал их много раньше. Их уставшие худые тела не могли противиться ему, и Батбаал знала, что страшная судьба постигнет и ее сына. И вот – этот день пришел. Море стало словно сухая земля – прилив ничего не выбрасывал на пустой берег, а на дне кувшинчика была горсточка муки, да глоток масла во фляге. Батбаал собралась выйти за хворостом, когда в дверь ее глинобитной лачуги постучал незнакомец.
Она вышла, удивленная, потому что мало кому интересен был уходящий в зыбучие пески Царефат, тем более чужеземцу, облик которого был дик и странен, кожа приобрела бронзовый оттенок, а в спутанных волосах и бороде торчали веточки. Тем не менее, вид у него был царственный – высокий, стройный и широкоплечий, стоял чужеземец у бедного вдовьего домика, и просил у нее – а она с трудом, но поняла его наречье, наречье иудея, близкое к финикийскому – просил кусок хлеба.
– Хлеба? – глаза Батбаал увлажнились, – вот у меня горсть муки, да немного масла. Сейчас, – она потрепала по волосам маленького не по возрасту Эламана, подозрительно рассматривавшего незнакомца, прижавшись к материнской ноге, – мы с ним приготовим лепешку, съедим, и пойдем на берег моря. Я лягу умирать. А он рядом со мной поиграет в камушки. А потом тоже умрет. Ах, если бы жив был мой муж…
– Приготовь лепешку, – голос иудея был глух и тяжел, как бывает тяжелым бронзовый серповидный меч, – и мы с тобой и сыном твоим поедим. А масло и мука у тебя не окончатся до того времени, пока говорю я с тобой именем Господа Бога, царя Исраэльского!
Вдова никогда не слыхала о таком боге, впрочем, если Баал, Мильком, Эл и другие добрые боги не помогли ее мужу, и оставили ее в беде… Она хорошо помнила масленые руки и гадкие взгляды жрецов Баала, которым приносил подношение ее муж в городском храме, их хитрые, похотливые слова, вонь, исходящую от их тел, смрадную вонь козлиную. А от незнакомца пахло немного потом, и чуть-чуть сухим хворостом, а статью своей он походил на баалову статую, которую видела женщина в притворе храма, а глаза… какие же у него были глаза! Из под седых бровей, нависавших над ними, пронзительно вонзались они двумя стрелами прямо в душу ей, но этот взгляд не ранил и не царапал – от него становилось отчего-то просто и хорошо. Батбаал быстро собрала пару веток, замесила тесто на дощечке, добавила масла для вкуса, и ловко бросила круглый блин на выпуклый бронзовый казан, под которым горел огонь. Скоро лепешка прожарилась, и, еще огненно-горячую, разделила она ее – половину отдала неизвестному мужчине, а половину разломила на две неравные части – и отдала большую мальчику, попутно аккуратно утерев ему нос. Эламан радостно зачавкал, роняя слюни от поспешности, а мать грустно держала во рту каждый маленький кусочек последней лепешки, осторожно размачивая его слюной и глотая так, словно бы глотала раскаленный металл.
Неизвестный взял свою половину в руки, осторожно разломил ее, и его губы прошептали что-то, чего не поняла Батбаал, потом он отломил два небольших кусочка и дал их вдове и ее сыну, а остальное свернул трубочкой и аккуратно заработал челюстями, жуя спокойно и не торопясь.
Когда лепешка была съедена, иудей быстрым движением снял с полки кувшинчик и показал вдове. Там снова была горсточка муки. А во фляге, стоявшей рядом, вновь плескалось масло. Причем не разведенное водой вонючее масло, которое было там раньше, а самое душистое, оливковое, такое, которое делают в Исраэле и в Иудее, желтовато-зеленое, терпкое и пряное, от которого немного щиплет язык и становится хорошо в животе.
– Сделай еще лепешку, женщина, – медленно произнес изможденный пророк, – накорми себя и сына. А я… я хочу немного поспать.
И прилег Элиягу-пророк на земляной пол, положив ладонь под голову, и шорох волн, доносившийся с близкого берега, убаюкал его, как ребенка, лишь только успел он произнести благодарность Господу, спасшему его в очередной раз.
А когда солнце вновь встало над пыльными крышами Царефата, Элиягу отправился на берег. Вокруг не было ни души, лишь огненный диск лениво всплывал с востока, поднимаясь над вершиной Хермона, да кричали в небе вездесущие чайки в поисках добычи. Почти неслышно накатывались волны на желтый мелкий песок, отступали, и снова накатывались, оставляя за собой клочки белой пены, водоросли, мелкие ракушки. Пророк обратился лицом на юг, где за невидимыми горами, поросшими лесом, чьи спины изгибались над зелеными долинами, лежал на вытянутом холме любимый Иерушалаим, где золотая крыша с остриями, принадлежавшая Храму, светилась в лучах рассвета, где крик водоносов уже нарушал безмолвие, и гулко шлепали ведра, падая в источник Гихонский, и скрипели блоки, поднимавшие их наполненными самой вкусной водой, которую когда-либо пробовал Элиягу. Слеза, маленькая и дробная, скатилась по щеке пророка, и он говорил с Богом, лишь губы его шевелились, но слов не было слышно:
– Господи, Боже Исраэля, Господь Великий, могучий, страшный в ярости и безгранично добрый к любящим тебя! Ничего не прошу у Тебя, Бог мой и Бог воинств Исраэля, только прими от меня, человека простого, который нагим рождается и нагим в землю уходит любовь мою и благодарность. Когда я был слаб, когда преследовали меня враги мои, чтобы убить меня, Ты поднял меня, Господи, Ты вывел меня из беды и спас меня от ненавидящих меня! Слава Твоя Велика и будет жить она вовеки!
Тут молитву Элиягу прервал неожиданный крик, неистовый, режущий уши, казалось, что море отступило в страхе и изогнулся небесный свод от этой невыносимой боли, которая звучала в женском крике. Батбаал бежала к Элиягу, ее ноги увязали в песке, она спотыкалась, падала, вставала и бежала к нему, не переставая истошно кричать, а на руках ее, беспомощно свесив головку назад, лежал маленький Эламан, и его тонкие ручки болтались безжизненно в такт материнскому бегу.
– Человек Божий! – кричала обезумевшая вдова, ее лицо было покрыто коркой из песка и слез, она беспомощно опустилась на землю, все еще продолжая сжимать тело мальчика, – зачем ты пришел? О грехе моем напомнить мне? За что сын мой, кровиночка моя, солнышко мое, за что он умер?! Где ж твой бог, пришелец?! Где бог!!! Отвечай мне!!! Еще вчера сыночек жив был… а утром гляжу, лежит, не дышит… Где бог твой?! Зачем ты пришел ко мне! Верни мне Эламана, верни…
Она аккуратно положила легонькое тельце мальчика на песок. Эламан лежал тихий, кроткий, словно бы спал, но личико его вытянулось, и рот приоткрылся, и не поднималась худенькая грудка от ровного дыхания. Душа вылетела из тела и ушла к Богу, давшему ее, а телу было суждено обратиться во прах. Элиягу смотрел на ребенка, на его торчащие ребра, на смуглое от загара тельце, на жалкую набедренную повязочку и тонкую красную веревочку-талисман на шее, на песчинки в волосах и на добрые ручки, разбросавшиеся на песке, неподвижные. Мир исчез для пророка, вокруг стало тихо-тихо, все пропало вокруг. Замолчало море, чайки куда-то исчезли, померкло солнце, все пространство сжалось до размеров тела мертвого мальчика, окутало Элиягу коконом, в ушах послышался заунывный свист, и тонкой невыносимой болью пронзило голову от затылка и до лба. Пророк пал на колени и накрыл собой наискосок маленькое тельце, он чувствовал, что мальчик уже холодеет и вот-вот окоченеет, и захотелось ему рыдать, как вдове Батбаал, но что-то внутри словно поднялось и сделало его сильным, и вскричал Элиягу голосом, от которого задрожал, казалось, низкий берег:
– Господи, Боже мой, царь Вселенной! Неужели и вдове, у которой я живу, причинишь Ты зло!? Об одном прошу Тебя я, пусть возвратится душа мальчика этого в него! Пусть возвратится, прошу Тебя! Прошу Тебя, Прошу Тебя!
Трижды воскликнул Элиягу, и трижды простирался над маленьким телом, и весь мир вокруг, замкнутый вокруг детского тельца, простирался вместе с пророком, и когда воззвал он третий раз к Богу, мальчик вдруг дернулся, чихнул от попавшего в нос песка, судорожно привстал и заплакал, испуганный, ища глазами мать и не понимая, отчего вчерашний гость сидит рядом с ним. И мать, рыдая, обняла сына, а потом простерла к Элиягу натруженные жилистые руки свои, не в силах сказать ничего. Пришлец, со лба которого катились крупные градины пота, встал, пошатываясь, его колени дрожали, но губы улыбались, и он тихо промолвил, засмеявшись,
– Смотри, жив сын твой!
Вдова неожиданно бросилась целовать Элиягу ноги, но тот поднял ее с земли. Батбаал, все еще рыдая, запричитала,
– Вижу я, вижу, что ты – Человек Божий, и слово Господне в устах твоих – истина! Твой Бог – бог сильный и страшный, и ты именем его можешь оживить мертвого, ты вернул мне сына моего, моего маленького Эламана! Чем я могу отблагодарить тебя?
– Половиной лепешки да плошкой воды, – ответил Элиягу, – ибо я человек простой, и не ведун, и не волшебник, а вот благодари Господа Единого, Господа Исраэля – ибо Он, Сущий, вернул тебе мальчика, ибо Он, Единый, может все и делает все мудро и справедливо, и славится вся Земля Поднебесная славой Его.
***
Шевна почесал коротко остриженную голову, завил привычным движением клок седых волос за ухом. Поправил шапочку и присел на табурет. Ветер продолжал завывать за ставнями дома, неслышно ступая мягкими толстенькими ножками, вошла внучка писца, серьезная не по годам пятилетняя девочка, поцеловала деду руку и протянула ему несколько вяленых абрикосов да персиков. Шевна погладил внучку по вьющимся волосам, поцеловал крутой задумчивый лобик, и та, засмеявшись вкусным переливчатым смехом, убежала вниз по лестнице, топоча, довольная и спокойная за дедушку.
«Лет моих уже шестьдесят девять, и при крепости я проживу до восьмидесяти, а вот царь Давид, память его благословенна, не прожил до восьмидесяти, уж больно жизнь у него была наполнена событиями, да великими горестями… Авшалома похоронил, сына маленького первенца от Батшевы[17 - в русском переводе – Авессалом, сын Вирсавии] – похоронил, словно бы первенцами заложил основы Храма, который отстроил сын его, Шеломо. Хотя у нас так не принято, слава Создателю, это только у диких ханаанеев, да перизеев, да йевусеев[18 - ханаанские народы, по крови тождественные евреям, но придерживающиеся политеизма. Проживали на территории Ханаана до прихода евреев.] так, да сколько их осталось под Иерушалаимом? Едва две деревни на запад, куда уходит вечером солнце…». Мысли старика бежали тихим потоком, словно маленький журчащий ручеек, и буря совсем не мешала ему думать.
«А сколько прожил-то Ахав, царь нечестивый и несчастный?», – подумалось старику, – «молодым ушел… эх!». И он положил на специальный низенький столик из оливкового дерева новый лист кожи, и вновь послышалось настойчивое поскрипывание тростникового пера:
«Засуха в Исраэле приняла воистину страшный облик. Ежедневно в столице умирали более десятка людей. Но если поставку питьевой воды удалось кое-как организовать, посылая караваны с большими глиняными кувшинами к озеру Киннерет, то полям, обширным и богатым полям Шомрона пришлось совсем плохо. Они высыхали, шла трещинами еще недавно черная и жирная земля, и вылезали на свет насекомые и ползучие гады, жаля всякого, кто пытался работать в поле. Урожай полег на корню, и не стало хлеба в Исраэле».
***
Иезевель вылезла из огромной каменной ванной, услужливые рабыни окутали немного располневшее тело царицы мягкими льняными полотенцами, впитывая капли драгоценной влаги с ее покатых плеч, тугих тяжелых грудей с лиловыми большими сосками, с черных прихотливо вьющихся волос у ее лона, которые она сама любила аккуратно подстригать бронзовыми острыми ножницами. Вода пахла миррой и ладаном, душистыми травами и смолами, привезенными из Иудеи – Йезевель любила эти запахи. Она потянулась всем телом, сплетя руки на затылке, так, что грудь бесстыдно выпятилась вперед, встряхнулась, как собака (рабыни отскочили от нее, зная о ее крутом и неожиданном нраве) и дала облачить себя в тонкое платье, ткань которого приятно ласкала тело. Она не видела, как дерутся рабыни, зачерпывая каждая своим кувшином воду, в которой она мылась, молча и яростно. Малый кувшин питьевой воды стоил в Шомроне как кувшин оливкового масла, и от людей шел противный запах, запах пота, грязных одежд, немытых подмышек и кала. Вода стала сокровищем, за которое готовы были люди Исраэля платить кровью. Впрочем, царицу это мало занимало.
Ахав, хмурый и насупленный, мерял широкими шагами пол зала для заседаний, вымощенный керамической финикийской плиткой. Узоры на плитке прихотливо свивались в ветви деревьев, на которых сидели птицы, а под ветвями журчали ручьи, и рыбаки ловили в них рыбу сетью. На ветвях качались красные спелые яблоки, искусно изображенные финикийскими мастерами. Стены залы украшали панно из слоновой кости, дорогой, привезенной из далеких земель Первым Западным торговым флотом Хирама – специальным отрядом кораблей особого водоизмещения, с канонической амфорой на крутом носу, смело утюжившем волны Великого Моря. Хирам, царь Тирский, удачно отдал замуж свою дочь – с тех пор, как Йезевель первый раз легла со своим царственным мужем, все морские порты Исраэля были отданы в откуп опытным тирским купцам. В Акко и Доре стояли пузатые корабли Хирама, и оттуда плавал его Второй Западный флот к далеким берегам неведомых земель, где люди ходили под себя как звери, где не знали человеческой речи, и где по ночам на огромных вершинах неведомых гор выпадал снег. Эти земли лежали еще дальше чем побережье далекого Мицраима, и там, кроме слонов с огромными бивнями, водилось необычные звери, и кричали в рощах неведомые птицы с хвостами из цветных перьев. Оттуда шло богатство царям Тира, и толстобрюхий важный Хирам одаривал своего неотесанного и неистового зятя-горца частицей этого богатства – за Йезевель в Шомрон пришло много слуг и рабов. Среди них прихотливо смешались искусные мастера и резчики по кости, гадатели, жрецы Ашейры и Баала Тирского, рабыни и проститутки, поэты, певцы и фокусники. Отец не мог и представить себе, чтобы его черноглазая, мягко ступающая красивыми ногами по земле, дочь жила в тоскливом горном гнезде, где скалы и бездны кругом, и где на покрытых низкими деревьями холмах растет мелкий и кислый виноград. Двор Ахава – и над этим его тесть хорошо поработал – стал одним из самых веселых царских дворов мира. Но засуха, третий год терзавшая страну, наложила отпечаток и на веселье Дома Слоновой Кости. Именно поэтому трепетавший от внутреннего ужаса, смешанного с яростью, мерял шагами Ахав просторную залу заседаний, в ожидании умных мыслей, которые приходили царю в голову именно в минуты полного сосредоточения.