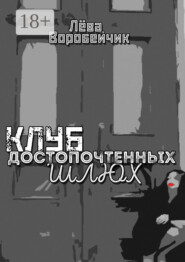По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Промысел осьминога
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Антон начинает писать
[наконец-то!]
Дождь сводит с ума. Я стою, беспомощный, у самого края кормы, смотря на безумие белого океана, а дядя кричит мне:
– Что ты… отойди, ну, не мешайся! – пока держась, трезво и литературно, хотя я знаю, как он может – вон, с командой всяко иначе общается…
Пальцы сводит холодом – и мне страшно от холода, а не холодно от холода – страшно, потому что он кричит, и в его голосе я слышу ярость и ненависть. К кому обращена эта ненависть, ко мне ли или же к кому-то еще? Скорее, к чему-то еще, ведь дядины перчатки скользят по поверхности мотобота, а руки соскальзывают с трала, который он и пытается закрепить. Я стою и не могу продохнуть от ужаса – вот, с каждым новым мгновением все больше начинает казаться, что лебедка сорвется, трал уйдет под воду и дядя тоже туда уйдет, и мне страшно, потому что пальцы у него соскальзывают, он ругается и потеет, а я стою и считаю секунды, которые отделяют его от его же смерти: раз, два…
– Что стоишь? Помоги, ну, быстрее, – кричит он и добавляет столько ругательств, что смысл слов я понимаю скорее интуитивно. Бросаюсь к нему, поскальзываюсь, чуть не падаю за борт. – быстрее, кому сказал!
Подлетаю к нему и неумело кладу руки возле его рук, потому что он не объясняет, а надеется, видимо, что я откуда-то могу это знать. Смотрит он удивленно, видно, что если бы руки были свободны – удушил бы на месте. Кричит мне:
– Нет, вот здесь держи. Да нет, левее!
Пять минут перехватов и скованных мышц рук – и трал закреплен. По моему лицу плывут новые реки, глаза заливает пот и дождь, дядя тяжело дышит и закуривает, по-моряцки у него это получается сразу, несмотря на влажность и дрожание рук. Отдышавшись, говорит:
– Это… такое дело, что надо. А то сорвется, твою мать, и где я такой… а, закрепили и будет.
Отвесил резкий подзатыльник.
– За что? – обиженно спрашиваю я.
– А ты не слышал, что он скрипеть начал? Стоял там, сука, в двух шагах, нет бы сказать и…а, и хрен с ним. Вернемся в порт – сниму и проверю. – не взирая на мои протесты объясняет он.
– Дядь Саш!
– Что?
– А зачем нам вообще этот невод нужен, ты же…
– Не умничай, сука, ты понял?! Поумничай еще со мной…
Еще один подзатыльник – и я вновь смотрю на белые воды, а в уголках глаз щиплет соленым. Холодный ветер проникает под кожу, а дождь – под воротник, перед глазами возвышается Парамушур, а в воде нет никаких признаков жизни. Если бы трал сорвался, то я бы остался на лодке один. Дядя, конечно, прав – океан должен сделать из меня мужчину, я был обязан выйти на промысел, чтобы стать сильнее, взрослее и умнее, но что было бы, если бы его вместе с неводом затянуло на дно? Я не знаю. Лодка пахнет мертвой рыбой, а дядины глаза блещут красными огнями – невод закреплен, но нам нужно стоять на отмели еще около часа, до девяти, так он сказал; я не знаю, мог бы трал сорваться или нет, скорее всего нет, дядю бы вряд ли затянуло, я не остался бы на лодке один, точно не остался бы. Почему все обязательно должно быть так глупо? Почему его команда не может поучаствовать в том, что дядя называет «стать мужчиной»? Ничего страшного бы не случилось. Команда, наверное, там, в Парамушуре, или еще на каком-нибудь из островов, пьет в тепле, пока я нахожусь под дождем, так нечестно…
– Долго еще ждать? – спрашиваю я дядю, стуча зубами от холода.
– Минут пятьдесят. Проверь ловушки. – бешено улыбаясь, говорит он. – Он скоро будет пойман тобой, мальчик. Твой первый, мой-то уже давно на…
– Я проверял их десять минут назад.
– Скоро будет пойман, верно, – говорит он, совсем меня не слыша. – и ты вернешься совсем другим человеком.
После чего он, все так же меня, кажется, не замечая, смотрит туда, откуда идет чернота тяжелых туч.
3
Железо на ветру громыхает – и я бросаюсь, начитавшись статей и написавшись Романа, в серость города, отказываюсь от курева и от того, что существуют и другие, подобные ей; вот оно – счастье, вот он восторг, в осознании единственности и дальности других женщин и других образов. Мария, будь она неладна, все же существует где-то там, вдалеке, и мне ничего не остается, кроме как либо искать, либо не искать и ждать, не принимая ни за что близость других, ибо близкое так преходяще, в отличии, в отличии от! Что важнее, что наклонит чашу весов? Поиск или монастырское смирение, антитеза всей ситуации – выбор, курить или нет, быть в тепле или же в холоде. Удивительно, удивительно.
Сегодня мне пришлось заново познакомится с некоторыми людьми, я забыл как их зовут, и о чем они обычно разговаривают, на лицах людей есть ностальгия и улыбка, вот и приходится смотреть на них критически и внезапной думой сопоставлять – а что есть у меня, пресловутые синицы или воробьи в руках? И, пьяные, мы улыбались с людьми и обсуждали сплетни, пока хмель крепил голову, пока один из этой новообретенной компании шептал на ухе своей женщине:
– Не переживай, малыш, все будет, не сразу, но будет…
Компания без имен – кому нужны имена? Я расположился удобно и ради забавы выдумывал другие имена, скорее даже прозвища, болтая под столом ногой в свое удовольствие, ведь был день рождения, и все расселились либо по парочкам, либо поближе к имениннику, поэтому со мной прямо рядом никого не было и ноге болталось очень даже хорошо; а так, за столом со мной сидели: Глупый, Изменщица, Наивный, Тихоня, Олень и еще один, пусть будет Безымянным. Они все знакомы меж собой, но Изменщицу и Тихоню я видел впервые – они женщины, они – гипотетические Марии, точнее, были ими, пока не открыли рот. Ужасно, банально, безвкусно. Увидев их, вспомнил опять про Нее пресловутую, точнее придумал ее заново – и отодвинул те мысли куда дальше, пока не напился, ведь по напивке подобные мысли лезут сами и в любом случае сводятся или к ней, или к туалету. Вот они, каки собрались мы, со мной в своих членах, что удивительно – компания молодых мужчин и женщин, настолько незначительных и бессмысленных, что даже имен у них нет, лишь прозвища, игра в русский язык; значение представляет лишь Безымянный, он наиболее интересен, потому что наиболее несчастен, вот в чем суть и смысл, почти осьминожий промысел, че.
– Какая встреча, рад, рад. – улыбается он мне, садясь и приветствуя. – Давно не виделись.
– И действительно, – только и отвечаю я, поначалу – с легкой неприязнью, поглядев на него, морщась снобически, но потом все становится на круги своя и я принимаю его внутренним кивком головы внутри моей головы.
Мы пьем целый вечер, улыбаясь, точнее улыбаются только двое, в то время как остальные уже вступают во взрослые обсуждения своих отношений, так и не определившись, кто из них за осьминога, а кто – за рыбака. Музыка играет, Глупый целует Изменщицу, как мужчина только может целовать женщину, и на подсознании глухими ударами сама по себе выбивается мысль: моя Мария никогда бы не согласилась делать это так, в таком месте, какой бы пьяной она не была, ведь для нее это было бы чуждо, она бы не стеснялась своих эмоций и чувств – но всегда бы чувствовала, где так можно сделать, где бы подарить или заслужить мой поцелуй, но так, однако, чтобы я не был против или же раздражен этим. У нее, как бы так сказать, врожденное чувство времени и места, вот почему моя вымышленная Мария лучше Изменщицы, Тихони, всех их, даже ангелов-официанток; она не позволяет себе не только таких поцелуев, но и своего СУЩЕСТВОВАНИЯ, что, несомненно, только прибавляет ей цены.
Но вечер безынтересен, а есть внутри помещения только лишь я, моя выдуманная взамен настоящей (Ира пожелала остаться дома; жалею, что пока не стал верить ей на слово и все же пошел) и, конечно, Безымянный. Смешной человечек с глубоким взглядом, из тех, кто никогда не произносит вслух твоего имени, а если и произносит, то непроизвольно, заклинанием и обязательно полным, с отчеством; откуда в маленьких мужчинах эта ужасная тяга к полногласию имени? Человек глубокого взгляда и артистичности, театрализованности; в каждом движении его мускулов видно несовершенство и внутренние противоречия, видна смущенность и извинения, нет в нем уверенности, хотя он и отчаянно пытается ее показать, а как ее покажешь с ростом в метр пятьдесят семь; и улыбка его, и смех его – то, что наслаивается на грусть его, потому как его глаза созданы для грусти, а губы – для ироничной усмешки, видно, что он обязан быть тихим, а не отчаянно громким; театр одного или театр для одного, Безымянный?
– Знаешь, я очень рад, что тебя увидел сегодня, правда, – улыбается через время он и говорит, а я треплю его по плечу. Больше в зале никого – лишь вымышленный я и почти настоящий он, пьяный, смешной. – может, они пойдут, а мы тут это…?
– Да, пусть идут, – пьяно говорю я. – Только вроде начали, а тут они. Эх.
Они все ссорятся, портят всем настроение, гоняют официанток почем зря и заказыват кушание за кушанием, старательно подсчитывая каждую копеечку. Они все такие, все эти обыватели, а мы как будто бы книжные взамен их, вроде как настоящих; за вечер мы выпиваем много для него и недостаточно для меня, остается лишь смотреть в его глаза и видеть незаданные вопросы. Я вижу в его грустных глазах это самое незаданное – там, в глубине, тоже сокрыта Мария, его сокровенная и совсем другая Мария, я знаю ее лучше, чем должен, подробности ее вымышленности стали однажды подробностями ее реальности, когда мой Друг возлег с его небезымянной любовью; нет, все не так, он должен лишь схватить меня за грудки и кричать:
– Давай, скажи, говори, все что знаешь, не видишь разве, как херово, а?!
Но он не хватает и не кричит, даже не спрашивает. Его Мария танцует во взгляде итальянскую сицилиану с другим, даже уже не с Другом, где-то далеко, а он не спрашивает, хотя мысли выдают его – читаю еще одну человечью книгу в свою юность и не делаю попыток снизить его боль, ибо я человек, а не врач, а диагноз только такой: «Острая марийная недостаточность», лечить которую только методами, не прошедшими клинические испытания, в его случае не мешая с другими препаратами и так далее. Но ясно одно: его Мария с другим, даже если она одинока, потому что для такого человека как Безымянный не может быть компромисса, только грусть и все такое. Я это, например и непонятно откуда, знаю, и говорю лишь:
– Да, и я рад, что увиделись.
Изменщица в это время целует Глупого, Тихоня – Наивного, Олень пьяно смотрит в стол, помирились, неженки; лишь мы с Безымянным смотрим друг на друга, пьем, и замолкаем на минуту, чтобы не спросить о самом главном, ведь он не спрашивает, как часто она любит других и как часто мой Друг ее теперь любит, а я не спрашиваю у него, не видел ли он моей Марии, которую я упорно, несмотря на Ириных воробьев, продолжаю искать. Пьяный круг замкнулся; выходя из бара, железо громыхнуло на ветру, остается лишь выпить еще и танцевать сицилиану в одного под дождем внутри серого города, ведь хороший вечер, че, да еще и пятница.
4
Вспоминая знакомство с воробьиной (а теперь по-другому и не сказать) Ирой, пусть эпиграфично, однако…
Сидел и смотрел куда угодно, лишь бы не на лицо ее, не в глаза ее, а здесь бум, убит шальной пулей, а мысли спутаны в тугую сеть. Зеваю, оправдываюсь; разве можно оправдываться за защитную реакцию, в которой больше смущения, чем усталости – соотношение один к ста, знаешь, если не к тысяче, пока синяя бахрома подстолья щекочет ногу. Например, осознание того, что синяя бахрома щекочет не только МОЮ ногу – так вот же она, заветная близость, значимость, смысл; слова на ветру, приращенные к обстоятельствам, превращенные в слова без всякого ветра [кругу конец, замкнулся]; бык, выращенный на убой – вот он я, вот она, красная пряность нитей ее существования. Бык страшен? Нет, ничтожен, ведь быку машут красным, и он мечется от слов к делу, от дел к сигаретам и словам; приходилось сидеть в том красивом кафе и смотреть куда угодно, лишь бы не на ее лицо.
Хирургия прямых вопросов, завуалированных вопросов, а спустя день ничего не становится яснее, а лишь сложнее – все УЖАСНО усложняется, когда как наоборот должно стать чем-то необязательным и простым после первого прикосновения и поглаживания, а тут и выходит, что есть только глупые быки под цветное мелькание красной тряпки, отведение глаз и удивление, помноженное на сто. Ее вопросы сменяются моими насильными вопросами; игра переходит от ведущего к ведомому, но роли не меняются – правда теперь тряпка на быка наступает, все больше его раззадоривает, злит. Вопросы разнятся категориями и значениями, нельзя сказать, какие важные, а какие нет: ничтожнейший обретает глубинный смысл, а самый нужный остается незаданным и ненужным, мне кажется, будто в мире быков и тряпок это означает УСЛОЖНЕНИЕ, но что же тогда называть упрощением? Скорее, мир без вопросов, мир, спрятанный в холодных ладонях и абсолютной тишине, подаренной парой блестящих глаз; это разве просто, спрашиваю? Да, ужасно просто. В этом суть симбиоза быка и красной тряпки – в отмене игры; укутавшись в раздражающую тряпку, бык уснет – так в двух словах и ужасным слогом и объясняется мое мнимое упрощение.
[А Ира сказала три слова и меня понесло вновь]
..просто слова вроде «ты мне нравишься», сказанные в контексте этой странной категории, называемой беседой – иногда звучат просто так: либо вообще безо всякого смысла, либо же такие слова и несут в себе ВООБЩЕ весь смысл всего когда-либо сказанного человеком. И вот, когда фраза сказана и немота напала на меня, произошел скулёж моих мыслей и восторженное великолепие ее скул; я задним умом отметил: «у двух слов одинаковый корень», а значит у меня вовсе не остается мыслей, раз я замечаю подобное, действительно, вот что со мной игриво сотворил мой поиск – я с каждым днем уже все меньше человек и все больше – разъяренный бык. Бык не понимает просто так сказанных «может, хочу, что бы ты остался», нет-нет, бык слышит лишь «останься» – и позорно бежит, прикрываясь обстоятельствами; почему именно ее воробьиные скулы? Скулы Марии, всего две, а не восемь, вот опять пример дурацкого усложнения – в поисках смысла, а ведь упрощение, знаешь – вовсе не думать о Марии; упрощение – это вроде бы как стать спокойным быком и принять красноту тряпки как нечто должное, закутаться в нее, вместо того, чтобы туристом бродить по улицам ее Мадрида и принять всего лишь одно слово шепчущих губ – «останься»; да, да, да – вот чем должен стать бык, вот чем должна стать та, та… та.
Дожили, я теперь – это разговоры о себе и мысли о вопросах к ней и о ней; а что же она? Забытое чувство школьника, синдром школьника, когда нерешительность и япровожутебяможно – и она со своей центральной частью, вокруг которой мой синдром и вращается; модель солнечной системы за каких-то жалких два часа, хотя кому я лгу, себе не надо – боже, с каким бы удовольствием я бы превратил их в жалких пять или великолепных шесть!
И вновь немного о Ире с ее крылышками и нагловатым воробьиным клювом [почему воробей, ведь либо синица, либо воробей, одна вторая, половина выбора, почему из двух вариантов мной выбран наименее подходящий?], о Ире, которая пришла на смену и теперь нахально борется, бросает вызов придуманной; посмотрим, че.
Случилось превращение человека в быка пятничным вечером и я, честно, никогда бы не подумал, что скулы могут быть такими глубокими, глубже впадин и морей, и теперь уверенно делят второе место с парой ее безоттеночных глаз. Оправдание за оправданием, подстановка: слова вроде «пятница» и «скоро буду» – элементы паззла, знаешь, разрозненного и в то же время единого; я понял что-то вроде того, что зрение, выданное однажды лишь для того, чтобы смотреть и не видеть порока, видеть светлое в бокале темного, такое же полезное это зрение для крота, как и я для нее – по-другому и не скажешь после этого вечера. Долгими часами после я трогаю ее холодное лицо и горячие ноги, удивляясь такой странной перемене значений. Шагает ножка секундной стрелки, происходит у нас моргание парой глаз, цокание языком – и все переворачивается с ног на голову, когда она говорит, неизменно улыбаясь:
– Если я никогда тебя после не вспомню?
Отвечаю просто: