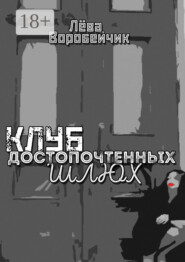По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Промысел осьминога
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Значит и я никогда больше не вспомню и тебя.
Хищный профиль, даже пьяному он покажется опасным и никак не милым, вот она, цикорий и сахарозаменитель из мира Марии; не стихия, как положено, но что-то очень близкое этой самой стихии по духу, шаг секундной стрелки – и все ужасно упрощается, из сложного уравнения становится вовсе простым, донельзя, ведь в таких нельзя влюбляться и нельзя НЕ влюбляться, с такими как она следует лишь считаться и либо позволить ей запустить в себя когти, либо запереть ее в толстой клетке, но даже запертая она несомненно будет приковывать взгляды, удивленные, улыбчивые. Пантера с воробьиным раскрасом.
И, разумеется, мы с ней сливаемся в удивительной сицилиане, настолько же древней, насколько же и забытой, ее плечи срастаются с моими пальцами, мои пальцы срастаются с ее шеей, а в голове у меня музыка и ощущение, будто кто-то пожирает нас взглядом; нет, нет, это все она одна. Мастерство ее губ заставляет терять голову и не находить ее, не ПЫТАТЬСЯ находить, ведь она – ведущая в этом парном танце, когда я лишь пытаюсь успеть за ней и пытаюсь не думать ни о чем, кроме нее; метафоризирую вновь: бык становится человеком, чтобы после стать игрушкой, резиновой костью для ее острых словно нож зубы. Игрушки вроде меня могут лишь осознавать свое конкретное положение, они не способны быть романтичными и придумывать сложные комплиментарные конструкции, им должно, им обязано лишь хотеться двигаться в такт с ней и такт этот нарушать, делать его сбивчивым и нарочито неправильным, несовершенным; вот и мне, как игрушке, очень хочется делать все как она просит и нарушать ее приказы, ведь у нас с ней теперь много всякого: игры в бразильских шпионов, когда мы еле знакомы, игры в друзей по переписке, когда мы ногтями выводим на спинах друг друга адреса; играть, танцуя и насвистывая сицилиану под горячностью одеяла, не замечая сбившихся простыней и разделения одного человека или на два, или на десять разных личностей; наши вещи натягиваются после танцев, чтобы неизбежно вновь полететь на пол часом, двумя, тремя позднее, и я отчаянно не понимаю, зачем тогда вообще надевать их, почему не быть первородными, единственными, честными, настоящими?
Зачем слова, когда слова не нужны; познание упрощения за неделю, краткую, насыщенную; ни одно слово не опишет этого состояния, этого чувства – потеря себя и заново себя обретение, так что заклинанием, разумеется, на латыни или же ее древненемецком, где на втором месте обязательно идет сказуемое, а уже после обязательно обращение: пантерный воробей или Ира, как больше нравится, золотце…
***
Луна мостит дорогу под тяжестью моих шагов – я в этом танце лун и дорог лишь случайный попутчик, моя обувь – безликий партнер, я – безликий партнер, то, что я шагаю не значит ничего, равно и как я шагаю, ведь так мог бы шагать каждый; хорошо, что луна выделила среди других именно меня. Моя Венеция приказывает мне идти не спотыкаясь, продолжать свой бессмысленный путь и думать о конечной цели: направо, до дома Матильды, не посмотрев ее окна, после прямо, углом пересекая площадь, которую мы называли Конти Д`амор, выйти и отдышаться, покурить, быть может, посмотреть на сияющий огнями канал, потом вновь направо, прямо, прямо, и налево – и на условной границе Сан-Марко и Кастелло наконец остановится, не оглядываясь. Может быть, покурить еще. Отправится в самый дальний конец моего ночного пути, не обращая внимания на лицемерие этих, в масках, и искать взглядом хотя бы одну пару, неумело танцующую сицилиану в эпоху, когда с гораздо большим удовольствием они танцуют вальс или отплясывают ритм-энд-поп.
Меня окрикивают, зовут, трогают голосом за плечи, так что остается лишь отмахнуться и идти дальше. Матильда кричит из окна: «Луциан!» – а я лишь нахлобучиваю шляпу пониже и продолжаю свой неторопливый шаг от камня к камню, от веселья к затишью; Венеция – не город тишины и особенно сегодня, ведь в толпе я ищу себе странного партнера для Богом забытого танца – я ищу САМ забытый танец и САМУ забытую музыку в кромешной тишине и бездвижии, куда уж проще? Я нарушаю свой ритуал – я хожу так день за днем, но с Матильдой всегда здороваюсь – сегодня просто не хочется, сегодня просто этого не нужно, ма белла, прости меня, я пока слишком трезв своей дорогою… Луна светит, моя Венеция благоухает и кричит надрывно, экий пережиток прошлого; я один остался верным традициям измен и иссохших фонтанов, хотя изменяют ночью все и осушает фонтаны чуть не каждый – но дело же вовсе в ином, верно? Кто-то любит женщину прямо у стены, на тесной улочке, их лица скрыты масками – так они словно бы сообщают мне, что полицию звать не нужно, что у них все схвачено и что хорошо им, куда как лучше моего – что же, что же. Всего одна ночь есть у них, чтобы полюбить друг друга, сделать из этого символ – и да, я принимаю и это тоже, так же, как и то, что луна светит, уставшие ноги продолжают идти, а губам хочется прижиматься к сигаретам и другим губам, ма белла Мати; Венеция, моя Венеция…
Выхожу к каналу и болезненно смотрю на Дзатерре, вспоминая там себя, Матильду, луну прямо как сейчас и вкус крови на своих губах, это было ужасно давно и словно бы не по-настоящему, но и это тоже вполне в духе моих принимаемых вещей – я почти забыл, но тут же вспомнил, как у нее пошла кровь носом и мы, смеясь, списали все это на мой счет, потому что я был моложе и всегда платил за нас двоих: так и на той удивительной набережной мне пришлось заплатить и за это тоже. Мы танцевали на ней джаз и твист, рядом на руках под динамичную музыку танцевали другие, подростки пили, взрослые препирались, кто-то зачитывался испанцами, а кто-то был испанцем; мы танцевали с ней редко, но всегда обязательно джаз или твист, даже во времена маскарада и во времена Ночи в нашем вальсе было что-то от обоих стилей, руки дергались, ноги хотели стукнуть о мостовую вместо плавных линий – ведь для плавности существуют каналы и их обитатели, а ноги, наши ноги – для ритма. Мы никогда не придавали этому значения и всегда танцевали твист, покачивая легко головами и запрокидывая их, пока однажды кровь из ее носа не оставила два пятна на белом джемпере и следов на моих губах – теперь же ничего этого вовсе нет. И Ночь уже совсем не та, что прежде – хоть надевай маску и иди вперед, размышляя о силе искусства и слабости отбивающего ритма ног; прямо еще шагов эдак двести, пока улица не заставит повернуть направо.
Парочка давно осталась позади, со мной вежливо поздоровался полицейский. В форме, я – в костюме, взятом напрокат у моего друга, со смешным париком и в синей маске (оба наших костюма – оболочки и лишь карнавальные штучки, в этом мы братья); он спросил у меня сигарету, я достал ее из-под кафтана. Вот и приехали. Двое костюмированных стояли и курили одни и те же сигареты, разодетые, под светом белой луны, на площади играла музыка, люди предавались танцам, общению, и таинству этой удивительной ночи, пока мы понимающе глядели друг на друга. Мы оба принимали участие в маскараде, на одной и той же стороне, хоть и находились в мыслях за километры друг от друга. Он спросил меня учтиво:
– Куда направляетесь?
– Вообще в Кастелло. Но может дойду и раньше.
– У вас намечена встреча?
– Нет, ищу партнера для танца.
Он посмотрел на меня странно. Он не знает, что я хочу найти не партнера, а сам танец – это прозвучит глупее, но зато честно. Спрашиваю, докуривая:
– Передавали про беспорядки?
– В тех краях ничего вроде. Там лишь пьяные спят.
– Кстати, я ищу не партнера, а сам танец. И пьяные везде нынче. – как мне показалось, с долей грусти он кивнул, словно бы понимая и соглашаясь.
– Верно говорите, пьяных действительно очень много, но на то это и называют Ночью. – закивав, я удостоверился, что говорил он это с настоящим сожалением. – Хороводы целые… но вернемся к танцу: конкретный?
– Да, но я не скажу вам, какой, извините.
Полицейский пожимает плечами, словно бы говоря: это вне моих полномочий.
– Найдете сами?
– Или же сам не найду. – поймав его улыбку, я медленно киваю и продолжаю свой путь. Краем глаза замечаю как, ненакурившийся, он достает свою и продолжает игры в никотиновых королей и их верноподданных; становится немного досадно.
Под ногами щелкает гулом мостовая. Хочется скинуть ботинки в Гранд-канал и пойти босиком, ведь сицилиана стоит того, чтобы заболеть ради ее поиска, чтобы вместо кровавых мозолей заполучить грязные пятна, которые не так просто вывести, ведь осталось не так много: прямо, направо, снова прямо и углом через площадь…
5
Заметка:
– выписать венецианские улицы, нарисовать карту океана, посмотреть фото осьминогов; курить, рисуя карту, грызть ногти (свои или ее//решить), выписывая названия, перечитать про Х. Келлер, нацеловаться всласть. До 17:00. Писать как проклятый и устать, чтобы потом погулять под ручку. Тьфу, как ребенок, ей-богу.
***
Луциан:
Ноты Скарлатти в голове, шаг, маленький шажок, выпад; звучит первая нота, палец Скарлатти ударяет белую клавишу, а моя рука вздымается в моей голове вверх, чтобы описать полукружие, и замереть, отчаянно ожидая второго пальцы, второй ноты. Танец венецианского Луциана удивительно хорош, лучше танца придуманного (ну, сицилианы), ведь танцуется он только в голове и немного – в реальности, стуком каблуков по мостовой, вымышленными взмахами рук… Танцую; в городе порока и синих масок он обязан стать чем-то большим, чем просто танцем, должен нести не свет, не смысл, а что-то еще, что забыто мной, а ими… неизвестно, но музыка исключительна: Скарлатти сменяется Бахом, а стучание по клавише – стучанием каблука; в голове я припадаю босой ногой, коленом к мостовой, а руку завожу за спину, чтобы отпустить ее вольной птицей, почему-почему-почему в моей Венеции больше не танцуют сицилиану на улицах, почему лишь мне одному суждено искать ее, чеканя шаг по мостовой, не находить и, придумывая, возвращаться обратно, проходя мимо как будто бы забытого и отчаянно зовущего дома Матильды?!
Матильда:
Луциан, зову тебя, кричу тебе из холодного окна, наполовину высунувшись из него и чуть не падаю – ты не слышишь меня, а все идешь, и стук твоих каблуков разносится по безмолвной улице, во время самой прекрасной Ночи из всех, что проводились раньше, приуроченной к очередной годовщине какого-то события. Я кричу дважды, трижды, ты слышишь меня, но не оборачиваешься, а все идешь по километрам вымощенной камнем мостовой и как будто бы не обращаешь внимания ни на что кругом: ни на темное небо, ни на тяжелый дождь, льющий прямо на тебя, ни на толпу, изредка выходящую тебе навстречу. Смотрю сверху – отсюда кажется, что свет венецианских фонарей кажется тебе каким-то другим светом, дождь не кажется дождем, а других людей словно бы не существует. Луциан – кричу тебе, зову, для того, чтобы ты поднялся, не снимая шляпы, а выходит, что кричу тебе лишь для того, чтобы ты не услышал – твой путь словно бы намечен заранее, заранее происходит от твоего выбора и последствий этого выбора. Я пьяна и в четвертый раз кричу тебе своим фальцетом: «Луциан», – чтобы ты наконец услышал, кричу что-то еще и еще сильнее машу рукой, чуть не вываливаясь. Мой Антон подходит ко мне и зарывается лицом мне между лопаток, целуя там и положив руку на правое плечо, но ты не увидишь его, если все же посмотришь, мы в тени, а высунулась одна только я, максимум, что ты увидишь – руку Антона, но признайся, что увидеть руку гораздо лучше, чем лицо, смотрящее с сожалением на тебя, мой Луциан! Он целует меня, я уже не вываливаюсь, и смотрю, как ты все так же идешь прямо, чтобы потом свернуть в направлении Канала, чтобы вновь искать веселья или чего еще ты там можешь искать? Поворачиваюсь к Антону, а он спрашивает, зачем я звала Луциана, когда он рядом, а мне лишь остается ответить, что Луциан – символ моей Ночи, потому что синие маски мы носим лишь однажды в год, тогда как иные маски приходится носить постоянно, и именно этой ночью одни можно сменить на другие, в темноте стать честными и полюбить незнакомку или незнакомца, прикрываясь древними традициями, прячась от полиции и все в таком духе. И я добавляю, что помнишь, Антон, я ушла гулять без него однажды и мы встретились, а Луциану с тех пор не нужны синие маски и ахаю, и охаю немного, а Антон слышит это в четвертый раз от меня, каждый год он спрашивает одно и то же, четвертый год я зову тебя, мой Луциан, подняться этой самой ночью к моей квартире и самому выбрать любую понравившуюся пластинку: Стравинского, Баха, Деницетти или ужасного Скарлетти, или же – латти, не помню, как именно, но он никогда меня не слышит, никогда не поднимается. Так и Антон никогда не смиряется с мыслью, что Луциан однажды обязан подняться и своей синей рукой поправить мою маску, а другой рукой – иглу проигрывателя, чтобы под Баха, Стравинского, Деницетти или ужасного Скарлетти [о, – латти] мы как раньше могли бы станцевать твист, джаз, но никогда – тот странный и почти забытый танец, потому что…
Полицейский:
…потому что на Дзетти двое затеяли пьяную потасовку и мне никогда не приходилось прежде видеть такую отвратительную картину, хотя в ней ничего нет отвратительного, так, мелочи. Дорогие костюмы разлезлись по швам, обнажили плечи своих хозяев и испачкались, когда двое пьяниц в масках повалились в грязь, ни на секунду не останавливаясь. Кровь, слюни и грязные разводы выступали на белых рубашках и голубых сюртуках, проклятия на смеси из двух языков, застывшие слезы на лице одного, который в порыве пьянства пытался было выхватить декоративную шпагу, но второй случайным ударом выбил ее, а в темноте ее они найти отчего-то не смогли. Заплыл у одного из них глаз, лицо стало наполовину грушевого цвета и половинка его стала формой груши, а прохожие ходили мимо, улыбались, но ничего не делали, лишь одобрительно кивали из-под своих расшитых золотом синих масок и желали господам приятного вечера; такие парочки бесстыдно любили друг друга чуть позже в подворотнях и возле подъездов, даже когда я просто ходил мимо и извинялись, потому что сегодняшней ночью это было допустимо – единственная ночь, когда влюбленным не нужны кровати, а нужны лишь открытые пространства и маски; я впервые дежурю этой ночью и еще очень многого не знаю о нравах незнакомой, как оказалось, Венеции…
Вспоминаю человека в синем костюме – он не единственный, кто этой ночью искал что-то в этом странном городе, ведь почти каждый сегодня что-то ищет и что-то обязательно находит: в этом весь смысл сегодняшней Ночи, третьей ночи карнавала: такие как он, не ищущие женщину в маске на ночь, вынуждены бродить в такой ливень, совсем его не замечая, чтобы дойти до Сан-Марко, Кастелло или же до самого Сен-Мало, если во всей Италии не найдется того, что им нужно – я даже немного понимаю их одиночество, древнее и словно бы передавшееся с кровью от порядочных предков, я сам бы искал на их месте что-то, что не поддается описанию, что нельзя выразить, вот и приходится использовать синонимы вроде «сицилиана», «тайна», «жизнь». Мы курили, я смотрел в его глаза и когда он сказал, что самому ему это не найти, я хотел было предложить поискать вместе – просто мы бродяги одной породы, вышедшие этой ночью в поиске ответов, в поиске смысла и смутных очертаний. Хорошо, что двоих пьяных увезли – может, пойти вслед за ним? Но тогда я буду искать именно его, чтобы узнать точно, что он ищет, чтобы задуматься – того ли ищу я сам, тогда его поиск станет чем-то большим, чем мой поиск, потому лишь, что…
Луциан:
…что сам я, увы, не могу разобраться в своих шагах и в ослепительном сиянии белой луны, в отсутствии ветра и прекрасной погоде, если ноты Скарлетти не зазвучат у меня в голове и рука не будет вскинута, чтобы застыть, а потом чтобы уйти за спину; а вот господин, идущий навстречу, пьян, и мне кажется, что он самый счастливый человек в Венеции – на нем тоже нет маски, лишь краснота возле глаз.
– Там одна лишь грязь. – Говорит мне он, чтобы я знал, но я знаю это и так, ведь я же не слепой.
Вовсю льет дождь, за пазухой мокро, а на стенах танцуют искры дьявола, похожие на неоновые стрелки: прямо, потом налево и снова…
6
– Она заводит меня в тупик, знаешь, и даже ее поиски заводят в тупик. Потому что ее нет, ну, как обычно у меня это заведено…
– Действительно. – с легким раздражением говорит Друг. – Но ведь ты именно поэтому и ищешь? Потому что нет, а смиряться с этим не можешь, верно, обязательно нужно чтобы была?
– Да, как-то выдумал все это просто…
– Свою Марию? – на всякий случай интересуется Друг.
– И даже необходимость поиска.
Смотрю на него, на Друга, и пониманию, что со мной, в чем мой диагноз: у меня хроническое выдумывание небесного кренделя и последующее за этим его поедание, которое нужно лишь в той степени, чтобы не оставаться голодным, ну или выбитое гвоздем по камню правило: «кто-то всегда ОБЯЗАН быть голодным», выбитое специально для меня напоминанием и поучением, непреложным правилом. Моя рука, одна из восьми (ах, что за чудные отсылки в жизни к моему Роману), протягивающаяся к лицу очередной псевдомарии, останавливается, чтобы уйти за спину, так и не дотронувшись до лица ее, а может, чтобы пригладить мои отросшие волосы, а не ее недавно стриженные. Вот и все, мон ами, вот и все.
– Я ищу ее лишь затем, чтобы никогда не найти, тысячу раз же объяснял, сам поиск – главное, а она второстепенна, потому что… ну, я так решил. – под закатывание его глаз я продолжаю. – Мне так гораздо проще, вешать ярлык с ее именем на любую встретившуюся на пути, а потом ярлык снимать. Да. Да, снимать, понимаешь, не могу объяснить, в чем тут настоящий смысл, но он есть, в голове это звучит куда лучше.
Конечно, звучит лучше, в голове всегда все звучит лучше, ведь чему учат классики – тому лишь, что можно быть нечесанным и поэтичным сорокалетним аргентинцем или португальцем, чтобы поэтика сыпалась из тебя монетками сдачи автомата кофе, но, увы, я – русский, а значит косноязычный, а что самое плохое, что я не обычный русский, а пока еще маленький русский, от этого все и беды, неумение сформировать мысль и облечь ее в доспехи словосочетаний, ведь все, на что я способен – говорить лишь: «в голове это звучит лучше» или «кажется, да». Хочется одновременно сказать все и не говорить ничего, потому что борьбу внутренних голосов и противоречий и не заглушить, и не озвучить, с ней даже особенно не посчитаешься, остается лишь спихивать все на поэтичность ситуации, которая на деле является лишь продолжением фантазии: красота в моей жизни то присутствует, то нет, то она заполняет меня, а то хочется вытошнить все то, что делает человека отличным от другого человека
– становление тенью-
и все сплошь из этого выходящее. А Друг все смеется над моими попытками объяснить необъяснимое, эх. Для этого ли дан человеку язык, дана ли для этого литература? Забыть о себе, о языке, отдаться на поклон автору и впустить его голос в свою голову, на секунду или час забыть, что можно размышлять, стать губкой – беспрестанно поглощать информацию, чтобы однажды ощутить себя выжатым (и тогда закричать: «а, к черту», «а, ну и пусть») и стать другой вовсе породой человека. Так легко и так необъяснимо сложно – что и говорить, в голове все всегда звучит по-другому, но такое Другу сказать сложно, ведь его палец курком на взводе у виска, хоть он и не такое уже слышал, но мы слишком, че, разные, нам слишком многое непонятно друг в друге и в самих себе, вот оно в чем дело, Дружище, так что давай спихнем все на то, что в голове – да, там действительно все куда как логичнее.
– Не так ищут, понимаешь? – Начинает в который раз объяснять мне Друг то, что в принципе объяснять нет смысла. – Нельзя искать, не прилагая усилий, всегда нужно совершать даже ничтожное напряжение. Кстати, как ты мог заметить, – дополняет он. – я уже наполовину сбрендивший, как и ты. При живой твоей бабе я даже выслушиваю, а не опровергаю твои поисковые записочки, которыми ты говоришь.