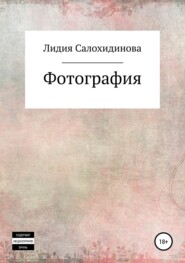По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русская печка. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И немудрено: русский человек охоч до всяких сказок-небылиц, таинств и чудес.
Подруги
Рассказ
Аксинья Сергеевна – старуха, ей далеко уже за восемьдесят – сидела на крыльце, на маленьком детском табурете, сама не знала, то ли грелась на солнце, то ли морозилась: сентябрьское солнце уже скупое, а вот снизу, из-под крыльца, уже тянет холодком.
В калитку протиснулась подруга, Елена Фроловна, занесла свое большое тело во двор, закричала:
– Здорова, подруга.
– Это ты, Ялена? Солнышко в глаза светит, вижу, хто-то вошел, а хто – не могу признать, – слукавила старая женщина, потому что знала, что так широко, чтобы калиточка о забор торкнулась, открывает её только подруга. Ох и широкая баба – эта Ялена!.. Лукавила же старуха, чтобы скрыть радость, – три дня не видела подругу, соскучилась.
– Я-то здорова, а вот ты как? – Сергеевна ответила про здоровье так, при её-то колотье в боку, болях в спине, немевших ногах и руках, не обманув подругу, потому что с этими болячками стерпелась, сроднилась, так, что, если поутру, прислушиваясь к себе, не ощущала новых болей, считала себя здоровой.
– Скоко дён тебя не видела, думала, уж не захворала ли… Думаю, Митрий со школы придёт, – пошлю узнать.
– Я ж тебе говорила, что в тот край поеду пожить, к внучке Марине. Ей в город по делам надо было срочно съездить, вот я и оставалась с правнуком водиться. Домовничали мы с правнучком Вовой эти три дня, – явно выхвалялась перед подругой Фроловна, приговаривая нараспев. Сергеевна подруженьку «на скрозь» знала, все повадки, выкомурки её понимала.
Подстелив вязаный кружок, что лежал для обтирки ног на крыльце, Фроловна умастилась у ног Сергеевны, расшиперившись, как пшеничный сноп на поле в годы их молодости. Перевела дух, и продолжила напевать:
– Сам-то, зять Андрей, целый день на работе, в поле, а мы с Вовой хозяйничали. Да хозяйка-то я уже никака. К вечеру ждала зятя с поля, супчик сварила, а ему не по вкусу, ел без аппетита.
Посторонний человек из сказанного сделал бы вывод, что сокрушается она – мол, разучилась готовить. Так мог подумать человек сторонний, но не Аксинья. Та знала, что имеет в виду подруга: я-то еще готовлю, а тебя твоя доченька к плите уже не подпускает! В другой бы раз она перевела разговор на другое, но, соскучившись по подруге, с готовностью подхватила:
– Да какой с нас теперь спрос… Вот я другой раз что захочу поделать, а не получатся, как раньше. Поспеху уж нет и уменье куда-то делось, да и слепотья я, совсем ничего видеть не стала.
– Вот и я так же – совсем ничего не вижу, – будто переняла подруга у подруги прялочку, и продолжила прясть ту же нить Елена.
Помолчали, утолив голод общения. Хорошо так, дружно, в охотку помолчали, ощущая сердечное мление и теплоту, которая разливалась внутри от присутствия друг друга.
– А правнучек-то хороший, справный мальчонка, девятый уж месяц пошёл… Чижо-о-лый! – нетуть силов у меня его подымать. Лазит уже кругом, ходить ещё только норовит, а шустра-а-ай…
Дружили Фроловна и Сергеевна с детства, и соревнование у них промеж собой – тоже с детства: кто быстрее добежит, кто скорее лукошко смородины наберёт; потом – кто больше снопов навяжет… А уж когда вышли замуж, – кто больше детишек народит. Война прервала это социалистическое соревнование, война сравняла во всем: сначала Аксинья, а следом и Елена рвали на себе, получив похоронки на мужей, кофточки – обе в двадцать девять лет остались вдовыми.
В войну Аксинья с Еленой ребятишек своих не делили на твои-мои, делили меж ними кусочки хлеба, только так и выжили. А со временем снова размежевались, незаметно для себя. А теперь вот соревновались, у кого внуков-правнуков больше, у кого те лучше и краше, – все они пересчитаны и все, как один, возведены на пьедесталы.
– Вот и у нас Степан такой же был, – побила козырем Аксинья карту подруги (Степану уж девятнадцатый год пошёл, и он учился аж в самой Москве) и, помолчав, добавила совсем нейтральное: – За ними в энтом возрасте глаз да глаз надо.
Фроловна тоже знала свою подружку, знала и то, что та сейчас дозволяет ей немного похвалиться, погордиться своими внуками-правнуками.
Увидев на крыльце людей, прибежали куры: может, чем посчастливится поживиться. Человек, он ведь такой: что-нибудь да бросит, семечко иль зёрнышко какое. Аксинья Сергеевна замахала на них батожком:
– Кыш, пошли, холеры, отседова! Нагадют ещё у крыльца… Вот ведь ненасытные – только что им Анна зерна сыпала.
– Насилу дождалась, когда Марина из города приедет. И как они живут в энтой этажке – земли под ногами не чуют… Озолоти меня – ни за что бы там жить не согласилась. Ни огорода, ни сарая – клетушечку им, правда, каку-то выделили в общем амбарчике, чуть поболе собачьей конуры, так банны веники тама держут, да зять снасти свои рыбацкие развесил. За молоком – к папе-маме, картошку у меня содят, ко мне в голбец и ссыпают; увезут ведра два, съедят – опять.
В деревне лет пять назад построили двухэтажный дом со всеми удобствами для деревенской интеллигенции, а полемика о комфортабельности этого жилища меж сельчанами всё не затихала.
– Зато культура… – обронила нехотя, и как бы между прочим, Аксинья Сергеевна. Уже ни раз меж ними такой разговор был, уж ни единожды Сергеевна использовала этот речевой оборот, выводя тем самым подругу на новый виток разговора, а уж поговорить-то ей хотелось.
– Да кака там культура? Ты же ездила к внучке Татьяне в Новосибирск, когда могутная была, видела… Культу-у-ура! Рази это культура? – туалет рядом с обеденным столом… Тьфу, срамота. То ли дело в своем доме, на улке. Пошёл, опростался, промялся и проветрился заодно.
Анна вышла на крыльцо, поздоровавшись с крёстной, взяла вёдра, опрокинутые, они сушились на лавочке, собралась по воду.
– Как к дочке-то, Татьяне, съездили? – спросила участливо крестницу осведомлённая в том Фроловна.
– Съездили… – ответила Анна.
Не удовлетворена была Фроловна таким ответом Анны. Да за такой ответ и в школе неудовлетворительную оценку ставят. Поджала губки Фроловна, да так, что они, из-за отсутствия некоторых зубов, спрятались во рту. Выждала она, когда за Анной закроется калитка, проговорила:
– Кака-то Анна сёдня не така, и глаза вроде припухли… Случилось чего?
Выдержала нужную паузу Аксинья, чтоб больший интерес подогреть в подруге, но рассказать о случившемся в семье её давно так и подмывало, особых секретов она всё равно не выдаст, почти все в деревне знают о чепэ в их доме. Только Фроловна, просидев на втором этаже и лишь выглядывая в окошечко, как кукушка в часах, все пропустила.
– Миколая она потеряла.
– Да как потеряла? – вон он, в огороде, я отселя вижу: ботву в кучу сгребат.
– Добрые люди нашли, кум Константин привёз.
– Осподи, осподи, да как это? – ударила себя Фроловна руками, как курица крыльями, пытаясь взлететь. – Хотя в Новосибирске немудрено: не иголка, а потеряшься… Аль по пьяни?
– Ты ж, Ялена, знашь, что он у нас не пьющий, рази маненько когда. Не в Новосибирске, а по дороге уж домой. Уже немолодые – Анне шестьдесят два скоро минет, Миколай на год постарше её, – а чего-нибудь да учудят.
Перевалившись с боку на другой, Фроловна словно высвободила из-под себя донце-подгузок прялочки; и в самом деле – теперь черёд Сергеевны нить разговора вести. А Фроловна прислонилась спиной к крылечному столбику, приготовилась слушать.
Разомлевшая, посоловевшая Аксинья – солнце сегодня расщедрилось-раскочегарилось, поди, думает, дай, старушонок, на крылечке усевшихся, побалую – сняла тёплый полушалок с головы, положила его на колени, начала:
– Погостили оне у Татьяны с Виктором хорошо, – она деловито, фасонисто провела указательным и большим пальцем по уголкам рта, продолжив: – С внуками понянчились. Ляксандр уж большой, два года через месяц будет, уж все говорит и стишки рассказыват. Маленькая Таня – внучка им, правнучка моя – во второй класс ходит, учится хорошо, на одни пятёрки – вся в меня, вострая умом. Мне б один годок в школу походить, я б уж точно продавцом в сельпо могла робить. Да тятя в школу меня не отпустил – четверёх братьев надо было учить, а на меня уж средств не хватило, да и маме по дому помогать надо было. Я, как и ты, Ялена, только расписываться и умею… одну букву сы и знаю, как писать… Нет, вру, букву а я сама, ещё до замужества научилась. А вот расписываться муж меня научил. Каку гумажку подписать – сы напишу да кренделек приделаю. Это все меня покойный Степан учил: пиши, говорит, после буквы крендель, а я ему – да не умею я. А он: стряпать же умеешь, так и карандашом на гумаге пиши. Так и научил расписываться, царство ему небесное!
«Рассказыват, будто я этого не знаю, – возмущалось всё внутри Елены. – Уж, поди, и забыла старая карга, о чем и рассказать собиралась… Будто я не знаю, как её, бестолковую, учил Степан. Сроду она така была – только бы похвалиться, только бы пояниться…»
– Анна ситцу мне да себе на платья купила… Потом как-нибудь, когда Анны дома не будет, покажу. Тебе она на день рождения платок купила, но не вздумай выдать, что я сказала. Вот колеса к мотоциклу не купили. Дих… дих… дихицит! – попыталась сказать культурное городское слово, услышанное от внуков, Аксинья, но не получилось у неё по-культурному, поэтому она проговорила по-обыкновенному, слегка замешкавшись и покосившись на Фроловну – не догадалась ли та о её конфузе – нетуть их и тама.
Но Фроловна на это «дих-дих» подумала, что в горле у Аксиньи запершило, но как-то чудно першило, по-городскому, видать. Ох, уж эта Аксинья – в город зять с дочерью ездили, а заподкашливала по-городскому она!
– С неделю оне гостевали в Новосибирске. Я им так и наказывала, чтобы погостили – в огороде всё убрано, только капуста осталась, ну так ей до заморозков сидеть; корову Саулиха подоит; печь в доме топить ещё не надо, – гостите! Вот с неделю оне тама и побыли. Взяли билет на ляктричку – и домой. Едут, чё не ехать: сиди да в окошечко поглядывай – и вожжой шевелить не надо. Поезд энтот останавливатся, где ему положено, люди выходят и входят, как и положено.
На станции Каргат Миколай говорит Анне – мол, выйду, свежим воздухом подышу. Выйди, подыши, чё не подышат, другие ж культурные люди дышат – и ты сходи. Вышел… нет и нет его, вот уж и отправление поезда объявляют. Тронулись. Анна в рёв: старик мой пропал, ой-ё-ё! Все подходят, смотрят: старуха белугой ревёт, старика потеряла, а помочь никто ничем не может. Потом уж проводница подошла, расспросила, что да как, успокоила: мол, по своей связи передадим в милицию, в Каргат, не волнуйтесь, бабушка, найдут вашего старика.
Приехала Анна в Барабинск. Автобус деревенский подошел, Анна села, приехала в Зюзю, домой. Я вот так же на крылечке сижу, гляжу: идёт Анна, одна идёт, вся урёвана. Спрашиваю: «А Миколай-то где?» – «Потеряла» – говорит. «Как потеряла? Он что, копейка, что ли?!» – «Ой, мать, не спрашивай…» А у самой концы платка мокрешёньки, хоть выжимай.
Как села она у окна, так и просидела до вечера, словно девка на выданье, прынца своего выглядывая; и свет в избе не зажгла, и задергашки на окнах не задёрнула – до тех пор сидела, пока кум Константин не подъехал. Глядим, из машины Миколай выходит – живой, здоровый, но какой-то сумрачный, маненько не в духе. Свет-то от фонаря на столбе прямо на него падал, вот мы и рассмотрели. Константин-то чайку выпил – и назад домой, завтра ему на работу.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Другие электронные книги автора Лидия Петровна Салохидинова
Фотография




 4.67
4.67