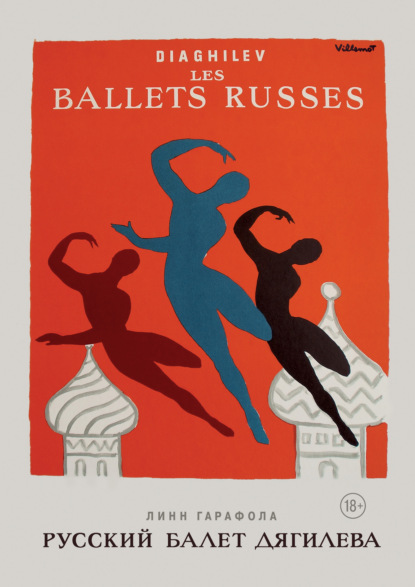По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русский балет Дягилева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Музыка, однако, не была единственной сферой, в которой политика Мамонтова оказалась своеобразным прецедентом для Русского балета. Художники собирались в Абрамцеве на протяжении более двадцати лет, и с самого начала Мамонтов ориентировал их таланты на театральное дело. Цикл опер, поставленный его труппой в конце 1890-х годов, представлял целую плеяду художников из числа будущих сотрудников Дягилева. Крупнейшими из них были Константин Коровин, главный театральный художник Мамонтова, Александр Головин, Валентин Серов[55 - Среди художников, открытых Мамонтовым и прославленных «Миром искусства», был и Михаил Врубель, но душевная болезнь помешала ему принять участие в деятельности дягилевской антрепризы.]. Подобно передвижникам, они избрали предметом своего искусства темы русской жизни и российского прошлого. Но, в отличие от предшественников-реалистов, они окружили этот материал аурой красоты, столь чуждой утилитаристскому духу прошлого поколения. Открытые западным веяниям, они использовали новые приемы, наполняли композиции движением и воплощали сюжеты с виртуозной техникой живописи и богатством цвета. В период с 1896 и до 1899 года, когда Мамонтов оказался под следствием по обвинению в растрате, его студия создала декорации и костюмы для более десятка опер. Несмотря на то что работы числились за отдельными художниками – Коровин был автором «Садко», Серов – «Юдифи», Михаил Врубель – «Моцарта и Сальери», – в действительности они были плодом совместного творчества. Речь идет не только об интенсивном взаимном обмене идеями: часто некоторые художники выступали как в качестве авторов эскизов (к примеру, Врубель создал костюм морской царевны для «Садко»), так и в роли мастеров, писавших декорации: позднее их стали отдельно обозначать в афишах. Такой метод совместной работы, как и практику использования художников-станковистов вместо профессиональных декораторов, Дягилев стал применять с первых дней.
Кроме того что работа Коровина, Головина и Серова предопределила подход Дягилева к технической стороне постановки, она также привнесла в его антрепризу русский дух. В 1908–1910 годах эти трое подготовили декорации, а в некоторых случаях и костюмы, для спектаклей «Борис Годунов» (Головин), «Пир» (Коровин), «Юдифь» (Серов), «Иван Грозный» (Головин), «Руслан и Людмила» (Коровин), «Ориенталии» (Коровин) и «Жар-птица» (Головин). В 1911 году Серов также создал просцениумный занавес в духе персидских миниатюр, который сопровождал увертюру Римского-Корсакова к «Шехеразаде», а двумя годами позже Головин оформил возобновление «Ивана Грозного». Все эти усилия были логическим продолжением неонационалистских настроений, шедших из Абрамцева, и стали точкой сближения со сходно мыслящими художниками из Петербурга – Билибиным, Стеллецким, Рерихом, Бакстом и Бенуа, – также участвовавшими в некоторых из постановок. Тем не менее «русскость» с самого начала не поддавалась строгому определению: она имела оттенок ориентализма, который был общим знаменателем для России и Востока в понимании Парижа. Даже в Абрамцеве между национальным материалом и экзотикой проходила очень тонкая грань. Действительно, для самых разных художников России конца XIX века Россия и Восток представлялись в воображении чем-то сходным. Для империи, через которую тянулась Транссибирская железная дорога и на чьей земле были Бухара, среднеазиатский священный город мусульман, Бахчисарай и Одесса, «иным» в культурном отношении был скорее не Восток, а Запад. Формирование представления о России как исторически и этнически незападной стране, ставшее ключевым элементом в идеологии довоенной дягилевской антрепризы, было еще одним из проявлений наследия Мамонтова[56 - О деятельности Мамонтова см.: Stuart Ralph Grover, “Savva Mamontov and the Mamontov Circle: 1870–1905 Art Patronage and the Rise of Nationalism in Russian Art”, Diss. Wisconsin 1971, chaps. 3 and 4; John E. Bowlt, The Silver Age: Russian Art of the Early Twentieth Century and the “World of Art” Group (Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners, 1979), pp. 30–39. О княгине Тенишевой см.: Bowlt, pp. 39–46, 180 (о курировании ее коллекции Бенуа), and р. 234 (о пребывании Билибина в ее школе). Некоторое представление о многоэтническом составе России можно получить из: Chloe Obolensky, The Russian Empire: A Portrait in Photographs, introd. Max Hayward (New York: Random House, 1979) и Photographs for the Tsar: The Pioneering Color Photography of Sergei Mikhailovich Prokudin – Gorskii Commissioned by Tsar Nicholas II, ed. and introd. Robert H. Allshouse (New York: Dial, 1980).].
Для Льва Бакста и Александра Бенуа, ведущих творческих фигур у Дягилева в предвоенный период, приверженность русской национальной тематике не была первостепенной. Они отвергали славянское наполнение неонационализма, сохраняя присущий ему эмпирический и исторический метод.
В случае с Бакстом его связь с передвижниками очевидна. Она возникла в середине 1880-х годов, когда, будучи студентом Петербургской академии художеств, он познакомился с Михаилом Нестеровым, Виктором Васнецовым и Валентином Серовым, художниками круга Абрамцева. Серов, который некоторое время учился в академии у Репина, стал близким другом Бакста. Работы последнего, выполненные в конце 1880-х – начале 1890-х, с такими названиями, как «Пьяный факельщик» («Бредущий с похорон»), «Отчаяние» («Самоубийца»), «Супруги» («Мезальянс»), продолжали передвижническую традицию верности социальной правде, совмещая в себе реалистическое изображение действительности с интересом к наиболее мрачным ее сторонам. В 1890-е годы Бакст постепенно отходил от этой эстетики. В этом, в частности, проявилось его знание новых тенденций в живописи, приобретенное в Париже, куда он часто ездил и где периодически жил до 1899 года. Не меньшее значение имел его возросший интерес к природе. Как Фокин несколько позднее, Бакст в это переходное для него десятилетие покинул студию, рисуя пейзажи с натуры, делая наброски сцен деревенской жизни или запечатлевая изменяющиеся картины неба, а также написал первые из целой серии замечательных портретов. В 1897 году, застав свою возлюбленную в объятиях другого, он уехал в Северную Африку, и это путешествие обозначило для него начало увлечения Ближним Востоком, колыбелью ориентализма, столь ярко представленного в его работах для Русского балета. Поездка десять лет спустя в Грецию и знакомство с греческой, арабской и тюркской культурами произвели на него столь же неизгладимое впечатление.
Тем не менее, как и у Фокина, в основе бакстовского воображения лежал интеллектуальный акт – историческая реконструкция времени и места. Задолго до того как он получил свой первый заказ у Дягилева, он применил свои энциклопедические знания об искусстве прошлого при создании более чем полудюжины постановок, главным образом в Императорских театрах. Работая над «Сердцем маркизы» (1902), своим первым театральным опытом, и «Феей кукол» (1903), он вдохновлялся европейскими стилями XIX века, в частности немецким стилем бидермейер, к которому обратился также в «Карнавале» (1910), «Видении Розы» (1911) и «Бабочках» (1914). При постановке «Ипполита» (1902), «Эдипа в Колоне» (1904) и «Антигоны» (1904), аттических трагедий или пьес на их основе, он не стал дополнять современные костюмы греческими деталями, что было тогда распространено в театральной практике, а вместо этого предложил реконструировать классические древнегреческие костюмы, как делал и позже – в балетах «Нарцисс» (1911), «Дафнис и Хлоя» (1912), «Послеполуденный отдых фавна» (1912). Его костюмы для «Саломеи» (1908) в исполнении Иды Рубинштейн были созданы в восточном духе, предвосхищая экзотику «Клеопатры» (1909), «Шехеразады» (1910), «Тамары» (1912) и «Легенды об Иосифе (1914). Как отмечал Чарльз Майер, в основе всех этих постановок лежали глубокие знания из разных сфер художественной культуры, обогащенные и личными наблюдениями – как те, которые художник приобрел в 1912 году за несколько недель пребывания на Кавказе, когда готовился к постановке «Тамары»[57 - Детальный анализ европейских, греческих и восточных балетов Бакста представлен: Charles Steven Mayer, “The Theatrical Designs of Leon Bakst”, Diss. Columbia 1977, chaps. 2–4. Биографические данные взяты из главы 1 данной работы.]. Такое углубленное погружение в историю диктовалось не теоретическими устремлениями. Для Бакста, как и для Фокина, изображение реальности в свете вновь обретенного знания, а не в духе общепринятых условностей было актом нововведения и освобождения. Натурализм, очищенный от его прогрессистской идеологии, был шагом вперед, способом увидеть нечто радикально новое. Как и другие художники с периферии Европы, Бакст открыл для себя подлинную реальность намного позже, чем представители парижского центра.
Что касается Александра Бенуа, то он руководствовался в творчестве сходными убеждениями. Однако истоки стремления Бенуа, сына Петербурга и внука Парижа, к аутентичности лежали в более глубоком прошлом. В центре его одержимости прошлым были три исторических момента: grand si?cle[58 - Великий век (франц.). – Примеч. пер.] Версаля, воплощение французской цивилизации эпохи классицизма; Петербург времен Петра, истинно римская экспансия на болотистые северные земли, осуществленная актом колоссальной воли; и готическая Центральная Европа, выписанная в сказках Гофмана. Для Бенуа искусство представляло собой акт, посредством которого настоящее осознает необходимость оживления прошлого. Он с маниакальным усердием рисовал Версаль и Петербург, словно мог, воссоздавая их памятники, воскресить породившие их цивилизации – но понимал, что картины, выражающие тоску по этим цивилизациям, лишь свидетельствуют об их гибели. Уже в самых первых театральных работах Бенуа прослеживается влияние его серьезных увлечений. В «Мести Купидона», поставленной в Эрмитажном театре одноактной опере, где Бенуа дебютировал в качестве театрального художника, он опирался на свое убедительное знание XVIII века. В показанной в 1903 году Мариинским театром «Гибели богов» он обращался к средневековому космосу вагнеровской древнегерманской мифологии. А когда в 1907 году Николай Дризен и Николай Евреинов выразили желание воссоздать театральные формы Средневековья и испанского золотого века, именно Бенуа выступал в качестве художественного и исторического консультанта их Старинного театра. В его трудах – как научных, так и публицистических, – равно как и в томах его выдающихся воспоминаний, память выступает объектом глубокого поклонения. Обрисованные в деталях события прошлого отправляют читателя в путешествие назад во времени. Весьма типично то, что журнал, который Бенуа издавал в 1907–1916 годах, носил почти прустовское название – «Старые годы»[59 - Среди опубликованных книг Бенуа были: Reminiscences of the Russian Ballet, trans. Mary Britnieva (London: Putnam, 1941); Memoirs, I, trans. Moura Budberg (London: Chatto and Windus, 1960); Memoirs, II, trans. Moura Budberg (London: Chatto and Windus, 1964). Образцы его журнальных «мемуаров» приведены в: Roland John Wiley, ed. and trans., “Benois and Butter Week Fair”, “Benois and Butter Week Fair Part II”, “The Diaghilev Exhibition”, Parts I, II, III, Dancing Times, April – August 1984. Биографический материал см.: Bowlt’s Silver Age, глава 10, и глава о Бенуа в его же Russian Stage Design: Scenic Innovation, 1900–1930 (Jackson, Miss.: Mississippi Museum of Art, 1981). Другими художниками, связанными с кругом Дягилева, кто оформлял спектакли Старинного театра, были Билибин, Рерих и Добужинский. Александр Санин, ставший постановщиком большинства опер у Дягилева, был одним из режиссеров театра, а Фокин отвечал за хореографию. Он поставил в том числе танцы для «Игры о Робине и Марион», пасторали XIII в. Адама де ла Аля. Spencer Golub, Evreinov: The Theatre of Paradox and Transformation (Ann Arbor, Mich.: UMI Research Press, 1984), pp. 110–120.].
Бенуа, будучи пассеистом, нашел в лице романтика Фокина идеального товарища по работе. Хореограф писал об их первой встрече осенью 1907 года, которая привела в итоге к созданию «Павильона Армиды»:
Мы говорили о том, что нас обоих волнует, увлекает. Ушли в волшебный мир, в сады очаровательной Армиды. С первой встречи обозначилось то взаимопонимание, которое привело к стольким художественным радостям, к стольким победам.
Бенуа повел меня на мост под самый потолок. Голова кружилась и от высоты, и от радости. Под ногами у меня расстилалась декорация – роскошный павильон Армиды. Счастливый момент![60 - Фокин M. Против течения… С. 184.]
«Павильон Армиды» с оформлением в стиле рококо был по сердцу художнику. Он бесконечно суетился над костюмами а-ля Людовик XIV, подолгу подбирая цвета для тесьмы или кружевные вставки: успех работы в его понимании был неразрывно связан с воссозданием исторического колорита. Менее чем через четыре месяца Фокин и Бенуа работали вместе над постановкой Bal poudrе, пантомимой в стиле арлекинады XVII века. За «Шопенианой» 1909 года, вызвавшей у них равный эмоциональный подъем, в 1911-м последовал «Петрушка», их четвертая совместная работа – и вторая постановка на тему комедии дель арте. Наполненные прустовскими деталями, оба балета в поисках утраченной чистоты взывали к прошлому: первый – посредством романтических литографий, второй – через призму воспоминаний. Как и Бакст, Бенуа видел в верности образам эпохи способ передачи эмоциональной и поэтической правды.
Защита Фокиным сценического реализма оказалась глубоко созвучной историческим устремлениям художников круга «Мира искусства». Более того, она, безусловно, ставила его работу в один ряд с новаторскими начинаниями в драматическом театре, и прежде всего с реформами Константина Станиславского в Московском Художественном театре. В «Русском театре от Империи до Советов» Марк Слоним говорит об «археологически-историческом реализме», ставшем известным благодаря прославленной труппе Станиславского, «одной из наиболее важных тенденций» из тех, что способствовали изменениям в русской театральной жизни начала XX столетия:
Станиславский применял один и тот же метод исследования и реконструкции во всех исторических пьесах, будь то «Венецианский купец» или «Юлий Цезарь». При постановке последней он поехал вместе с актерами в Рим и позже воссоздал на московской сцене узкие улочки, Форум и живописную южную толпу города Цезаря. Такое же путешествие труппа совершила на Кипр, когда готовилась к постановке «Отелло». Чтобы публика могла осознать, насколько серьезной была подготовительная работа, показ новых спектаклей сопровождался соответствующими выставками. Так, зрители, пришедшие на «Юлия Цезаря», могли ознакомиться в фойе с русскими переводами Шекспира и увидеть подлинные предметы римской эпохи – монеты, оружие, а также картины и гравюры[61 - Marc Slonim, Russian Theater From the Empire to the Soviets (Cleveland: World Publishing, 1961), p. 116.].
Как и Фокин, Станиславский рассматривал стиль как создание исторической иллюзии, основанной на прямом наблюдении реальности, совмещенном с исторической реконструкцией.
Первый петербургский сезон Московского Художественного театра, основанного в 1898 году, состоялся тремя годами позже. Фокин был среди публики[62 - Слонимский Ю. С. Фокин и его время. С. 23.]. Таким образом, он открыл для себя ранние постановки Станиславского именно в ту пору, когда происходило его художественное становление и когда ему нужно было, по его собственному убеждению, искать новые способы творческой самореализации. Семья Фокина также была связана с театром. Его брат Владимир стал известным актером; другой брат, Александр, организовал Троицкий театр миниатюр (в котором его жена, солистка Мариинского театра Александра Федорова, появлялась как прима-балерина)[63 - «Театры миниатюр», известные также как «театры малых форм», были заметным явлением в петербургской жизни до Первой мировой войны. Созданные по типу мюнхенских, берлинских и парижских артистических кабаре, по большей части эти театры тяготели к сатире и чередованию разнохарактерных номеров: поэтических декламаций, эксцентрики, пародий, скетчей, цыганских романсов и т. д. Танцы также постоянно присутствовали в них. В «Кривом зеркале» Николая Евреинова, наиболее известном из этих театров, «публика смеялась до слез» над пародиями на балеты «Жизель», «Лебединое озеро» и «Эсмеральда». Другими объектами сатиры «Кривого зеркала» были Айседора Дункан и Мод Аллан в исполнении «примы-балерины» труппы Николая Барабарова. Golub, Evreinov, pp. 149–151.]. Хотя Фокин не упоминает об этом, эпохальные постановки Станиславским пьес Ибсена и Чехова определенно оставили след в его юношеском воображении. Свойственные им артистизм и убедительное воспроизведение времени и места, должно быть, внушили ему представление о будущих возможностях, о той силе воздействия, которой может обладать искусство в его высшей форме. Эти постановки продемонстрировали образцы стилистического единства, построения драматического действия и психологической достоверности, нашедших отражение в раннем творчестве Фокина.
Между труппой Дягилева и Московским Художественным театром существовало множество связей, о которых редко упоминают в исследованиях по истории Русского балета.
Бенуа «любил наш театр, знал его», – писал Владимир Немирович-Данченко, вместе со Станиславским основавший знаменитую труппу. В 1909 году, на высшей точке сотрудничества с Дягилевым, Бенуа вступил в тесный союз со Станиславским, став художником и сорежиссером его театра. Он сыграл заметную роль в полемике, которая разразилась в 1910 году вокруг постановки «Братьев Карамазовых» Немировича-Данченко, и, по распоряжению Станиславского, участвовал в составлении открытого ответного письма наиболее суровому критику пьесы – Максиму Горькому. Два года спустя Бенуа присоединился к труппе не только в качестве художника, но и – в ряде случаев – сопостановщика[64 - Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма / Сост., вступ. ст. и коммент. М. Н. Любомудрова. М.: Правда, 1989. С. 218. Bowlt, Russian Stage Design, p. 83; Benois, Reminiscences, pp. 348, 349, 353. Бенуа датирует начало его работы с труппой 1912 г. Его роль в «Карамазовых» дает основание верить дате, указанной у Боулта, – 1909.].
Другой фигурой на пересечении интересов этих двух трупп был Александр Санин, покинувший Художественный театр в 1902 году. Санин был штатным режиссером Александринского театра и стал одним из первых, кто в Императорских театрах признал талант Фокина. В 1905 году, увидев балет «Ацис и Галатея», он попросил хореографа поставить танец шутов для драмы Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного», но эта просьба была отклонена Александром Крупенским: тот сказал Санину, что «не имеет права помимо конторы выбирать себе сотрудников»[65 - Фокин М. Против течения… С. 165.]. Санин в гневе покинул Александринский театр. Тем не менее в 1908 году Дягилев пригласил его руководить постановкой «Бориса Годунова», а еще через год – ставить для Парижа оперы «Иван Грозный», «Руслан и Людмила», «Юдифь», «Князь Игорь». В 1913 и 1914 годах, вновь обратившись к постановке опер, Дягилев снова позвал Санина, который подготовил спектакли «Борис Годунов», «Хованщина» и «Соловей» (последний вместе с Бенуа)[66 - В отличие от французских рецензентов, британские обозреватели не имели обыкновения указывать имена оперных режиссеров. Поэтому довольно трудно установить, кто в 1914 г. был постановщиком «Ивана Грозного» и «Майской ночи», показанных только в Лондоне. Поскольку Санин был автором версии «Ивана Грозного» 1909 г., то допустимо предположить, что он выступил постановщиком и в 1914 г. Принимая во внимание то, что он работал для Дягилева в соответствующий период, весьма вероятно, что он поставил и «Майскую ночь».].
Еще одним человеком на пересечении был Савва Мамонтов, чья жажда деятельности после возвращения из долговой тюрьмы – в отличие от его состояния – нисколько не уменьшилась. В 1905 году он объединил свои силы со Станиславским, став содиректором Театра-Студии, экспериментальной труппы, существовавшей при Московском Художественном театре. Под руководством Мамонтова к сотрудничеству с театром были привлечены художники, приверженные новым направлениям, – в частности, Николай Сапунов и Сергей Судейкин, ученики Коровина и Серова, присоединившихся к кругу мирискусников. В 1906 году Дягилев пригласил Судейкина в Париж в связи с организованной им в Осеннем салоне выставкой русской живописи. Через семь лет Судейкин оформил спектакль «Трагедия Саломеи» для Русского балета. Еще одним художником, близким к кругу мирискусников, который работал для труппы Дягилева после сотрудничества со Станиславским, был Мстислав Добужинский. В 1906 году он оформил «Горе от ума» для Художественного театра, а тремя годами позднее в постановке «Месяц в деревне» обратился к стилю бидермейер, который столь успешно будет использован Бакстом год спустя в постановке «Карнавала». (Влияние это не было полностью односторонним: так, Станиславский перенес действие пьесы Герхарта Гауптмана «Шлюк и Яу», поставленной в Театре-Студии в 1905 году, из средневековой Силезии во времена париков Людовика XIV – после того как посетил великолепную выставку портретов XVIII века, организованную Дягилевым в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге[67 - Edward Braun, The Theatre of Meyerhold: Revolution on the Modern Stage (New York: Drama Book Specialists, 1979), p. 44.].)
Воздействие Художественного театра распространилось и на балет. В Большом театре влияние Станиславского имело значительные последствия, и началось оно почти одновременно с созданием Художественного театра в 1898 году – в тот год, когда из Мариинского театра пришел характерный танцовщик и подающий надежды хореограф Александр Горский. Возобновление им «Дон Кихота» в 1900 году было «не менее чем революционной реформой в балете», как писала историк балета Наталья Рославлева:
Влияние Художественного театра было особенно заметным в первом акте старого балета Минкуса. Вместо застывших линий кордебалета там появилась живая толпа людей, которые двигались и смеялись, продавая свои товары на базарной площади. Вместо традиционно-условных костюмов появились настоящие испанские платья[68 - Natalia Roslavleva, “Stanislavsky and the Ballet”, introd. Robert Lewis, Dance Perspectives, 23 (1965), p. 23.].
Горский сформировал целое созвездие танцовщиков-актеров: Михаил Мордкин, Федор Козлов, Александр Волинин, Лаврентий Новиков, – все они впоследствии танцевали у Дягилева. Его открытием стала Софья Федорова, непревзойденная в главной роли половецкой девушки у Фокина. Станиславский, в свою очередь, приглашал Мордкина, чтобы тот обучал его актеров выразительной пластике.
Наряду со сценическим реализмом работа Фокина воплощала еще один принцип Художественного театра: отношение к ансамблю как к живому коллективу. «Новый балет… идет вперед, – говорил он в письме в лондонский “Таймс” в 1914 году, – от выразительности лица к выразительности всего тела, от выразительности индивидуального тела к выразительности группы тел и выразительности массового танца всей толпы»[69 - Фокин M. Новый балет (письмо в Times от 6 июля 1914 г.) // Против течения… С. 353. Это письмо-манифест также опубликовано в: Beaumont, Fokine, Appendix A(b), pp. 144–147.]. Слово «толпа» здесь – ключ к пониманию его формального метода и освободительного видения, пронизывавшего его работу. Устранив диагональные и прямоугольные построения, типичные для Петипа, Фокин превратил кордебалет в то, что критик Валериан Светлов назвал «собирательным артистом, проникнутым идеей и стилем постановки, живущим внутри ее и в ней взаимодействующим»[70 - Valerian Svetlov, “The Diaghilev Ballet in Paris”, Dancing Times, December 1929, p. 264.]. В балетах Петипа кордебалет служил окружением балерины, помещая ее в рамки столь же четкие, как этикет Императорского двора; она так же всецело руководила сценой, как царь – подданными. Вокруг нее, в порядке возрастания значимости, располагались танцовщики менее высоких рангов: корифеи – группами по восемь человек; деми-корифеи – по четверо; деми-солисты – в парах; солистки и первые танцовщицы – в менее крупных ролях. В ирреальных сценах-видениях из «Баядерки» или «Спящей красавицы» расположение танцовщиков на сцене отражало существовавшую в Мариинском театре служебную иерархию.
В противовес этому, Фокин отменил всевозможные привилегии и внешние проявления рангов. В его работах балерина перестала существовать обособленно и стала сливаться со своим новым, демократизированным окружением. Даже в «Шопениане», напоминавшей о классических структурах «Жизели» и «Лебединого озера», он объединял солистов и ансамбль, позволяя солистам лишь временами – и недолго – проявлять себя на сцене индивидуально. В то же время он разбил имперские прямолинейные массовые построения Петипа, заменив их небольшими асимметричными группами, которые, перемещаясь, образовывали постоянно изменяющиеся узоры. Отмена градаций, произведенная Фокиным, имела, таким образом, два следствия: свергнув с престола королеву в «пчелином улье» Петипа, он наделил человеческими чертами «трутней», которые существовали вокруг нее.
Фокинский «освобожденный» ансамбль появился в его работах довольно рано и затем часто возникал вновь. В «Виноградной лозе» завсегдатаи кабачка и вина, которые они пили, появлялись в едином танце в финальной вакхической сцене. Эта концовка, вариант традиционной коды, стала прототипом той бешеной, бесшабашной толпы, которая бросала в восторженную дрожь зрителей довоенных фокинских постановок. По поводу «шокирующей брутальности» «Шехеразады» Арнольд Беннетт писал:
Ужас. В ошеломляющем великолепии Русского балета публика видела евнухов за работой, с турецкими ятаганами в руках. За безумной оргией последовало варварское наказание, ужасное и отталкивающее; безусловно, это был один из кровавейших эпизодов, когда-либо показанных на западной сцене. Евнухи в бешенстве преследовали хрупких и прекрасных одалисок; в одно мгновение сераль был полон телами зарубленных девушек, лежащими в самых уродливых позах смерти. И затем наступала тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием палачей[71 - Arnold Bennett, “Russian Imperial Ballet at the Opera”, Paris Nights and Other Impressions of Places and People (New York: George H. Doran, 1913), pp. 76, 77.].
Толпа притягивала Фокина как средство противостояния сценической и социальной иерархии балета. Привлекали его и свойственная толпе изменчивость, заложенная в ней склонность к жестокости, выходящая за пределы эмоциональность, способность толпы к совместным действиям и чувствам. «В каждом почти балете М. М. Фокина, – писал Андрей Левинсон, – есть момент, когда все участвующие, без различия их предшествующей хореографической роли, берутся за руки и образуют длинную цепь… которая свертывается в концентрические круги и несется в темпах, все более ускоряющихся»[72 - Левинсон А. Старый и новый балет. Петроград: Свободное искусство, 1917. С. 65.]. Смерть Амуна в «Клеопатре» происходит в ходе жестокой оргии, где толпа превращается в единую извивающуюся массу. Разгул, предшествующий финальной бойне в «Шехеразаде», происходит в той же конвульсивной форме. Левинсон пишет:
И начинается тайный пир. Высоко держа над головами блюда с нагроможденными плодами, вбегают… огибая сцену широкой дугой, пестрые индусские юноши-слуги, за ними, одна за другой, непрерывной цепью следуют розовые альмеи в темно-красных чадрах, за ними зеленые – и вскоре вся сцена охвачена вихрем всеобщего хоровода, сплетающегося во все мыслимые фигуры, точно извилистая геральдическая змея[73 - Там же. С. 26.].
В картинах стихии, необузданной, внезапным хаосом обрушивающейся на размеренную жизнь общества, Левинсон усматривает определенный подтекст этих конвульсивных оргий, которые лишь в редких случаях имеют эротический смысл. Фокинская толпа воспроизводит пароксизмы самой революции: буйство вырвавшихся на свободу масс, опьянение кровью, триумф инстинкта над разумом, освобождение индивида через коллективное действие. В отличие от Левинсона, который с недоверием относился к любым изменениям, Фокин приветствовал борьбу старого и нового: революция разрушила многое, но многое и создала. Наследие 1905 года, таким образом, не сводилось к рождению Фокина как хореографа или формированию группы его художественных последователей. Оно определило самую ткань его работ. Основываясь на принципе сценического реализма, прославленного Московским Художественным театром, он показал живую толпу как срез политической жизни общества: дух 1905 года продолжал существовать на сцене.
То, насколько Фокин был обязан Станиславскому, заметнее всего в «Петрушке» – возможно, его лучшей работе для Русского балета. В этой постановке он изобразил масленичные гулянья в Петербурге 1830-х годов со всем богатством деталей и верностью эталону прославленной толпы Станиславского в Художественном театре. Создавая это живое социальное единство, Фокин прежде всего стремился сделать незаметным участие постановщика:
Я хотел, чтобы все танцующие на масленичном гулянье танцевали весело, свободно, как будто никто им танцев не сочинял и не ставил, как будто они сами от избытка чувств и веселья пускаются в пляс, кому как бог на душу положит. Словом, чтобы ничего и не намекало на существование балетмейстера[74 - Фокин М. Против течения… С. 286.].
Фокин работал со своим материалом, как импрессионист, смешивая тональности движения, затем задерживал взгляд зрителя на неожиданном прыжке или жесте, который почти сразу же растворялся в общей массе. Описание Левинсоном четвертой картины передает сменяющийся поток образов, которые делают толпу столь живой и убедительной для русского зрителя 1911 года:
Тем временем на площади клубится праздничный угар, плывут, разводя руками и помавая ладонями, раскрасавицы «кормилицы» в сарафанах и кокошниках, лихо стучат каблуками ямщики в цветных поддевках, с галунами на шляпах, несутся вприсядку бойкие парнишки, ряженые со страшными рожами вмешиваются в толпу, между тем как барыни, сопровождаемые статными офицерами в треуголках и шинелях и франтами в бекешах, брезгливо рассматривают в лорнеты грубые увеселения простонародья[75 - Левинсон А. Старый и новый балет. С. 44, 45.].
Натурализм простирался далеко за пределы того, как Фокин распоряжался массами на сцене. Его живая толпа была прежде всего собранием личностей – кучеров, цыган, уличных торговцев, кормилиц, шарманщиков, скоморохов, – которые выходили на сцену со своими биографиями и полно очерченной индивидуальностью. Партитура «Петрушки» – второго произведения, написанного Стравинским для Русского балета, – содержала темы для десятков характеров. Костюмы Бенуа соответствовали этому музыкальному разнообразию. Он прилежно изучил моду 1830–1840-х годов, создав более сотни костюмов представителей разных социальных слоев. Его декорации были также полны реалистических деталей: карусель, прилавки с пряниками, стол с кипящим самоваром… На репетициях Фокин работал вместе с Бенуа, который подсказал ему множество реалистических деталей, благодаря которым толпа не выглядела безликой массой, а представляла собой собрание разноликих персонажей.
Подобная индивидуализация, неотъемлемая часть фокинского метода, наводит на мысль о другой параллели со Станиславским, чей театр славился как реалистической игрой актеров, так и своим ансамблем. Фокин устранил то, что Осип Мандельштам назвал «смородинными улыбками балерин» и «растительным послушанием кордебалета»[76 - Мандельштам О. Египетская марка. М.: Панорама, 1991. (Репринтное воспроизведение издания 1928 года.) С. 45.]. Он придал человеческие, индивидуальные черты каждому из танцовщиков, превращая его в актера и назначая ему свою роль в обширной драме. В отличие от своих последователей, представителей неоклассической хореографии, Фокин был уверен, что движения сами по себе не передают сюжет. Он чувствовал, что движение выразительно лишь в той степени, в какой оно схватывает эмоциональную и психологическую правду и близко к естественности. В своем письме 1914 года в «Таймс» он назвал вторым «правилом» нового балета необходимость драматической обоснованности танца и мимики – одно из фундаментальных положений теории актерской игры Станиславского. В отличие от пантомимы, у Фокина «жизненные жесты» рук представляли собой «не замены слова, а дополнения к слову», продолжение естественных жестов, которые позволяют «услышать» то, что не было произнесено вслух. В то же самое время, распространяя понятие жестикуляции на любое движение, Фокин провозглашал «мимику всего тела»: «Человек может и должен быть выразительным весь, с ног до головы»[77 - Фокин М. Новый балет // Против течения… С. 243, 352.].
Драматический реализм предполагал новый подход к изображению характера. Заботясь о содержании прежде, чем о форме, он ставил смысл выше метафор движения; воспроизводя характер, реализм предпочитал народные говоры кодифицированному языку научных кругов. В «Петрушке» психологическая сторона определяла пластическую образность: наивный и бесхитростный герой, интроверт, предстает «невыворотным», завернутым вовнутрь; ярко размалеванный Арап, экстраверт, – «выворотным»; Балерина, кокетливая пустоголовая Коломбина, вышагивает на пуантах, как механическая кукла. Актерская игра также отражала новую «мимику», и нет ничего удивительного в том, что фокинские танцовщики наполняли балеты той же самой жизненной силой, которую их коллеги из Художественного театра привносили в постановки Ибсена и Чехова. Из всех танцовщиков, работавших с Фокиным, его идеалу наиболее соответствовала Павлова. Она говорила критику Валериану Светлову:
За рубежом говорили, что в моем танце было «что-то оригинальное». Единственное, что я делала, – это пыталась подчинять движения тела психологическому замыслу: техническую сторону танца – я имею в виду танец per se[78 - Сам по себе, как таковой (лат.). – Примеч. пер.] – я постаралась окутать духом поэзии, очарование которой могло бы завуалировать механику движений. Когда я танцую, я часто импровизирую, особенно когда роль увлекает и вдохновляет меня. Я беру из хореографической палитры любую краску, которая соответствует ходу моего воображения, и стараюсь довести любую мелочь до совершенства. Только так я могу создать впечатление, которое зрителю покажется новым. Насколько я знаю, в этом единственный секрет моего искусства[79 - Valerian Svetlov, Anna Pavlova, trans. A. Grey (Paris, 1922; rpt. New York: Dover, 1974), p. 156.].
Безусловно, натурализм был лишь одним из средств в арсенале Фокина, направленном против балетного театра XIX века. Но по целому ряду причин он занимает в нем почетное место. Будучи центральным принципом фокинской реформы, натурализм открывал классическому танцу широкий простор для смелых экспериментов. В то же время он создавал близость между балетом и бунтарскими движениями в драме, музыке и живописи. Наконец, он обозначил веху той либеральной позиции, которую Фокин считал близкой ему по духу и стимулирующей воображение.
Несмотря на это, с самого начала натурализм находился в связи с эстетикой, которая во всей остальной Европе шла ему на смену. Символизм поздно пришел в Россию, и еще позже – в российский театр. Позднее всего он пришел в балет. Однако каким бы поздним ни было его появление, оно оказало определяющее и устойчивое влияние на творчество Фокина. Символизм предлагал широкий спектр идей: темы мятущейся личности и комедии дель арте, возрождение интереса к синтезу искусств, акцент на субъективное восприятие художника; культ красоты, увлечение эротизмом, мироощущение в духе метафизики идеализма. Провозглашенные модернизмом, эти идеи рубежа веков связывали творчество Фокина с течениями в других видах искусства, которые стремились скорее преобразить реальность, чем описать ее буквально, и с экспериментами его последователей в хореографии, которые позднее завершили модернистскую революцию, инициированную им, и даже вышли за ее рамки. Наконец, символизм Фокина подготовил идеологическую почву: он выдвинул идеал индивидуализма, выступивший антитезисом общественно-групповому тезису натурализма.
Как уже было сказано, Фокин до 1907 года не имел тесных контактов с «Миром искусства». Конечно, он знал о его существовании и посетил некоторые из его выставок; по его собственному свидетельству, одноименный журнал также был ему знаком. Однако мирискусники принадлежали к другой сфере – к элите, к которой он не принадлежал ни по своему социальному статусу, ни по роду занятий. В своих мемуарах Фокин описывает первое знакомство – если можно так сказать – с Дягилевым:
Когда я только начинал свою карьеру танцора, Дягилев был чиновником особых поручений при директоре Императорских театров… Я видел Дягилева… стоящим в антракте среди группы чиновников, спиной к занавесу. Я знал, что в дирекции всегда есть молодые люди из хороших фамилий, которые сразу обходят сотни служащих в конторе чиновников и попадают на самые верхи театральной организации. Гоголь назвал этих чиновников ужасным, но метким словом «приклеиши»… этот человек казался мне принадлежащим к чиновникам, которые так много распоряжаются в театре и так много портят в балете… я с ним, кажется, ни одним словом тогда не обменивался и лишь раскланивался, как со всеми служащими в дирекции[80 - Фокин M. Против течения… С. 222, 223.].
Хотя прямое влияние, должно быть, исключено, Фокин основывался в работе на идеях, ставших популярными благодаря «Миру искусства» и другим символистским журналам. Кто заронил их семена во взгляды Фокина – это другая, более загадочная история; можно предположить – по отсутствию точных упоминаний в его мемуарах, – что это происходило бессистемно и само собой: в беседах с друзьями, во впечатлениях от спектаклей «новой драмы», в отрывочном и неупорядоченном чтении. Каким бы случайным ни было его знание символизма, к 1907 году фокинские воззрения в общих чертах были сходны с воззрениями «Мира искусства». «Мы сразу тогда и спелись», – высказывался Бенуа о первой встрече с хореографом по поводу постановки «Павильона Армиды». «Он не менее, чем я, желал уберечь балет от дешевых влияний и дать своему искусству новые права на жизнь»[81 - Benois, Reminiscences, p. 246. «Мы сразу тогда и спелись. Он мне рассказал то, как он уже поставил часть танцев “Армиды” для упомянутого спектакля в Театральном училище. Все его инвенции показались мне вполне соответствующими моим идеям, и это позволяло всецело на него положиться и в дальнейшем». Бенуа А. Воспоминания о балете. Русские записки. Т. 17. С. 88.].
«Мир искусства», основанный в 1898 году Дягилевым, который был издателем в течение всех шести лет его существования, занимал в России такое же место, как «Стьюдио» в Англии и «Ревю Бланш» во Франции: журнал ставил своей целью обращение образованной публики в эстетику символизма. «Программа, – замечает Джоан Росс Акочелла, – была ясно изложена с самого начала в написанных Дягилевым четырех полемических эссе, которые стали главным содержанием двух первых выпусков»[82 - Acocella, “Reception”, рр. 140, 141.]. В них Дягилев сформулировал свое кредо: вера в независимость и субъективность искусства; преклонение перед красотой и уверенность в ее связи с раскрытием индивидуальности художника; видение искусства как акта коммуникации между личностью художника и личностью зрителя. Щедро иллюстрированный, «Мир искусства» представил русским читателям «полную и разнообразную коллекцию» работ западных художников-символистов – представителей французской школы, движения английских эстетиков, художественной школы Глазго, австрийского Сецессиона, немецкой школы символистов, включая «Новых идеалистов» и графиков югендштиля, ар-нуво. Как и у любого журнала, у «Мира искусства» были свои фавориты: Обри Бердслей, Морис Дени и, прежде всего, Джеймс Уистлер, чьи работы украшали страницы журнала и часто становились темами эссе и заметок в разделе «Хроники искусства»[83 - Ibid. Рр. 149–151. Ее исследования дягилевских эссе: рр. 140–149.]. Опубликованная в журнале в 1902 году статья Валерия Брюсова «Ненужная правда» распространила критику реализма и на театр. Действительно, это эссе, написанное главой молодого поколения символистов и автором одной из первых символистских пьес на русском языке («Земля», 1904), стало поворотным моментом в истории русского театра, поскольку представляло собой бескомпромиссную атаку – первую в своем роде – на методы и достижения Московского Художественного театра.
Брюсов провозглашал:
Театру пора перестать подделывать действительность. Предмет искусства – душа художника, его чувствование, его воззрение; она и есть содержание художественного произведения; его фабула, его идея – это форма; образы, краски, звуки – материал… Артист на сцене то же, что скульптор перед глыбой глины: он должен воплотить в осязательной форме такое же содержание, как скульптор – порывы своей души, ее чувствования… Помочь актеру раскрыть свою душу перед зрителями – вот единственное назначение театра[84 - Брюсов В. Ненужная правда // Мир искусства-1902. Т. 7. Хроника. С. 67; 69; 70; 73.].
Сходство с позицией Дягилева очевидно.
Символизм витал в воздухе еще с 1890-х, однако постановки символистских пьес в России относятся к новому веку. В 1903 году в Севастополе Всеволод Мейерхольд, недавно покинувший Художественный театр, поставил пьесу Мориса Метерлинка «Непрошенная». Год спустя в Москве Станиславский показал постановку этой и еще двух пьес бельгийского символиста: вечер дал критикам право говорить то, что утверждал и сам Метерлинк, – что его пьесы несценичны[85 - Braun, Meyerhold, p. 37.]. В 1905 году в ответ на вызов, брошенный «новой драмой», Станиславский основал Театр-Студию с Брюсовым, возглавившим «литературное бюро», и Мейерхольдом в качестве режиссера. Это предприятие, просуществовавшее менее полугода и так никогда и не открывшее своих дверей публике, оказалось неудачным. Тем не менее оно принесло свои дивиденды: при постановке метерлинковской «Смерти Тентажиля» и «Шлюка и Яу» Гауптмана Мейерхольд вышел на принцип стилизации, легший в основу его будущих спектаклей и ставший разрешением символистской головоломки. Эдвард Браун пишет:
Уроки, полученные в Театре-Студии, дали Мейерхольду тот опыт, который был необходим для достижения его будущего успеха в Петербурге и который привел к установлению новой традиции в русском театре – традиции, которой был привержен сам Московский Художественный театр и которую он вскоре продолжил серией спектаклей, апогеем которой стал «Гамлет» в постановке Гордона Крэга[86 - Ibid. P. 51.].
Перед нами не стоит задача проанализировать огромный вклад Мейерхольда в утверждение символизма в актерской игре и режиссуре. Важно то, что театральный символизм в России возник напрямую от натурализма, что это произошло всего за три или четыре года и что эти годы совпали со временем рождения Фокина как хореографа. Иными словами, он начал ставить танцы именно в тот момент, когда два противоположных течения, символизм и натурализм, начали сходиться, когда символизм, казалось, пришел на смену своему предшественнику в ходе естественного процесса развития. Немирович-Данченко однажды заметил, что Чехов «отточил свой реализм до такой степени, что тот стал символическим»[87 - Ibid. P. 36.]. Так и Фокин, очарованный реальностью, тонко видоизменял природные формы: в плоть реализма он вдохнул свою индивидуальность. В его представлениях символизм и натурализм находились не в противоборстве, а в родстве.
Точно так же, как натурализм дал обобщение целому ряду идей об устройстве общества, символизм в творчестве Фокина занял территорию, относящуюся к индивидуальности. Самоценность взгляда автора, конечно, была главным принципом символизма наряду с независимой позицией художника; столь же дорогой символизму была тема Пьеро, поэта, отвергнутого и обманутого обществом мещан. Но интерес Фокина к индивидуальному выходил за рамки формального метода: его уважение к танцовщикам как сотворцам, его повышенное внимание к их индивидуальным эмоциям, его «освобожденная» техника и столь же «освобожденное» отношение к телу танцовщика отражают видение, истоки которого лежат в социальной реальности. Это видение, выступающее одновременно за равноправие и против авторитаризма, полностью определяло все стороны жизни Фокина: его столкновения с бюрократией Мариинского театра, товарищескую атмосферу его первых постановок, его восхищение Айседорой Дункан, его либеральные воззрения. В то же время оно отражало и наличие за его спиной группы сторонников – учеников, партнеров, друзей, – которые верили в него и примыкали к нему вначале как к политическому единомышленнику, затем как к художественному лидеру. Внутри этой группы он обнаружил проявления, родственные многим сторонам его личности, а также нашел соратников по борьбе, пронизывавшей его творчество до самых последних дней, – борьбе между утверждением личностью ее индивидуального права быть и отрицанием этого права обществом.
Это противоречие яснее всего отразилось в сольных номерах, созданных Фокиным в 1905–1911 годах для его величайших исполнителей: «Умирающем лебеде» (1907), поставленном для Павловой, сцене выхода Карсавиной в «Жар-птице» (1910) и в монологе Петрушки (1911), исполненном Нижинским. Все три номера, будучи размышлениями об индивидуальности, представляют собой трагедию осведомленности; в каждом из них исполнитель приходит к осознанию конечности и беспомощности человеческого бытия. Образцовым в этом отношении был «Умирающий лебедь»: выраженное в нем чувство оказалось настолько универсальным, что неизменно вызывало рукоплескания публики в течение всех двадцати шести лет, пока Павлова исполняла его.
Кроме того что работа Коровина, Головина и Серова предопределила подход Дягилева к технической стороне постановки, она также привнесла в его антрепризу русский дух. В 1908–1910 годах эти трое подготовили декорации, а в некоторых случаях и костюмы, для спектаклей «Борис Годунов» (Головин), «Пир» (Коровин), «Юдифь» (Серов), «Иван Грозный» (Головин), «Руслан и Людмила» (Коровин), «Ориенталии» (Коровин) и «Жар-птица» (Головин). В 1911 году Серов также создал просцениумный занавес в духе персидских миниатюр, который сопровождал увертюру Римского-Корсакова к «Шехеразаде», а двумя годами позже Головин оформил возобновление «Ивана Грозного». Все эти усилия были логическим продолжением неонационалистских настроений, шедших из Абрамцева, и стали точкой сближения со сходно мыслящими художниками из Петербурга – Билибиным, Стеллецким, Рерихом, Бакстом и Бенуа, – также участвовавшими в некоторых из постановок. Тем не менее «русскость» с самого начала не поддавалась строгому определению: она имела оттенок ориентализма, который был общим знаменателем для России и Востока в понимании Парижа. Даже в Абрамцеве между национальным материалом и экзотикой проходила очень тонкая грань. Действительно, для самых разных художников России конца XIX века Россия и Восток представлялись в воображении чем-то сходным. Для империи, через которую тянулась Транссибирская железная дорога и на чьей земле были Бухара, среднеазиатский священный город мусульман, Бахчисарай и Одесса, «иным» в культурном отношении был скорее не Восток, а Запад. Формирование представления о России как исторически и этнически незападной стране, ставшее ключевым элементом в идеологии довоенной дягилевской антрепризы, было еще одним из проявлений наследия Мамонтова[56 - О деятельности Мамонтова см.: Stuart Ralph Grover, “Savva Mamontov and the Mamontov Circle: 1870–1905 Art Patronage and the Rise of Nationalism in Russian Art”, Diss. Wisconsin 1971, chaps. 3 and 4; John E. Bowlt, The Silver Age: Russian Art of the Early Twentieth Century and the “World of Art” Group (Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners, 1979), pp. 30–39. О княгине Тенишевой см.: Bowlt, pp. 39–46, 180 (о курировании ее коллекции Бенуа), and р. 234 (о пребывании Билибина в ее школе). Некоторое представление о многоэтническом составе России можно получить из: Chloe Obolensky, The Russian Empire: A Portrait in Photographs, introd. Max Hayward (New York: Random House, 1979) и Photographs for the Tsar: The Pioneering Color Photography of Sergei Mikhailovich Prokudin – Gorskii Commissioned by Tsar Nicholas II, ed. and introd. Robert H. Allshouse (New York: Dial, 1980).].
Для Льва Бакста и Александра Бенуа, ведущих творческих фигур у Дягилева в предвоенный период, приверженность русской национальной тематике не была первостепенной. Они отвергали славянское наполнение неонационализма, сохраняя присущий ему эмпирический и исторический метод.
В случае с Бакстом его связь с передвижниками очевидна. Она возникла в середине 1880-х годов, когда, будучи студентом Петербургской академии художеств, он познакомился с Михаилом Нестеровым, Виктором Васнецовым и Валентином Серовым, художниками круга Абрамцева. Серов, который некоторое время учился в академии у Репина, стал близким другом Бакста. Работы последнего, выполненные в конце 1880-х – начале 1890-х, с такими названиями, как «Пьяный факельщик» («Бредущий с похорон»), «Отчаяние» («Самоубийца»), «Супруги» («Мезальянс»), продолжали передвижническую традицию верности социальной правде, совмещая в себе реалистическое изображение действительности с интересом к наиболее мрачным ее сторонам. В 1890-е годы Бакст постепенно отходил от этой эстетики. В этом, в частности, проявилось его знание новых тенденций в живописи, приобретенное в Париже, куда он часто ездил и где периодически жил до 1899 года. Не меньшее значение имел его возросший интерес к природе. Как Фокин несколько позднее, Бакст в это переходное для него десятилетие покинул студию, рисуя пейзажи с натуры, делая наброски сцен деревенской жизни или запечатлевая изменяющиеся картины неба, а также написал первые из целой серии замечательных портретов. В 1897 году, застав свою возлюбленную в объятиях другого, он уехал в Северную Африку, и это путешествие обозначило для него начало увлечения Ближним Востоком, колыбелью ориентализма, столь ярко представленного в его работах для Русского балета. Поездка десять лет спустя в Грецию и знакомство с греческой, арабской и тюркской культурами произвели на него столь же неизгладимое впечатление.
Тем не менее, как и у Фокина, в основе бакстовского воображения лежал интеллектуальный акт – историческая реконструкция времени и места. Задолго до того как он получил свой первый заказ у Дягилева, он применил свои энциклопедические знания об искусстве прошлого при создании более чем полудюжины постановок, главным образом в Императорских театрах. Работая над «Сердцем маркизы» (1902), своим первым театральным опытом, и «Феей кукол» (1903), он вдохновлялся европейскими стилями XIX века, в частности немецким стилем бидермейер, к которому обратился также в «Карнавале» (1910), «Видении Розы» (1911) и «Бабочках» (1914). При постановке «Ипполита» (1902), «Эдипа в Колоне» (1904) и «Антигоны» (1904), аттических трагедий или пьес на их основе, он не стал дополнять современные костюмы греческими деталями, что было тогда распространено в театральной практике, а вместо этого предложил реконструировать классические древнегреческие костюмы, как делал и позже – в балетах «Нарцисс» (1911), «Дафнис и Хлоя» (1912), «Послеполуденный отдых фавна» (1912). Его костюмы для «Саломеи» (1908) в исполнении Иды Рубинштейн были созданы в восточном духе, предвосхищая экзотику «Клеопатры» (1909), «Шехеразады» (1910), «Тамары» (1912) и «Легенды об Иосифе (1914). Как отмечал Чарльз Майер, в основе всех этих постановок лежали глубокие знания из разных сфер художественной культуры, обогащенные и личными наблюдениями – как те, которые художник приобрел в 1912 году за несколько недель пребывания на Кавказе, когда готовился к постановке «Тамары»[57 - Детальный анализ европейских, греческих и восточных балетов Бакста представлен: Charles Steven Mayer, “The Theatrical Designs of Leon Bakst”, Diss. Columbia 1977, chaps. 2–4. Биографические данные взяты из главы 1 данной работы.]. Такое углубленное погружение в историю диктовалось не теоретическими устремлениями. Для Бакста, как и для Фокина, изображение реальности в свете вновь обретенного знания, а не в духе общепринятых условностей было актом нововведения и освобождения. Натурализм, очищенный от его прогрессистской идеологии, был шагом вперед, способом увидеть нечто радикально новое. Как и другие художники с периферии Европы, Бакст открыл для себя подлинную реальность намного позже, чем представители парижского центра.
Что касается Александра Бенуа, то он руководствовался в творчестве сходными убеждениями. Однако истоки стремления Бенуа, сына Петербурга и внука Парижа, к аутентичности лежали в более глубоком прошлом. В центре его одержимости прошлым были три исторических момента: grand si?cle[58 - Великий век (франц.). – Примеч. пер.] Версаля, воплощение французской цивилизации эпохи классицизма; Петербург времен Петра, истинно римская экспансия на болотистые северные земли, осуществленная актом колоссальной воли; и готическая Центральная Европа, выписанная в сказках Гофмана. Для Бенуа искусство представляло собой акт, посредством которого настоящее осознает необходимость оживления прошлого. Он с маниакальным усердием рисовал Версаль и Петербург, словно мог, воссоздавая их памятники, воскресить породившие их цивилизации – но понимал, что картины, выражающие тоску по этим цивилизациям, лишь свидетельствуют об их гибели. Уже в самых первых театральных работах Бенуа прослеживается влияние его серьезных увлечений. В «Мести Купидона», поставленной в Эрмитажном театре одноактной опере, где Бенуа дебютировал в качестве театрального художника, он опирался на свое убедительное знание XVIII века. В показанной в 1903 году Мариинским театром «Гибели богов» он обращался к средневековому космосу вагнеровской древнегерманской мифологии. А когда в 1907 году Николай Дризен и Николай Евреинов выразили желание воссоздать театральные формы Средневековья и испанского золотого века, именно Бенуа выступал в качестве художественного и исторического консультанта их Старинного театра. В его трудах – как научных, так и публицистических, – равно как и в томах его выдающихся воспоминаний, память выступает объектом глубокого поклонения. Обрисованные в деталях события прошлого отправляют читателя в путешествие назад во времени. Весьма типично то, что журнал, который Бенуа издавал в 1907–1916 годах, носил почти прустовское название – «Старые годы»[59 - Среди опубликованных книг Бенуа были: Reminiscences of the Russian Ballet, trans. Mary Britnieva (London: Putnam, 1941); Memoirs, I, trans. Moura Budberg (London: Chatto and Windus, 1960); Memoirs, II, trans. Moura Budberg (London: Chatto and Windus, 1964). Образцы его журнальных «мемуаров» приведены в: Roland John Wiley, ed. and trans., “Benois and Butter Week Fair”, “Benois and Butter Week Fair Part II”, “The Diaghilev Exhibition”, Parts I, II, III, Dancing Times, April – August 1984. Биографический материал см.: Bowlt’s Silver Age, глава 10, и глава о Бенуа в его же Russian Stage Design: Scenic Innovation, 1900–1930 (Jackson, Miss.: Mississippi Museum of Art, 1981). Другими художниками, связанными с кругом Дягилева, кто оформлял спектакли Старинного театра, были Билибин, Рерих и Добужинский. Александр Санин, ставший постановщиком большинства опер у Дягилева, был одним из режиссеров театра, а Фокин отвечал за хореографию. Он поставил в том числе танцы для «Игры о Робине и Марион», пасторали XIII в. Адама де ла Аля. Spencer Golub, Evreinov: The Theatre of Paradox and Transformation (Ann Arbor, Mich.: UMI Research Press, 1984), pp. 110–120.].
Бенуа, будучи пассеистом, нашел в лице романтика Фокина идеального товарища по работе. Хореограф писал об их первой встрече осенью 1907 года, которая привела в итоге к созданию «Павильона Армиды»:
Мы говорили о том, что нас обоих волнует, увлекает. Ушли в волшебный мир, в сады очаровательной Армиды. С первой встречи обозначилось то взаимопонимание, которое привело к стольким художественным радостям, к стольким победам.
Бенуа повел меня на мост под самый потолок. Голова кружилась и от высоты, и от радости. Под ногами у меня расстилалась декорация – роскошный павильон Армиды. Счастливый момент![60 - Фокин M. Против течения… С. 184.]
«Павильон Армиды» с оформлением в стиле рококо был по сердцу художнику. Он бесконечно суетился над костюмами а-ля Людовик XIV, подолгу подбирая цвета для тесьмы или кружевные вставки: успех работы в его понимании был неразрывно связан с воссозданием исторического колорита. Менее чем через четыре месяца Фокин и Бенуа работали вместе над постановкой Bal poudrе, пантомимой в стиле арлекинады XVII века. За «Шопенианой» 1909 года, вызвавшей у них равный эмоциональный подъем, в 1911-м последовал «Петрушка», их четвертая совместная работа – и вторая постановка на тему комедии дель арте. Наполненные прустовскими деталями, оба балета в поисках утраченной чистоты взывали к прошлому: первый – посредством романтических литографий, второй – через призму воспоминаний. Как и Бакст, Бенуа видел в верности образам эпохи способ передачи эмоциональной и поэтической правды.
Защита Фокиным сценического реализма оказалась глубоко созвучной историческим устремлениям художников круга «Мира искусства». Более того, она, безусловно, ставила его работу в один ряд с новаторскими начинаниями в драматическом театре, и прежде всего с реформами Константина Станиславского в Московском Художественном театре. В «Русском театре от Империи до Советов» Марк Слоним говорит об «археологически-историческом реализме», ставшем известным благодаря прославленной труппе Станиславского, «одной из наиболее важных тенденций» из тех, что способствовали изменениям в русской театральной жизни начала XX столетия:
Станиславский применял один и тот же метод исследования и реконструкции во всех исторических пьесах, будь то «Венецианский купец» или «Юлий Цезарь». При постановке последней он поехал вместе с актерами в Рим и позже воссоздал на московской сцене узкие улочки, Форум и живописную южную толпу города Цезаря. Такое же путешествие труппа совершила на Кипр, когда готовилась к постановке «Отелло». Чтобы публика могла осознать, насколько серьезной была подготовительная работа, показ новых спектаклей сопровождался соответствующими выставками. Так, зрители, пришедшие на «Юлия Цезаря», могли ознакомиться в фойе с русскими переводами Шекспира и увидеть подлинные предметы римской эпохи – монеты, оружие, а также картины и гравюры[61 - Marc Slonim, Russian Theater From the Empire to the Soviets (Cleveland: World Publishing, 1961), p. 116.].
Как и Фокин, Станиславский рассматривал стиль как создание исторической иллюзии, основанной на прямом наблюдении реальности, совмещенном с исторической реконструкцией.
Первый петербургский сезон Московского Художественного театра, основанного в 1898 году, состоялся тремя годами позже. Фокин был среди публики[62 - Слонимский Ю. С. Фокин и его время. С. 23.]. Таким образом, он открыл для себя ранние постановки Станиславского именно в ту пору, когда происходило его художественное становление и когда ему нужно было, по его собственному убеждению, искать новые способы творческой самореализации. Семья Фокина также была связана с театром. Его брат Владимир стал известным актером; другой брат, Александр, организовал Троицкий театр миниатюр (в котором его жена, солистка Мариинского театра Александра Федорова, появлялась как прима-балерина)[63 - «Театры миниатюр», известные также как «театры малых форм», были заметным явлением в петербургской жизни до Первой мировой войны. Созданные по типу мюнхенских, берлинских и парижских артистических кабаре, по большей части эти театры тяготели к сатире и чередованию разнохарактерных номеров: поэтических декламаций, эксцентрики, пародий, скетчей, цыганских романсов и т. д. Танцы также постоянно присутствовали в них. В «Кривом зеркале» Николая Евреинова, наиболее известном из этих театров, «публика смеялась до слез» над пародиями на балеты «Жизель», «Лебединое озеро» и «Эсмеральда». Другими объектами сатиры «Кривого зеркала» были Айседора Дункан и Мод Аллан в исполнении «примы-балерины» труппы Николая Барабарова. Golub, Evreinov, pp. 149–151.]. Хотя Фокин не упоминает об этом, эпохальные постановки Станиславским пьес Ибсена и Чехова определенно оставили след в его юношеском воображении. Свойственные им артистизм и убедительное воспроизведение времени и места, должно быть, внушили ему представление о будущих возможностях, о той силе воздействия, которой может обладать искусство в его высшей форме. Эти постановки продемонстрировали образцы стилистического единства, построения драматического действия и психологической достоверности, нашедших отражение в раннем творчестве Фокина.
Между труппой Дягилева и Московским Художественным театром существовало множество связей, о которых редко упоминают в исследованиях по истории Русского балета.
Бенуа «любил наш театр, знал его», – писал Владимир Немирович-Данченко, вместе со Станиславским основавший знаменитую труппу. В 1909 году, на высшей точке сотрудничества с Дягилевым, Бенуа вступил в тесный союз со Станиславским, став художником и сорежиссером его театра. Он сыграл заметную роль в полемике, которая разразилась в 1910 году вокруг постановки «Братьев Карамазовых» Немировича-Данченко, и, по распоряжению Станиславского, участвовал в составлении открытого ответного письма наиболее суровому критику пьесы – Максиму Горькому. Два года спустя Бенуа присоединился к труппе не только в качестве художника, но и – в ряде случаев – сопостановщика[64 - Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма / Сост., вступ. ст. и коммент. М. Н. Любомудрова. М.: Правда, 1989. С. 218. Bowlt, Russian Stage Design, p. 83; Benois, Reminiscences, pp. 348, 349, 353. Бенуа датирует начало его работы с труппой 1912 г. Его роль в «Карамазовых» дает основание верить дате, указанной у Боулта, – 1909.].
Другой фигурой на пересечении интересов этих двух трупп был Александр Санин, покинувший Художественный театр в 1902 году. Санин был штатным режиссером Александринского театра и стал одним из первых, кто в Императорских театрах признал талант Фокина. В 1905 году, увидев балет «Ацис и Галатея», он попросил хореографа поставить танец шутов для драмы Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного», но эта просьба была отклонена Александром Крупенским: тот сказал Санину, что «не имеет права помимо конторы выбирать себе сотрудников»[65 - Фокин М. Против течения… С. 165.]. Санин в гневе покинул Александринский театр. Тем не менее в 1908 году Дягилев пригласил его руководить постановкой «Бориса Годунова», а еще через год – ставить для Парижа оперы «Иван Грозный», «Руслан и Людмила», «Юдифь», «Князь Игорь». В 1913 и 1914 годах, вновь обратившись к постановке опер, Дягилев снова позвал Санина, который подготовил спектакли «Борис Годунов», «Хованщина» и «Соловей» (последний вместе с Бенуа)[66 - В отличие от французских рецензентов, британские обозреватели не имели обыкновения указывать имена оперных режиссеров. Поэтому довольно трудно установить, кто в 1914 г. был постановщиком «Ивана Грозного» и «Майской ночи», показанных только в Лондоне. Поскольку Санин был автором версии «Ивана Грозного» 1909 г., то допустимо предположить, что он выступил постановщиком и в 1914 г. Принимая во внимание то, что он работал для Дягилева в соответствующий период, весьма вероятно, что он поставил и «Майскую ночь».].
Еще одним человеком на пересечении был Савва Мамонтов, чья жажда деятельности после возвращения из долговой тюрьмы – в отличие от его состояния – нисколько не уменьшилась. В 1905 году он объединил свои силы со Станиславским, став содиректором Театра-Студии, экспериментальной труппы, существовавшей при Московском Художественном театре. Под руководством Мамонтова к сотрудничеству с театром были привлечены художники, приверженные новым направлениям, – в частности, Николай Сапунов и Сергей Судейкин, ученики Коровина и Серова, присоединившихся к кругу мирискусников. В 1906 году Дягилев пригласил Судейкина в Париж в связи с организованной им в Осеннем салоне выставкой русской живописи. Через семь лет Судейкин оформил спектакль «Трагедия Саломеи» для Русского балета. Еще одним художником, близким к кругу мирискусников, который работал для труппы Дягилева после сотрудничества со Станиславским, был Мстислав Добужинский. В 1906 году он оформил «Горе от ума» для Художественного театра, а тремя годами позднее в постановке «Месяц в деревне» обратился к стилю бидермейер, который столь успешно будет использован Бакстом год спустя в постановке «Карнавала». (Влияние это не было полностью односторонним: так, Станиславский перенес действие пьесы Герхарта Гауптмана «Шлюк и Яу», поставленной в Театре-Студии в 1905 году, из средневековой Силезии во времена париков Людовика XIV – после того как посетил великолепную выставку портретов XVIII века, организованную Дягилевым в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге[67 - Edward Braun, The Theatre of Meyerhold: Revolution on the Modern Stage (New York: Drama Book Specialists, 1979), p. 44.].)
Воздействие Художественного театра распространилось и на балет. В Большом театре влияние Станиславского имело значительные последствия, и началось оно почти одновременно с созданием Художественного театра в 1898 году – в тот год, когда из Мариинского театра пришел характерный танцовщик и подающий надежды хореограф Александр Горский. Возобновление им «Дон Кихота» в 1900 году было «не менее чем революционной реформой в балете», как писала историк балета Наталья Рославлева:
Влияние Художественного театра было особенно заметным в первом акте старого балета Минкуса. Вместо застывших линий кордебалета там появилась живая толпа людей, которые двигались и смеялись, продавая свои товары на базарной площади. Вместо традиционно-условных костюмов появились настоящие испанские платья[68 - Natalia Roslavleva, “Stanislavsky and the Ballet”, introd. Robert Lewis, Dance Perspectives, 23 (1965), p. 23.].
Горский сформировал целое созвездие танцовщиков-актеров: Михаил Мордкин, Федор Козлов, Александр Волинин, Лаврентий Новиков, – все они впоследствии танцевали у Дягилева. Его открытием стала Софья Федорова, непревзойденная в главной роли половецкой девушки у Фокина. Станиславский, в свою очередь, приглашал Мордкина, чтобы тот обучал его актеров выразительной пластике.
Наряду со сценическим реализмом работа Фокина воплощала еще один принцип Художественного театра: отношение к ансамблю как к живому коллективу. «Новый балет… идет вперед, – говорил он в письме в лондонский “Таймс” в 1914 году, – от выразительности лица к выразительности всего тела, от выразительности индивидуального тела к выразительности группы тел и выразительности массового танца всей толпы»[69 - Фокин M. Новый балет (письмо в Times от 6 июля 1914 г.) // Против течения… С. 353. Это письмо-манифест также опубликовано в: Beaumont, Fokine, Appendix A(b), pp. 144–147.]. Слово «толпа» здесь – ключ к пониманию его формального метода и освободительного видения, пронизывавшего его работу. Устранив диагональные и прямоугольные построения, типичные для Петипа, Фокин превратил кордебалет в то, что критик Валериан Светлов назвал «собирательным артистом, проникнутым идеей и стилем постановки, живущим внутри ее и в ней взаимодействующим»[70 - Valerian Svetlov, “The Diaghilev Ballet in Paris”, Dancing Times, December 1929, p. 264.]. В балетах Петипа кордебалет служил окружением балерины, помещая ее в рамки столь же четкие, как этикет Императорского двора; она так же всецело руководила сценой, как царь – подданными. Вокруг нее, в порядке возрастания значимости, располагались танцовщики менее высоких рангов: корифеи – группами по восемь человек; деми-корифеи – по четверо; деми-солисты – в парах; солистки и первые танцовщицы – в менее крупных ролях. В ирреальных сценах-видениях из «Баядерки» или «Спящей красавицы» расположение танцовщиков на сцене отражало существовавшую в Мариинском театре служебную иерархию.
В противовес этому, Фокин отменил всевозможные привилегии и внешние проявления рангов. В его работах балерина перестала существовать обособленно и стала сливаться со своим новым, демократизированным окружением. Даже в «Шопениане», напоминавшей о классических структурах «Жизели» и «Лебединого озера», он объединял солистов и ансамбль, позволяя солистам лишь временами – и недолго – проявлять себя на сцене индивидуально. В то же время он разбил имперские прямолинейные массовые построения Петипа, заменив их небольшими асимметричными группами, которые, перемещаясь, образовывали постоянно изменяющиеся узоры. Отмена градаций, произведенная Фокиным, имела, таким образом, два следствия: свергнув с престола королеву в «пчелином улье» Петипа, он наделил человеческими чертами «трутней», которые существовали вокруг нее.
Фокинский «освобожденный» ансамбль появился в его работах довольно рано и затем часто возникал вновь. В «Виноградной лозе» завсегдатаи кабачка и вина, которые они пили, появлялись в едином танце в финальной вакхической сцене. Эта концовка, вариант традиционной коды, стала прототипом той бешеной, бесшабашной толпы, которая бросала в восторженную дрожь зрителей довоенных фокинских постановок. По поводу «шокирующей брутальности» «Шехеразады» Арнольд Беннетт писал:
Ужас. В ошеломляющем великолепии Русского балета публика видела евнухов за работой, с турецкими ятаганами в руках. За безумной оргией последовало варварское наказание, ужасное и отталкивающее; безусловно, это был один из кровавейших эпизодов, когда-либо показанных на западной сцене. Евнухи в бешенстве преследовали хрупких и прекрасных одалисок; в одно мгновение сераль был полон телами зарубленных девушек, лежащими в самых уродливых позах смерти. И затем наступала тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием палачей[71 - Arnold Bennett, “Russian Imperial Ballet at the Opera”, Paris Nights and Other Impressions of Places and People (New York: George H. Doran, 1913), pp. 76, 77.].
Толпа притягивала Фокина как средство противостояния сценической и социальной иерархии балета. Привлекали его и свойственная толпе изменчивость, заложенная в ней склонность к жестокости, выходящая за пределы эмоциональность, способность толпы к совместным действиям и чувствам. «В каждом почти балете М. М. Фокина, – писал Андрей Левинсон, – есть момент, когда все участвующие, без различия их предшествующей хореографической роли, берутся за руки и образуют длинную цепь… которая свертывается в концентрические круги и несется в темпах, все более ускоряющихся»[72 - Левинсон А. Старый и новый балет. Петроград: Свободное искусство, 1917. С. 65.]. Смерть Амуна в «Клеопатре» происходит в ходе жестокой оргии, где толпа превращается в единую извивающуюся массу. Разгул, предшествующий финальной бойне в «Шехеразаде», происходит в той же конвульсивной форме. Левинсон пишет:
И начинается тайный пир. Высоко держа над головами блюда с нагроможденными плодами, вбегают… огибая сцену широкой дугой, пестрые индусские юноши-слуги, за ними, одна за другой, непрерывной цепью следуют розовые альмеи в темно-красных чадрах, за ними зеленые – и вскоре вся сцена охвачена вихрем всеобщего хоровода, сплетающегося во все мыслимые фигуры, точно извилистая геральдическая змея[73 - Там же. С. 26.].
В картинах стихии, необузданной, внезапным хаосом обрушивающейся на размеренную жизнь общества, Левинсон усматривает определенный подтекст этих конвульсивных оргий, которые лишь в редких случаях имеют эротический смысл. Фокинская толпа воспроизводит пароксизмы самой революции: буйство вырвавшихся на свободу масс, опьянение кровью, триумф инстинкта над разумом, освобождение индивида через коллективное действие. В отличие от Левинсона, который с недоверием относился к любым изменениям, Фокин приветствовал борьбу старого и нового: революция разрушила многое, но многое и создала. Наследие 1905 года, таким образом, не сводилось к рождению Фокина как хореографа или формированию группы его художественных последователей. Оно определило самую ткань его работ. Основываясь на принципе сценического реализма, прославленного Московским Художественным театром, он показал живую толпу как срез политической жизни общества: дух 1905 года продолжал существовать на сцене.
То, насколько Фокин был обязан Станиславскому, заметнее всего в «Петрушке» – возможно, его лучшей работе для Русского балета. В этой постановке он изобразил масленичные гулянья в Петербурге 1830-х годов со всем богатством деталей и верностью эталону прославленной толпы Станиславского в Художественном театре. Создавая это живое социальное единство, Фокин прежде всего стремился сделать незаметным участие постановщика:
Я хотел, чтобы все танцующие на масленичном гулянье танцевали весело, свободно, как будто никто им танцев не сочинял и не ставил, как будто они сами от избытка чувств и веселья пускаются в пляс, кому как бог на душу положит. Словом, чтобы ничего и не намекало на существование балетмейстера[74 - Фокин М. Против течения… С. 286.].
Фокин работал со своим материалом, как импрессионист, смешивая тональности движения, затем задерживал взгляд зрителя на неожиданном прыжке или жесте, который почти сразу же растворялся в общей массе. Описание Левинсоном четвертой картины передает сменяющийся поток образов, которые делают толпу столь живой и убедительной для русского зрителя 1911 года:
Тем временем на площади клубится праздничный угар, плывут, разводя руками и помавая ладонями, раскрасавицы «кормилицы» в сарафанах и кокошниках, лихо стучат каблуками ямщики в цветных поддевках, с галунами на шляпах, несутся вприсядку бойкие парнишки, ряженые со страшными рожами вмешиваются в толпу, между тем как барыни, сопровождаемые статными офицерами в треуголках и шинелях и франтами в бекешах, брезгливо рассматривают в лорнеты грубые увеселения простонародья[75 - Левинсон А. Старый и новый балет. С. 44, 45.].
Натурализм простирался далеко за пределы того, как Фокин распоряжался массами на сцене. Его живая толпа была прежде всего собранием личностей – кучеров, цыган, уличных торговцев, кормилиц, шарманщиков, скоморохов, – которые выходили на сцену со своими биографиями и полно очерченной индивидуальностью. Партитура «Петрушки» – второго произведения, написанного Стравинским для Русского балета, – содержала темы для десятков характеров. Костюмы Бенуа соответствовали этому музыкальному разнообразию. Он прилежно изучил моду 1830–1840-х годов, создав более сотни костюмов представителей разных социальных слоев. Его декорации были также полны реалистических деталей: карусель, прилавки с пряниками, стол с кипящим самоваром… На репетициях Фокин работал вместе с Бенуа, который подсказал ему множество реалистических деталей, благодаря которым толпа не выглядела безликой массой, а представляла собой собрание разноликих персонажей.
Подобная индивидуализация, неотъемлемая часть фокинского метода, наводит на мысль о другой параллели со Станиславским, чей театр славился как реалистической игрой актеров, так и своим ансамблем. Фокин устранил то, что Осип Мандельштам назвал «смородинными улыбками балерин» и «растительным послушанием кордебалета»[76 - Мандельштам О. Египетская марка. М.: Панорама, 1991. (Репринтное воспроизведение издания 1928 года.) С. 45.]. Он придал человеческие, индивидуальные черты каждому из танцовщиков, превращая его в актера и назначая ему свою роль в обширной драме. В отличие от своих последователей, представителей неоклассической хореографии, Фокин был уверен, что движения сами по себе не передают сюжет. Он чувствовал, что движение выразительно лишь в той степени, в какой оно схватывает эмоциональную и психологическую правду и близко к естественности. В своем письме 1914 года в «Таймс» он назвал вторым «правилом» нового балета необходимость драматической обоснованности танца и мимики – одно из фундаментальных положений теории актерской игры Станиславского. В отличие от пантомимы, у Фокина «жизненные жесты» рук представляли собой «не замены слова, а дополнения к слову», продолжение естественных жестов, которые позволяют «услышать» то, что не было произнесено вслух. В то же самое время, распространяя понятие жестикуляции на любое движение, Фокин провозглашал «мимику всего тела»: «Человек может и должен быть выразительным весь, с ног до головы»[77 - Фокин М. Новый балет // Против течения… С. 243, 352.].
Драматический реализм предполагал новый подход к изображению характера. Заботясь о содержании прежде, чем о форме, он ставил смысл выше метафор движения; воспроизводя характер, реализм предпочитал народные говоры кодифицированному языку научных кругов. В «Петрушке» психологическая сторона определяла пластическую образность: наивный и бесхитростный герой, интроверт, предстает «невыворотным», завернутым вовнутрь; ярко размалеванный Арап, экстраверт, – «выворотным»; Балерина, кокетливая пустоголовая Коломбина, вышагивает на пуантах, как механическая кукла. Актерская игра также отражала новую «мимику», и нет ничего удивительного в том, что фокинские танцовщики наполняли балеты той же самой жизненной силой, которую их коллеги из Художественного театра привносили в постановки Ибсена и Чехова. Из всех танцовщиков, работавших с Фокиным, его идеалу наиболее соответствовала Павлова. Она говорила критику Валериану Светлову:
За рубежом говорили, что в моем танце было «что-то оригинальное». Единственное, что я делала, – это пыталась подчинять движения тела психологическому замыслу: техническую сторону танца – я имею в виду танец per se[78 - Сам по себе, как таковой (лат.). – Примеч. пер.] – я постаралась окутать духом поэзии, очарование которой могло бы завуалировать механику движений. Когда я танцую, я часто импровизирую, особенно когда роль увлекает и вдохновляет меня. Я беру из хореографической палитры любую краску, которая соответствует ходу моего воображения, и стараюсь довести любую мелочь до совершенства. Только так я могу создать впечатление, которое зрителю покажется новым. Насколько я знаю, в этом единственный секрет моего искусства[79 - Valerian Svetlov, Anna Pavlova, trans. A. Grey (Paris, 1922; rpt. New York: Dover, 1974), p. 156.].
Безусловно, натурализм был лишь одним из средств в арсенале Фокина, направленном против балетного театра XIX века. Но по целому ряду причин он занимает в нем почетное место. Будучи центральным принципом фокинской реформы, натурализм открывал классическому танцу широкий простор для смелых экспериментов. В то же время он создавал близость между балетом и бунтарскими движениями в драме, музыке и живописи. Наконец, он обозначил веху той либеральной позиции, которую Фокин считал близкой ему по духу и стимулирующей воображение.
Несмотря на это, с самого начала натурализм находился в связи с эстетикой, которая во всей остальной Европе шла ему на смену. Символизм поздно пришел в Россию, и еще позже – в российский театр. Позднее всего он пришел в балет. Однако каким бы поздним ни было его появление, оно оказало определяющее и устойчивое влияние на творчество Фокина. Символизм предлагал широкий спектр идей: темы мятущейся личности и комедии дель арте, возрождение интереса к синтезу искусств, акцент на субъективное восприятие художника; культ красоты, увлечение эротизмом, мироощущение в духе метафизики идеализма. Провозглашенные модернизмом, эти идеи рубежа веков связывали творчество Фокина с течениями в других видах искусства, которые стремились скорее преобразить реальность, чем описать ее буквально, и с экспериментами его последователей в хореографии, которые позднее завершили модернистскую революцию, инициированную им, и даже вышли за ее рамки. Наконец, символизм Фокина подготовил идеологическую почву: он выдвинул идеал индивидуализма, выступивший антитезисом общественно-групповому тезису натурализма.
Как уже было сказано, Фокин до 1907 года не имел тесных контактов с «Миром искусства». Конечно, он знал о его существовании и посетил некоторые из его выставок; по его собственному свидетельству, одноименный журнал также был ему знаком. Однако мирискусники принадлежали к другой сфере – к элите, к которой он не принадлежал ни по своему социальному статусу, ни по роду занятий. В своих мемуарах Фокин описывает первое знакомство – если можно так сказать – с Дягилевым:
Когда я только начинал свою карьеру танцора, Дягилев был чиновником особых поручений при директоре Императорских театров… Я видел Дягилева… стоящим в антракте среди группы чиновников, спиной к занавесу. Я знал, что в дирекции всегда есть молодые люди из хороших фамилий, которые сразу обходят сотни служащих в конторе чиновников и попадают на самые верхи театральной организации. Гоголь назвал этих чиновников ужасным, но метким словом «приклеиши»… этот человек казался мне принадлежащим к чиновникам, которые так много распоряжаются в театре и так много портят в балете… я с ним, кажется, ни одним словом тогда не обменивался и лишь раскланивался, как со всеми служащими в дирекции[80 - Фокин M. Против течения… С. 222, 223.].
Хотя прямое влияние, должно быть, исключено, Фокин основывался в работе на идеях, ставших популярными благодаря «Миру искусства» и другим символистским журналам. Кто заронил их семена во взгляды Фокина – это другая, более загадочная история; можно предположить – по отсутствию точных упоминаний в его мемуарах, – что это происходило бессистемно и само собой: в беседах с друзьями, во впечатлениях от спектаклей «новой драмы», в отрывочном и неупорядоченном чтении. Каким бы случайным ни было его знание символизма, к 1907 году фокинские воззрения в общих чертах были сходны с воззрениями «Мира искусства». «Мы сразу тогда и спелись», – высказывался Бенуа о первой встрече с хореографом по поводу постановки «Павильона Армиды». «Он не менее, чем я, желал уберечь балет от дешевых влияний и дать своему искусству новые права на жизнь»[81 - Benois, Reminiscences, p. 246. «Мы сразу тогда и спелись. Он мне рассказал то, как он уже поставил часть танцев “Армиды” для упомянутого спектакля в Театральном училище. Все его инвенции показались мне вполне соответствующими моим идеям, и это позволяло всецело на него положиться и в дальнейшем». Бенуа А. Воспоминания о балете. Русские записки. Т. 17. С. 88.].
«Мир искусства», основанный в 1898 году Дягилевым, который был издателем в течение всех шести лет его существования, занимал в России такое же место, как «Стьюдио» в Англии и «Ревю Бланш» во Франции: журнал ставил своей целью обращение образованной публики в эстетику символизма. «Программа, – замечает Джоан Росс Акочелла, – была ясно изложена с самого начала в написанных Дягилевым четырех полемических эссе, которые стали главным содержанием двух первых выпусков»[82 - Acocella, “Reception”, рр. 140, 141.]. В них Дягилев сформулировал свое кредо: вера в независимость и субъективность искусства; преклонение перед красотой и уверенность в ее связи с раскрытием индивидуальности художника; видение искусства как акта коммуникации между личностью художника и личностью зрителя. Щедро иллюстрированный, «Мир искусства» представил русским читателям «полную и разнообразную коллекцию» работ западных художников-символистов – представителей французской школы, движения английских эстетиков, художественной школы Глазго, австрийского Сецессиона, немецкой школы символистов, включая «Новых идеалистов» и графиков югендштиля, ар-нуво. Как и у любого журнала, у «Мира искусства» были свои фавориты: Обри Бердслей, Морис Дени и, прежде всего, Джеймс Уистлер, чьи работы украшали страницы журнала и часто становились темами эссе и заметок в разделе «Хроники искусства»[83 - Ibid. Рр. 149–151. Ее исследования дягилевских эссе: рр. 140–149.]. Опубликованная в журнале в 1902 году статья Валерия Брюсова «Ненужная правда» распространила критику реализма и на театр. Действительно, это эссе, написанное главой молодого поколения символистов и автором одной из первых символистских пьес на русском языке («Земля», 1904), стало поворотным моментом в истории русского театра, поскольку представляло собой бескомпромиссную атаку – первую в своем роде – на методы и достижения Московского Художественного театра.
Брюсов провозглашал:
Театру пора перестать подделывать действительность. Предмет искусства – душа художника, его чувствование, его воззрение; она и есть содержание художественного произведения; его фабула, его идея – это форма; образы, краски, звуки – материал… Артист на сцене то же, что скульптор перед глыбой глины: он должен воплотить в осязательной форме такое же содержание, как скульптор – порывы своей души, ее чувствования… Помочь актеру раскрыть свою душу перед зрителями – вот единственное назначение театра[84 - Брюсов В. Ненужная правда // Мир искусства-1902. Т. 7. Хроника. С. 67; 69; 70; 73.].
Сходство с позицией Дягилева очевидно.
Символизм витал в воздухе еще с 1890-х, однако постановки символистских пьес в России относятся к новому веку. В 1903 году в Севастополе Всеволод Мейерхольд, недавно покинувший Художественный театр, поставил пьесу Мориса Метерлинка «Непрошенная». Год спустя в Москве Станиславский показал постановку этой и еще двух пьес бельгийского символиста: вечер дал критикам право говорить то, что утверждал и сам Метерлинк, – что его пьесы несценичны[85 - Braun, Meyerhold, p. 37.]. В 1905 году в ответ на вызов, брошенный «новой драмой», Станиславский основал Театр-Студию с Брюсовым, возглавившим «литературное бюро», и Мейерхольдом в качестве режиссера. Это предприятие, просуществовавшее менее полугода и так никогда и не открывшее своих дверей публике, оказалось неудачным. Тем не менее оно принесло свои дивиденды: при постановке метерлинковской «Смерти Тентажиля» и «Шлюка и Яу» Гауптмана Мейерхольд вышел на принцип стилизации, легший в основу его будущих спектаклей и ставший разрешением символистской головоломки. Эдвард Браун пишет:
Уроки, полученные в Театре-Студии, дали Мейерхольду тот опыт, который был необходим для достижения его будущего успеха в Петербурге и который привел к установлению новой традиции в русском театре – традиции, которой был привержен сам Московский Художественный театр и которую он вскоре продолжил серией спектаклей, апогеем которой стал «Гамлет» в постановке Гордона Крэга[86 - Ibid. P. 51.].
Перед нами не стоит задача проанализировать огромный вклад Мейерхольда в утверждение символизма в актерской игре и режиссуре. Важно то, что театральный символизм в России возник напрямую от натурализма, что это произошло всего за три или четыре года и что эти годы совпали со временем рождения Фокина как хореографа. Иными словами, он начал ставить танцы именно в тот момент, когда два противоположных течения, символизм и натурализм, начали сходиться, когда символизм, казалось, пришел на смену своему предшественнику в ходе естественного процесса развития. Немирович-Данченко однажды заметил, что Чехов «отточил свой реализм до такой степени, что тот стал символическим»[87 - Ibid. P. 36.]. Так и Фокин, очарованный реальностью, тонко видоизменял природные формы: в плоть реализма он вдохнул свою индивидуальность. В его представлениях символизм и натурализм находились не в противоборстве, а в родстве.
Точно так же, как натурализм дал обобщение целому ряду идей об устройстве общества, символизм в творчестве Фокина занял территорию, относящуюся к индивидуальности. Самоценность взгляда автора, конечно, была главным принципом символизма наряду с независимой позицией художника; столь же дорогой символизму была тема Пьеро, поэта, отвергнутого и обманутого обществом мещан. Но интерес Фокина к индивидуальному выходил за рамки формального метода: его уважение к танцовщикам как сотворцам, его повышенное внимание к их индивидуальным эмоциям, его «освобожденная» техника и столь же «освобожденное» отношение к телу танцовщика отражают видение, истоки которого лежат в социальной реальности. Это видение, выступающее одновременно за равноправие и против авторитаризма, полностью определяло все стороны жизни Фокина: его столкновения с бюрократией Мариинского театра, товарищескую атмосферу его первых постановок, его восхищение Айседорой Дункан, его либеральные воззрения. В то же время оно отражало и наличие за его спиной группы сторонников – учеников, партнеров, друзей, – которые верили в него и примыкали к нему вначале как к политическому единомышленнику, затем как к художественному лидеру. Внутри этой группы он обнаружил проявления, родственные многим сторонам его личности, а также нашел соратников по борьбе, пронизывавшей его творчество до самых последних дней, – борьбе между утверждением личностью ее индивидуального права быть и отрицанием этого права обществом.
Это противоречие яснее всего отразилось в сольных номерах, созданных Фокиным в 1905–1911 годах для его величайших исполнителей: «Умирающем лебеде» (1907), поставленном для Павловой, сцене выхода Карсавиной в «Жар-птице» (1910) и в монологе Петрушки (1911), исполненном Нижинским. Все три номера, будучи размышлениями об индивидуальности, представляют собой трагедию осведомленности; в каждом из них исполнитель приходит к осознанию конечности и беспомощности человеческого бытия. Образцовым в этом отношении был «Умирающий лебедь»: выраженное в нем чувство оказалось настолько универсальным, что неизменно вызывало рукоплескания публики в течение всех двадцати шести лет, пока Павлова исполняла его.