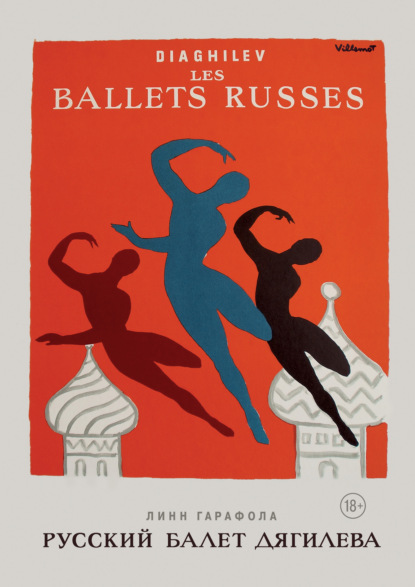По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русский балет Дягилева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сирил Бомонт, наблюдавший его множество раз, писал:
Никто из тех, кто не видел этот танец, не может представить себе, какое впечатление он производит на умы и сердца зрителей: трогательный трепет рук, медленное оседание тела, печальный взгляд и финальная поза, когда все замирает, вызывают столь глубокое и переполняющее чувство, что проходит некоторое время, прежде чем зритель становится способен выразить свой восторг посредством аплодисментов[88 - Beaumont, Fokine, p. 26.].
Фокинская балерина отнюдь не была первым «птичьим» персонажем, погибавшим на сцене. Однако, в отличие от Одетты в «Лебедином озере», она умирает в полном осознании собственной агонии, она ощущает постепенное угасание жизни, приближение к грани смерти. Хотя она и подчиняется судьбе, но не сдается ей; содрогания ее крыльев утверждают жизнь; они выражают некий безнадежный протест.
Соло Карсавиной в «Жар-птице» построено на сходной дихотомии, на противопоставлении борьбы и существования взаперти. Впрочем, балет имеет политический подтекст: как и опера Римского-Корсакова «Кощей Бессмертный», он представляет собой сказку о наказанной тирании. В образе Ивана-царевича Фокин превращает традиционного принца-охотника в дарителя героине не столько свободы, сколько несвободы. Весь балет в целом, по существу, построен вокруг конфликта свободы и власти, причем последняя воплощена не только в образе Ивана – будущего царя, но и в образе ужасного Кощея, свергнутого с престола народом, состоящим из заколдованных царевен, болибошек, туземцев, «вооруженных» золотым пером Жар-птицы. На свободе Жар-птица блещет силой существа, живущего во всей полноте; в неволе она выступает проявлением беспомощности индивидуальности самой по себе. Эти две ее ипостаси олицетворяют драматические события 1905 года – взлет надежд и их стремительное падение, порывы, так никогда и не осуществившиеся.
В «Петрушке», наоборот, Фокина интересует личность как социальный и психологический феномен. Вновь его протагонист взят из коллекции балетных персонажей, и вновь он интерпретирует его как экзистенциального героя. Как и другие «страдальцы» Фокина, Петрушка приходит к осознанию трагедии своей несвободы: он понимает, что его человеческая душа никогда не вырвется из клетки кукольного тела и никогда не освободится из подчинения Фокуснику под взглядом окружающей толпы; что любовь, терзающая его сердце, обречена, подобно его мужскому естеству, существовать лишь в виде бессильного желания – сколько бы он ни бился о стены клетки и ни «умерщвлял свою плоть» в знак протеста. В современной балету критике Бенуа утверждал, что «трагическая направленность» балета происходит от «самого столкновения одинокой души Петрушки с душой толпы. Вся роль [Нижинского] состояла в том, чтобы передать пафос угнетенной личности и ее беспомощные попытки сохранить свое счастье и достоинство»[89 - Roland John Wiley, “Benois’ Commentaries on the First Saisons Russes”, Part VII, Dancing Times, April 1981, p. 465. Статья Бенуа была первоначально опубликована в газете «Речь» от 4 августа 1911 г.].
Петрушка, смесь Панча и Пьеро, обращался напрямую к поколению, воспитанному на ярмарочных представлениях и поэтизированных картинах комедии дель арте. Символизм высоко ценил последнюю, как и «Мир искусства» – судя по таким картинам, как «Итальянская комедия» Бенуа или «Арлекин и дама», одно из полотен Константина Сомова, изображавшим сцены с участием Арлекина и Коломбины[90 - Репродукции обоих полотен были опубликованы в: Gabriella Di Mila, Mir Iskusstva – Il Mondo Dell’Arte: Artisti Russi dal 1898 al 1924 (Naples: Societa Editrice Napoletana, 1982), plates 2 and 6. Картина Сомова «Арлекин и Смерть» воспроизведена в: Bowlt, Silver Age, p. 213. Исследование Боултом темы Арлекинады в творчестве Сомова см. на с. 211–215.]. Тем не менее большее значение для балета имело возвращение этой темы на драматическую сцену.
«Балаганчик» Александра Блока был не первой встречей Мейерхольда с материалом комедии дель арте. (В 1903 году в провинциальном Херсоне он ставил малоизвестную мелодраму Франца фон Шентана «Акробаты».) Но именно этот спектакль оставил яркий след в театральной истории. Его премьера в театре Веры Комиссаржевской вызвала бурную реакцию у публики: по словам свидетелей, «возгласы одобрения тонули в пронзительном свисте и гневных криках»[91 - Цит. по: Braun, Meyerhold, p. 72. Следует заметить, что одна из четырех работ, поставленных Фокиным для благотворительного вечера в поддержку народной Гребловской школы, состоявшегося в Мариинском театре 8 апреля 1906 г., называлась «Ревность Пьеро». К сожалению, об этом спектакле, показанном на восемь месяцев ранее премьеры «Балаганчика», нам ничего не известно.]. «Балаганчик» предвосхитил внутреннюю драму «Петрушки» в нескольких смыслах: в образах, взятых из комедийного арсенала; в любовном треугольнике, где за сердце Коломбины бьются Арлекин и Пьеро; в противопоставлении наивности и коварства, истинной любви и притворства, поэтической проникновенности и поверхностной эмоциональности. Более того, в отношении хореографии пьеса и балет обнаруживают теснейшее сходство. Режиссура Мейерхольда «свела» персонажей к «типичным для них жестам»: Пьеро всякий раз вздыхал и взмахивал руками почти так же, как пять лет спустя будет делать Петрушка. Как кукла Нижинского, Пьеро в исполнении Мейерхольда представлял собой фигуру, граничащую с гротеском. Угловатый, язвительный и вместе с тем вызывающий глубокое сочувствие, он «не имел ничего общего, – писал один критик, – с привычными фальшиво-приторными и жалостливыми Пьеро»[92 - Ibid. Р. 70.].
Фокина, должно быть, привела в восхищение игра Мейерхольда: не случайно он пригласил его в 1910 году на роль Пьеро в «Карнавале». (В своих воспоминаниях Фокин называет участие режиссера «неожиданным», и это звучит довольно странно, учитывая то, что Фокин пользовался полной свободой в выборе и приглашении исполнителей. Безусловно, энтузиазм танцовщиков по поводу постановки сильно возрос. Бронислава Нижинская писала: «“Дягилевцы-фокинисты” заволновались: все мечтали участвовать в новом балете»[93 - Фокин М. Против течения… С. 219; Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 33.].)«Карнавал» был многим обязан «Балаганчику». Как и в пьесе Блока, там смешивались элементы комедии и реальности: среди персонажей традиционной арлекинады появлялись и гости в карнавальных масках. В обоих спектаклях преобладал иронический тон, и в обоих случаях сцена была затянута синими драпировками. Премьера прошла в ходе бала, организованного журналом «Сатирикон». В финальном танце исполнители смешивались с публикой, что весьма соответствовало известному мейерхольдовскому высказыванию того времени – «разбить рампу». (В возобновлении пьесы Блока 1908 года у Мейерхольда «Автор» озвучивал свои протесты из публики, а годом раньше в постановке «Победы смерти» исполнители в прологе выходили из глубины зрительного зала.) В довершение всего, обе постановки объединял образ Пьеро, одинокого мечтателя, который воплощал трагедию поэта среди мещанской толпы. «Стилизованные жесты» Мейерхольда, писала одна из актрис – участниц первой постановки, «были внушены ему музыкальными понятиями о создании образов; они были красноречивы, потому что… их подсказывал внутренний ритм роли»[94 - Цит. по: Braun, Meyerhold, p. 70.]. Внутренний ритм был характерен и для мейерхольдовской игры в «Карнавале».
Нижинская, выступавшая в этой роли, вспоминала:
Бесшумно преследовал Пьеро улетавшую от него бабочку. Прячась, он перебегал от одного дивана к другому, украдкой выглядывая то оттуда, то отсюда, потом неожиданно кидался за мной, я убегала со сцены, и он терял меня из виду. Пьеро казалось, что бабочка где-то на земле, он накрывал ее шапочкой и, размахивая руками, прыгал от радости. Затем ложился на пол рядом с шапочкой и осторожно, чтобы не помять нежные крылья бабочки, приподнимал ее край. Подрагивание рук Мейерхольда прекрасно передавало трепетание бабочки под шапочкой. Он был весь в волнении, ему так не терпелось близко взглянуть на это прекрасное и недоступное создание. Когда же Пьеро обнаруживал, что бабочка исчезла, что ее нет под шапочкой, взгляд его был полон такого душераздирающего разочарования, такого отчаяния! Он грустно надевал шапочку, натягивал ее на лоб, а затем, повеся голову и безвольно болтая длинными белыми руками, медленно большими шагами пересекал авансцену и исчезал[95 - Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 35.].
На вопрос о влиянии Мейерхольда на Фокина не так легко ответить. Прежде всего, сведений об этом довольно мало. Потом, существует «прометеевский» миф, который породил сам Фокин: если верить его мемуарам, заслуга создания «нового балета» принадлежит ему одному. Однако то, что Мейерхольд и Фокин сотрудничали, – документально зафиксированный факт. Кроме «Карнавала», они вместе работали над «Саломеей» Оскара Уайльда, показанной в 1908 году в Михайловском театре, над постановкой «Орфея и Эвридики» Глюка в Мариинском театре в 1911 году и «Пизанеллой» Габриеле Д’Аннунцио, поставленной в Париже в 1913 году для Иды Рубинштейн. Более того, после 1908 года, когда Мейерхольд стал штатным режиссером Императорских театров, они с Фокиным существовали в одном и том же артистическом окружении, что давало им возможность наблюдать за достижениями друг друга. Есть основания предположить, что Фокин знал о частных постановках Мейерхольда, его камерных работах, чаще всего экспериментального толка, которые он создавал вне стен Императорских театров. Одной из них, показанной в конце 1908 года в театре при одном из актерских клубов Петербурга, был фольклорный фарс Петра Потемкина «Петрушка». Оформленный Добужинским и Билибиным, этот спектакль наверняка обратил на себя внимание Фокина – если и не напрямую, то через Бенуа, который не только лично знал Билибина и Добужинского, но и был автором критических отзывов на ряд постановок Мейерхольда тех лет[96 - Об отзывах Бенуа на постановки «Победа смерти» (1907), «Тристан и Изольда» (1909), «Дон Жуан» (1910), «Борис Годунов» (1911), «Орфей и Эвридика» (1911) и «Заложники жизни» (1912) см.: Braun, Meyerhold, рр. 83, 98, 109, 111, 113, 114, и Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М.: Наука, 1969. С. 137, 138, 142, 149, 159, 160, 179, 190, 192, 197, 198.].
В мемуарах Фокина упоминание о Мейерхольде встречается лишь однажды. Знаменательно, что хореограф говорит о нем лишь в связи с постановкой «Карнавала» и подчеркивает только его мастерство как мима, упоминая о том, что именно «Карнавал» посвятил режиссера-новатора в тайны ритмического движения[97 - Фокин М. Против течения… С. 219, 220.]. Как нам известно, это не соответствует истине и в данном контексте выглядит совершенно неоправданным – как будто Фокин после долгих лет затаенной злобы наконец нашел способ уменьшить заслуги Мейерхольда. Источником этой злобы стала, надо полагать, постановка «Орфея и Эвридики» – необычный эксперимент, над которым они работали совместно, пытаясь преобразовать сцену в динамичную, многогранную конструкцию. Чтобы избежать дисгармонии между хором и кордебалетом, было принято решение – кто его предложил, мы, возможно, так и не узнаем – смешать их, отдав всю получившуюся массу под руководство Фокина. В письме Сирилу Бомонту, опубликованному в русском издании его мемуаров, он писал:
Я задумал так, при поднятии занавеса вся сцена покрыта недвижными телами. Группы в самых неестественных позах, как бы замерев в судороге, в ужасной адской муке облепили высокие скалы и свешивались в пропасти… Во время пения хора… вся эта масса тел делала одно медленное движение, один страшный коллективный жест. Будто одно невероятных размеров чудовище, до которого дотронулись, зловеще поднимается. Один жест во всю длинную фразу хора. Потом вся масса, застыв на несколько минут в новой группе, так же медленно начинает съеживаться, потом переползать. Все, изображающие теней, вся балетная труппа, весь хор мужской и женский и вся театральная школа, и сотни статистов – все это ползло, меняясь местами… Конечно, никто бы из публики не мог понять, где начинается балет, где кончается хор[98 - Фокин М. Против течения… С. 500, 501. Также цит. по: Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. С. 148. Другие отзывы о постановке см.: Beaumont, Fokine, рр. 81–83; Braun, Meyerhold, рр. 115–119.].
Фокин поставил еще несколько сцен или участвовал в их постановке, и в программке он, как и Мейерхольд, был обозначен как режиссер. Тем не менее он считал, что Мейерхольд преуменьшил степень его участия, и позднее Фокин чуть ли не утверждал, что являлся постановщиком практически всей оперы. Их разногласия стали достоянием прессы, и хотя после премьеры страсти немного поутихли, самолюбие Фокина было глубоко уязвлено. Однако куда более тяжелым для него стало прекращение сотрудничества с Мейерхольдом. (При постановке «Пизанеллы» для Иды Рубинштейн они работали вместе постольку, поскольку оба были приглашены, но это не было творческим союзом.) Разрыв с Мейерхольдом был злополучным вдвойне: Фокин в единый миг потерял своего союзника в кругах Мариинского театра и утратил тот экспериментаторский импульс, который в скором времени мог бы положить начало модернизму. Спустя менее полугода он понес еще одну, столь же болезненную, утрату. Покинув Русский балет, он расстался с балетной семьей, которая питала его хореографию с 1905 года. Около 1912 года наиболее плодотворный период в его карьере окончился.
В экзистенциальных героях Фокина нашла отражение одна из граней его понимания личности – хрупкость индивидуальной свободы и трагедия ее утраты. Другие роли прославляли иных героев: свободолюбивых личностей, живущих вне правил, принятых в обществе. Эти раскрепощенные герои – большей частью экзотические и обычно мужского пола – облекали мечту о свободе во плоть человеческих возможностей. Они превозносили силу людей, которые живут по своим инстинктам, реализуя свою истинную сущность и преступая рамки внешних приличий. Образцом такого героя был Золотой раб из «Шехеразады», станцованный Нижинским: первобытный человек, в образе которого, начиная с его появления на сцене и до последнего смертельного спазма, ярко воплощалась идея полностью освобожденной индивидуальности и ее неизбежного конфликта с обществом. Ныне «Шехеразада» кажется верхом балетной манерности. Шах, заподозрив любимую жену в неверности, уезжает из дому, чтобы испытать ее; возвращаясь, он застает гарем в разгаре оргии, а Зобеиду – в объятиях ее Золотого раба. Сверкают ятаганы – и вот уже занавес падает, закрывая сцену, полную трупов. Со времен Фокина секс уже вышел за пределы сераля. Но в 1910 году он все еще представлял собой запретный плод. Изображение вожделения и недозволенных отношений в «Шехеразаде» лишь отчасти говорило о страсти, рушащей супружеские узы. Гораздо важнее было, насколько взрывным оказался этот акт, который возвращал его участникам то, чего их лишал Шах, – свободу, тела и собственные личности любовников. Не менее смелым было изображение мужественности в лице исполнителя главной роли. Золотой раб скорее силой добивался своей госпожи, чем ухаживал за ней, скорее выставлял, чем прятал свое тело, в большей степени высвобождал свою физическую удаль, чем обуздывал ее. Фокинский первобытный раб был воплощением секса и делал на сцене то, что респектабельные джентльмены могли делать только в своих фантазиях.
Заглавная роль в «Видении Розы», также исполненная Нижинским, была построена вокруг подобной же темы: стремления мужчины, пренебрегающего устоями, недозволенно завладеть недоступной женщиной. Впрочем, в этой постановке тема секса была смягчена, идеализирована, приведена к романтике. Сераль превратился в будуар, гаремная жена – в незамужнюю дочь, агрессивный сластолюбец – в женоподобное существо в розовых лепестках. Как и в «Шехеразаде», двигателем действия служит вторжение. Как описывал Сирил Бомонт,
от его волшебного прикосновения [девушка] поднимается с кресла, чтобы соединиться с духом розы в постоянно ускоряющемся нежном вальсе. Ее высокие прыжки так грациозны, что кажется, будто и она оставила свою земную плоть. Они вместе взлетают в неподвижном воздухе, приведенные в движение магическим прикосновением его руки[99 - Cyril W. Beaumont, Complete Book of Ballets: A Guide to the Principal Ballets of the Nineteenth and Twentieth Centuries (London: Putnam, 1937), p. 715.].
Девушкам из хороших семей не был позволителен легкий флирт, что делало их еще более привлекательными для эротических фантазий. Таким же недозволенным для мужчин, исключая сферу их фантазий, было явно женоподобное поведение. Мужчины, должно быть, вступали в интимные отношения, но скрывали это; в салонах и гостиных они придерживались гетеросексуальности в стиле одежды и в манерах. Нижинский открыто не следовал ни тому ни другому. Мужественный по силе своих прыжков и женственный в изящных движениях рук, он распространял вокруг себя флюиды эротического своеобразия; казался живым воплощением третьего пола, ураническим наслаждением от высвобождения своей истинной сущности.
Индивидуализм как сила, преступающая законы, был темой других мужских ролей, в частности некоторых ролей, исполненных Адольфом Больмом. Великолепный характерный танцовщик, среди мужской части довоенной труппы Дягилева уступавший по таланту только Нижинскому, Больм на сцене был воплощением стихии; его выступления наводили на мысль о звере, живущем в глубине человеческой личности, варваре, так и не прирученном цивилизацией. В постановке «Тамары» его танец обольщения в роли пленного Князя блистал силой и страстью. Бомонт писал:
Он подпрыгивает вверх, делает резкие рывки головой и так сгибает ноги под собой, что с каждым прыжком его тело становится изогнутым, как натянутый лук. Он прыгает выше и выше, его ноги топают, изгибаются и поворачиваются, все быстрее и быстрее, под бешеный стук барабанов. Царица с удовлетворением ловит его лихорадочный взгляд, наблюдает его неистовые движения. Она присоединяется к танцу, и их губы сливаются в страстном поцелуе[100 - Ibid. P. 715.].
За сценой царица и пленник совокупляются; на сцене она вонзает кинжал в его сердце. Как и в «Шехеразаде», утверждение свободы посредством запретного соития приводит к смерти.
Только «Половецкие пляски», первый балет Фокина, созданный под покровительством Дягилева, представляют собой иной случай. Там правит добродетель первобытного мужчины (в исполнении Больма), вождя половцев, и его воинов, приумножающих присущие ему героизм и волю к сопротивлению. Как и Нижинский, Больм совершал прыжки, рассеивая группы, обрамляющие сцену. «Все его существо, – пишет Бомонт, – пульсирует в наивысший момент его дикого ликования. Он постоянно кружится, прыгает вверх, вращается в воздухе и приземляется в гущу танцовщиков. Его брови изогнуты, голова запрокинута, из широко открытого рта разносится хриплый, задыхающийся вопль триумфа»[101 - Ibid. P. 686.]. В конце балета это ликование становится коллективным: ряды воинов пересекают друг друга, сотрясая воздух прыжками, землю – луками, распаляя дух хриплыми возгласами до тех пор, пока тела на сцене не превращаются в единую клокочущую живую массу. Обозреватель газеты «Ле Тан» писал в 1909 году:
Был момент, когда весь зал, увлеченный неистовством танцев восточных рабов и половецких воинов в конце «Князя Игоря», был готов встать и схватиться за оружие. Энергичная музыка, лучники, пламенные, дикие и жестокие, вся эта человеческая смесь, мелькание оружия, рук и разноцветных костюмов, казалось, на миг вскружили головы парижской публике, ошеломленной лихорадочным и безумным движением[102 - Jules Claretie, “La Vie ? Paris”, Le Temps, 21 May 1909, p. 2.].
Хотя драматический реализм был излюбленным принципом Фокина, его освобожденным героям была чужда психология. С начала и до конца они оставались одними и теми же – полностью реализованными существами, чьи роли обозначали психическое пространство, где подсознание выходило из своих границ и торжествовало. Визуально это пространство тоже было обозначено, отгорожено от более широкого игрового пространства сцены, словно небольшой театр индивидуальной фантазии: в «Шехеразаде» Золотой раб внезапно появлялся из закрытых дверей в глубине сцены; в «Видении Розы» герой влетал сквозь окно будуара; в оригинальной версии «Карнавала» действующие лица входили через складки занавеса, окружавшего сцену. Во многих балетах Бакст разместил на сцене массивные вертикали – колонны (в «Клеопатре»), храмы на скале (в «Синем боге»), деревья (в «Дафнисе и Хлое»), – которые создавали одновременно и изоляцию, и тягостную атмосферу драмы. Широкий занавес, протянутый из верхнего угла сцены в «Шехеразаде», служил тому же воздействию – как и крутые, направленные вверх диагонали в «Тамаре», сходившиеся в вершине монументального треугольника. Во всех этих балетах окружение, подобно огромной руке, нависает над попирающими устои главными героями. Если массивные и всеокружающие формы Бакста символизировали общество, враждебное личным стремлениям человека, то его пространства, манящие обещанием тайных наслаждений, и его цвета – теплые, яркие, интенсивные – увеличивали эмоциональность внутренней драмы. Бакст «использовал цвета символически, – писал один из критиков, – чтобы передать эмоции или вызвать желаемую реакцию у публики»[103 - Mayer, “The Theatrical Designs of Leon Bakst”, p. 182.]. Он делал это сознательно: как художники и поэты-символисты, он искал способ соединения чувственных впечатлений с эмоциональными состояниями и мысленными образами. Бакст писал в 1915 году:
Я часто замечал, что в каждом цвете спектра существуют градации, которые иногда выражают открытость и непорочность, иногда – чувственность и даже грубость, порой гордость, порой отчаяние. Это можно почувствовать и передать публике с помощью эффекта различных оттенков. Именно это я пытался сделать в «Шехеразаде». Напротив мрачного зеленого я поместил синий цвет, полный отчаяния, – это может казаться парадоксальным. Есть оттенки красного, которые убивают, и оттенки красного, которые выражают торжество… Художник, который знает, как это использовать, и дирижер оркестра, который может привести все это в движение одним взмахом палочки, не перемешивая оттенки… может создать у зрителя точно такое чувство, какое он желает вызвать[104 - Ibid.].
Как и Фокин, Бакст героизировал персонажа двумя путями: преувеличивая чувство, приписанное его личности, и демонстрируя его неподчинение рамкам социального окружения. Как визуально, так и хореографически это утверждение индивидуальности достигало эпических высот.
Фокин никогда не отказывался от языка балета. Но его эстетика освобождения требовала значительных изменений техники, которая отрабатывалась в классах Мариинского театра. Техника эта, в которой мягкость французской школы соединялась с бескомпромиссной виртуозностью итальянской, представляла собой самую суть искусства Петипа; ее особенности происходили из его хореографической практики и, в свою очередь, вдохновляли эту практику. К 1900 году эта связь прервалась. Поскольку созидательные силы Петипа пошли на спад, техника Императорских театров застыла на этапе его ранних шедевров: она превратилась в академический язык балета, который не терпел отступлений от своих законов. Синтаксис и лексика, бывшие для Петипа лишь средствами, стали теперь целями – в большей степени границами выразительности, чем инструментами ее создания.
С самого начала Фокин вел борьбу против академичности, от которой балет задыхался. Он сражался во имя красоты, веря, что танец – не демонстрация превосходного исполнения, а искусство поэтических образов. В 1904 году он писал:
Великая, выдающаяся особенность нового балета в том, что вместо акробатических трюков, призванных вызывать аплодисменты, и формальных выходов и пауз, нужных лишь для создания эффекта, должно быть только одно – стремление к красоте. В ритме телодвижений балет может найти способ выразить идеи, чувства, эмоции. Танец так же соотносится с жестикуляцией, как поэзия – с прозой. Танец – это поэзия движения[105 - Цит. по: Beaumont, Fokine, p. 23.].
Во имя поэзии Фокин освободил балет от обязательного требования виртуозности и от традиций, которые поддерживали это требование. Он преобразовал па-де-де, которое у Петипа имело фиксированную форму – адажио, сольные вариации и коду – в дуэт, гибкий по форме и предназначению. Отвергнув структуру Петипа, он покончил с вариациями, которые так часто служили демонстрацией хореографического мастерства; использовал па новыми и необычными способами, а также значительно дополнил устоявшийся канон поддержек. Более того, он сделал отношения партнеров подчеркнуто эмоциональными, превратив формальные соединения танцующих у Петипа в реалистичные встречи людей. В отличие от кавалера XIX века, стоявшего за балериной и на уровне талии удерживавшего ее в равновесии, танцовщики у Фокина выходили из тени своих партнерш, поддерживая их в различных контактных точках. За исключением нескольких обычных подъемов, отношение партнерства в «Шопениане» сконцентрировано в руках и кистях: первые создают образ единения пары, вторые способствуют выражению взаимного доверия. Хотя партнеры почти все время физически соприкасаются друг с другом, они остаются тем не менее на расстоянии вытянутой руки; будучи самостоятельными личностями, они стремятся друг к другу в добровольном порыве. В «Видении Розы» Фокин полностью отказался от поддержки за талию: там, в мире сновидения, тела касаются друг друга легко, как крылья бабочки. Вновь руки берут на себя бо?льшую часть веса; задействуются запястья – например, в arabesque penchеe, когда партнеры соприкасаются в первый раз; при подъемах руки исчезают на уровне подмышек, будто отказываясь от своей роли в воплощении желания балерины взлететь. Если Фокин в той или иной мере использовал талию – как это было в «Жар-птице», – он превращал ее в точку манипуляции, символ попадания в ловушку. Иван-царевич стоит за своей добычей, дерзко схватив ее; она извивается, наклоняется, вертится, тянется к его рукам, надеясь отдалиться от него, чтобы они оказались в разных пространствах – каждый в своем. Противопоставляя старый и новый принципы построения дуэта, Фокин обнаруживал идеологические предпосылки каждого из них.
Нельзя сказать, чтобы Фокин полностью избегал бравурного танца. Однако он использовал его элементы скупо и нешаблонно, пытаясь любыми способами избежать того, чтобы он стал поводом для аплодисментов. Он отказался от последовательных повторов. В мужских соло из «Видения Розы» и «Шопенианы» единственное антраша заменяло серии из четырех, восьми или даже шестнадцати, какие Петипа обычно использовал в вариациях. В то же время Фокин включил бравурные па в контекст танцевальных номеров. Как в «Видении Розы», так и в «Карнавале» многочисленные пируэты и grands jetеs – традиционные па мужского бравурного танца – пульсируют в череде движений: они начинаются с минимальных препарасьонов и заканчиваются в коротком плие; ни одна пауза или поза не прерывает движение фразы – и не дает публике повода разразиться аплодисментами. Отвращение Фокина к виртуозным стереотипам, переходящее в пародию, было основной темой «Петрушки», и главный удар при этом был обрушен на женский бравурный танец. Роль Балерины, по сути, символизировала то, что он презирал сильнее всего: склонность к техническим фокусам (ее вариация состояла в основном из острых еchappеs и мелких прыжков на пуантах, passеs relevеs и быстрых фуэте) и к бессмысленной демонстративности, а заодно и более мелкие огрехи: затянутые препарасьоны, нарочитую выворотность, руки венчиком, рваную фразировку – все, чего он не допускал в своей «правильной» хореографии. В «Петрушке» была и вторая пародия на балерину – Уличная танцовщица, девчонка-сорванец, исполнявшая трюки для участников карнавальных гуляний. В своих «Ранних воспоминаниях» Бронислава Нижинская, исполнявшая эту роль, прямо говорит о том, что объектом пародии была не кто иная, как Кшесинская, prima ballerina assoluta Мариинского театра, фаворитка великого князя и заклятый враг Фокина и «нового балета»:
– Ну, что же мне для вас поставить, Бронислава Фоминична? Уличная танцовщица-акробатка. Вы знаете какие-нибудь трюки? Умеете делать шпагат или быстро крутиться на одной ноге, высоко подняв другую?
Я ответила шутя:
– Михаил Михайлович, если вам требуется что-нибудь акробатическое, я станцую балеринскую часть коды из «Талисмана».
И я проделала все кабриоли и relevеs на пальцах так, как их исполняла Матильда Кшесинская под громовые аплодисменты петербургских балетоманов.
– Замечательно. Именно то, что нужно, – смеясь, сказал Фокин[106 - Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 130. В 1915 г. в Мариинском театре Фокин создал первую роль для Кшесинской – роль Юной девушки в «Эросе», мечтательный танец в духе Тальони на музыку «Серенады для струнного оркестра» Чайковского. Балет, очевидно, имел успех, хотя Андрей Левинсон подозревал Фокина в неискренности: «Применены и заноски, и сложные пируэты, как бы идущие навстречу виртуозным навыкам М. Ф. Кшесинской». «Эрос» сохранялся в репертуаре по меньшей мере до 1918–1919 г., то есть все время, пока Баланчин учился в средних классах Императорского театрального училища. В 1935 г. он использовал музыку Чайковского для своего балета «Серенада». См.: Левинсон А. Старый и новый балет. С. 128. Фрагменты других отзывов см.: Mathilde Kchessinska, Dancing in Petersburg, trans. Arnold Haskell (New York, 1961; rpt. New York: DaCapo, 1977), pp. 155, 156. О балетах Фокина в послереволюционном репертуаре см.: Yuri Slonimsky, “Balanchine: The Early Years”, trans. John Andrews, ed. Francis Mason, Ballet Review, 5, No. 3 (1975–1976), pp. 25, 26.].
Антиакадемичность Фокина замечательно просматривалась в том, как он использовал корпус и руки: первый был освобожден от корсета вертикальности, вторые – от смирительной рубашки округлых форм. Его целью в обоих случаях было повышение выразительности тела путем расширения его контуров, увеличения его пластичности и трехмерности его нахождения в пространстве. Эти реформы оказались революционными. Менее чем за десяток лет он изменил облик танцовщицы и заново создал ее тело. Несмотря на то что танец, особенно балетный, требует устойчивости и ловкости, подобающих гимнасту, танцовщицы XIX века постоянно затягивали себе талии. Такие педагоги, как Энрико Чекетти (который периодически вел балетный класс в труппе Дягилева в 1920-е годы), выступали за необходимость шнуровки, объясняя это тем, что корсет поддерживает спину, но были, очевидно, и другие, еще менее преодолимые причины. Одной из них была мода: до Первой мировой войны самые элегантные дамы носили корсеты. Другая причина крылась в самой балетной технике: при наклонах корпус редко отклонялся от вертикальной линии; подвижность была сконцентрирована в ногах.
Фокин, наоборот, в работе действовал смело и раскованно. Его «мимика всего тела» требовала от корпуса такой же гибкости и выразительности, как и от конечностей. Избавив женщин от корсетов, он дал свободу и талии, и спине; отказавшись от строгого следования вертикали, провозгласил красоту изогнутых линий. Фокинские перегибы назад и наклоны вперед, рывки в стороны и повороты в талии превращали тело в способную к расширению спираль. В сфере эмоций он также осваивал неизведанные территории. В то время как в «Шехеразаде» гибкость сидящих альмей была пронизана чувственностью, в «Нарциссе» вакханки взлетали с высоко поднятым коленом в экстатической пляске. Как и глубокий изгиб назад, этот скачок стал фирменным знаком Фокина, который он использовал в нескольких балетах. Эти два движения были связаны между собой: в серии хореографических набросков к «Синему богу», воспроизведенных в русском издании воспоминаний Фокина, обнаженная женская фигура выгибается назад, наклоняется вперед в скачке и затем пускается в бег с запрокинутой назад головой – это выражение ликующего, дикого динамизма[107 - Фокин M. Против течения… С. 297.]. Отбросив закругленные и прямоугольные формы академического стиля, Фокин использовал руки танцующего, чтобы увеличить размах его движения, открыть верхнюю часть тела и усилить общее впечатление импровизационности. «Руки, – говорил он одному из американских учеников много лет спустя, – это не рисунки на стене, а горизонты»[108 - Цит. по: Dawn Lille Horwitz, “A Ballet Class With Michel Fokine”, Dance Chronicle, 3, No. 1 (1979), p. 42.]. Фокин позволил рукам танцовщика широко раскрыться наружу и над головой, позади него и впереди; он использовал руки несимметрично – не для того, чтобы обрамлять тело, но для того, чтобы придать его форме трехмерность, сделать его округлым, а не плоским. Кроме того, он настаивал, чтобы руки производили естественное впечатление, чтобы они, как зеркало души, раскрывали самую глубину чувств танцовщика и передавали эти личные эмоции зрителю.
Не меньше, чем хореография, освобождению тела служили костюмы. Как и Фокин, Бакст стремился сделать свободными спину и живот. Он одевал женщин в туники и восточные шаровары, в мягкие ниспадающие одеяния, которые высвобождали торс из сдавливающего лифа балетной пачки. В его костюмах оставались обнаженными необычные участки тела: в «Клеопатре» был виден пупок, в «Шехеразаде» – нижняя часть позвоночника; в некоторых балетах ноги выглядывали из разреза на юбке. (Груди, которые свободно выставлялись из туники на некоторых эскизах, на сцене всегда были благопристойно прикрыты.) Ноги были вдвойне обнажены, так как в экзотических и «греческих» балетах танцовщики часто выступали без трико, открывая взору публики живую плоть ноги и ее форму. Пачка, конечно, также приоткрывала тело – руки и плечи выше лифа, колени и низ ног ниже многослойной юбки. Кроме низа, впрочем, все открытые части костюма выглядели пристойно, сродни вырезам у вечернего туалета: затянутая талия и пышная юбка скрывали среднюю часть тела. Бакст обладал даром скрывать ее очень искусно, что и привлекало к ней внимание. Созданные им гаремные шаровары подчеркивали линию ягодиц, тот же эффект создавали и полотнища туники, сшитые высоко на бедрах. Силуэт «песочных часов», характерный для Belle Еpoque[109 - Прекрасная эпоха (франц.) – период в истории Франции, охватывающий конец XIX – начало XX в. – Примеч. пер.], уступил место естественному, ничем не стесненному телу. Свободные движения тела, таким образом, лишь увеличивали впечатление обнаженности и естественности. В отличие от пачки, которая либо стесняла тело, либо подлетала по его окружности, костюм, придуманный Бакстом, совершал движения вместе с телом, делая эти движения струящимися, свободными и широкими. Если силуэт танцовщицы Императорских театров напоминал вертикальную фигуру, заключенную в круг, то ее преемница у Фокина олицетворяла саму идею движения.
Не менее неортодоксальные костюмы Бакст создавал для мужчин. У танцовщиков также были открыты некоторые части тела. Однако, как и у балерин, тело приоткрывалось лишь избирательно и всегда пристойным образом; мужчина – герой балета соблюдал условности. На ногах у него было облегающее трико, бедра были целомудренно прикрыты театрализованным вариантом светского наряда. В императорских балетах, оформленных в античном стиле, плечи и ключицы были закрыты туниками: женщины могли оставлять их открытыми, мужчины – никогда. Бакст же придерживался удивительной свободы в создании костюмов для танцовщика, делая их либо явно открытыми, либо явно женскими. В заглавной роли «Видения Розы» Нижинский выступал в облегающем костюме, расшитом лепестками, в роли Золотого раба в «Шехеразаде» – в наряде танцующей гурии. Костюмы для балетов «Нарцисс» и «Синий бог» – с укороченной юбкой, четко обозначенной талией, выставленными напоказ ключицами и плечами – не слишком соответствовали традиционному представлению о мужественности. Даже Больм, «настоящий мужчина» в составе труппы, в роли Даркона в «Дафнисе и Хлое» выходил в свободно ниспадающей тунике, окутывавшей тело атмосферой «естественной» женственности.
В том, что Бакст «одел» столько балетов той поры в костюмы, на которые его вдохновили греческие одеяния, можно усмотреть влияние танцовщицы, упомянутой нами лишь вскользь, несмотря на то что она стала вдохновительницей создания «нового балета». Айседора Дункан впервые выступала в Петербурге в декабре 1904 года. Она вновь приезжала в начале следующего года, затем в декабре 1907-го и в апреле 1909-го – эти визиты совпадали по времени с первыми хореографическими начинаниями Фокина. Ее дебют был значительным событием: в престижном зале Дворянского собрания сидели сливки петербургского художественного и высшего общества. Два ее выступления (первая программа целиком состояла из произведений Шопена, вторая носила название «Танцевальные идиллии») имели «невероятный успех и были признаны среди танцовщиков и любителей танца сенсационными, эпохальными событиями»[110 - Francis Steegmuller, “Your Isadora”: The Love Story of Isadora Duncan and Gordon Craig (New York: Random House and The New York Public Library, 1974), p. 40.]. Как и плеяда звезд Мариинского театра, «Мир искусства» явился на ее концерт в полном составе; Бенуа высказался о ней в печати. Фокин, со своей стороны, был покорен. Дягилев, позже утверждавший, что эти двое посещали ее концерты вместе, писал, что «Фокин не на шутку увлекся ею, и влияние Дункан было изначальной основой всего его творчества»[111 - С. Дягилев. Письмо к У. А. Проперту от 17 февраля 1926 г. Цит. по: W. A. Propert, The Russian Ballet 1921–1929, preface Jacques-Emile Blanche (London: John Lane, 1931), p. 88. О первом петербургском концерте Дункан см.: Steegmuller, Your Isadora, гл. 3 и примеч.]. Это утверждение Дягилева стоит рассматривать скептически – и не только потому, что оно было высказано в личной переписке спустя двадцать лет после самого факта, но также потому, что к 1926 году он стал считать Фокина вышедшим из моды хореографом. (То, что спрос со стороны критиков и публики заставил его именно тогда возобновить несколько фокинских балетов, в том числе «Жар-птицу», должно быть, обострило его язвительный тон.)
Тем не менее самая суть его утверждения была верна. Фокин был поражен, и даже в самые тяжелые дни 1930-х, когда горечь помутила его рассудок, Дункан оставалась яркой звездой его юности. Как сказано в гимне шейкеров[112 - Шейкеры – протестантская религиозная группа, основанная в Англии в 1747 г. – Примеч. пер.], «быть простым – это дар», и хотя Дункан выросла в богемной и феминистской атмосфере Сан-Франциско, природа наделила ее этой шейкеровской добродетелью, которая стала, в свою очередь, ее даром Фокину. В редкостный момент осознания ее влияния он писал:
Дункан напоминала о красоте естественных движений… [она] доказала нам, что все примитивные, обычные, естественные движения – простой шаг, бег, поворот на обеих ногах, небольшой прыжок на одной ноге – намного лучше, чем все богатства балетной техники, если в угоду этой технике нужно пожертвовать грацией, выразительностью и красотой[113 - Фокин М. Против течения… С. 378.].
Все эти движения появились в хореографии Фокина. В «Шопениане» и «Видении Розы» они преобразовали словарь классического танца, облегчили его фактуру и четче очертили контуры. В других балетах они проявились как характерные особенности почерка, которые то и дело фиксировались фотографами того времени. В иных постановках они стали основой, на которой Фокин выстраивал целые танцы. В «Жар-птице» девичий двор Царевны окружает влюбленных ритмичным ходом; в «Половецких плясках» пленные девушки движутся по сцене с трепетным скольжением. Фокин долгое время осуждал акробатические трюки, поставленные для того, чтобы сорвать аплодисменты публики. За этими негативными отзывами стояла возвышенная простота Дункан, открывавшая ему взгляд на то, что могло бы быть; в ее танце он видел все богатство хореографических возможностей.
Никто из тех, кто не видел этот танец, не может представить себе, какое впечатление он производит на умы и сердца зрителей: трогательный трепет рук, медленное оседание тела, печальный взгляд и финальная поза, когда все замирает, вызывают столь глубокое и переполняющее чувство, что проходит некоторое время, прежде чем зритель становится способен выразить свой восторг посредством аплодисментов[88 - Beaumont, Fokine, p. 26.].
Фокинская балерина отнюдь не была первым «птичьим» персонажем, погибавшим на сцене. Однако, в отличие от Одетты в «Лебедином озере», она умирает в полном осознании собственной агонии, она ощущает постепенное угасание жизни, приближение к грани смерти. Хотя она и подчиняется судьбе, но не сдается ей; содрогания ее крыльев утверждают жизнь; они выражают некий безнадежный протест.
Соло Карсавиной в «Жар-птице» построено на сходной дихотомии, на противопоставлении борьбы и существования взаперти. Впрочем, балет имеет политический подтекст: как и опера Римского-Корсакова «Кощей Бессмертный», он представляет собой сказку о наказанной тирании. В образе Ивана-царевича Фокин превращает традиционного принца-охотника в дарителя героине не столько свободы, сколько несвободы. Весь балет в целом, по существу, построен вокруг конфликта свободы и власти, причем последняя воплощена не только в образе Ивана – будущего царя, но и в образе ужасного Кощея, свергнутого с престола народом, состоящим из заколдованных царевен, болибошек, туземцев, «вооруженных» золотым пером Жар-птицы. На свободе Жар-птица блещет силой существа, живущего во всей полноте; в неволе она выступает проявлением беспомощности индивидуальности самой по себе. Эти две ее ипостаси олицетворяют драматические события 1905 года – взлет надежд и их стремительное падение, порывы, так никогда и не осуществившиеся.
В «Петрушке», наоборот, Фокина интересует личность как социальный и психологический феномен. Вновь его протагонист взят из коллекции балетных персонажей, и вновь он интерпретирует его как экзистенциального героя. Как и другие «страдальцы» Фокина, Петрушка приходит к осознанию трагедии своей несвободы: он понимает, что его человеческая душа никогда не вырвется из клетки кукольного тела и никогда не освободится из подчинения Фокуснику под взглядом окружающей толпы; что любовь, терзающая его сердце, обречена, подобно его мужскому естеству, существовать лишь в виде бессильного желания – сколько бы он ни бился о стены клетки и ни «умерщвлял свою плоть» в знак протеста. В современной балету критике Бенуа утверждал, что «трагическая направленность» балета происходит от «самого столкновения одинокой души Петрушки с душой толпы. Вся роль [Нижинского] состояла в том, чтобы передать пафос угнетенной личности и ее беспомощные попытки сохранить свое счастье и достоинство»[89 - Roland John Wiley, “Benois’ Commentaries on the First Saisons Russes”, Part VII, Dancing Times, April 1981, p. 465. Статья Бенуа была первоначально опубликована в газете «Речь» от 4 августа 1911 г.].
Петрушка, смесь Панча и Пьеро, обращался напрямую к поколению, воспитанному на ярмарочных представлениях и поэтизированных картинах комедии дель арте. Символизм высоко ценил последнюю, как и «Мир искусства» – судя по таким картинам, как «Итальянская комедия» Бенуа или «Арлекин и дама», одно из полотен Константина Сомова, изображавшим сцены с участием Арлекина и Коломбины[90 - Репродукции обоих полотен были опубликованы в: Gabriella Di Mila, Mir Iskusstva – Il Mondo Dell’Arte: Artisti Russi dal 1898 al 1924 (Naples: Societa Editrice Napoletana, 1982), plates 2 and 6. Картина Сомова «Арлекин и Смерть» воспроизведена в: Bowlt, Silver Age, p. 213. Исследование Боултом темы Арлекинады в творчестве Сомова см. на с. 211–215.]. Тем не менее большее значение для балета имело возвращение этой темы на драматическую сцену.
«Балаганчик» Александра Блока был не первой встречей Мейерхольда с материалом комедии дель арте. (В 1903 году в провинциальном Херсоне он ставил малоизвестную мелодраму Франца фон Шентана «Акробаты».) Но именно этот спектакль оставил яркий след в театральной истории. Его премьера в театре Веры Комиссаржевской вызвала бурную реакцию у публики: по словам свидетелей, «возгласы одобрения тонули в пронзительном свисте и гневных криках»[91 - Цит. по: Braun, Meyerhold, p. 72. Следует заметить, что одна из четырех работ, поставленных Фокиным для благотворительного вечера в поддержку народной Гребловской школы, состоявшегося в Мариинском театре 8 апреля 1906 г., называлась «Ревность Пьеро». К сожалению, об этом спектакле, показанном на восемь месяцев ранее премьеры «Балаганчика», нам ничего не известно.]. «Балаганчик» предвосхитил внутреннюю драму «Петрушки» в нескольких смыслах: в образах, взятых из комедийного арсенала; в любовном треугольнике, где за сердце Коломбины бьются Арлекин и Пьеро; в противопоставлении наивности и коварства, истинной любви и притворства, поэтической проникновенности и поверхностной эмоциональности. Более того, в отношении хореографии пьеса и балет обнаруживают теснейшее сходство. Режиссура Мейерхольда «свела» персонажей к «типичным для них жестам»: Пьеро всякий раз вздыхал и взмахивал руками почти так же, как пять лет спустя будет делать Петрушка. Как кукла Нижинского, Пьеро в исполнении Мейерхольда представлял собой фигуру, граничащую с гротеском. Угловатый, язвительный и вместе с тем вызывающий глубокое сочувствие, он «не имел ничего общего, – писал один критик, – с привычными фальшиво-приторными и жалостливыми Пьеро»[92 - Ibid. Р. 70.].
Фокина, должно быть, привела в восхищение игра Мейерхольда: не случайно он пригласил его в 1910 году на роль Пьеро в «Карнавале». (В своих воспоминаниях Фокин называет участие режиссера «неожиданным», и это звучит довольно странно, учитывая то, что Фокин пользовался полной свободой в выборе и приглашении исполнителей. Безусловно, энтузиазм танцовщиков по поводу постановки сильно возрос. Бронислава Нижинская писала: «“Дягилевцы-фокинисты” заволновались: все мечтали участвовать в новом балете»[93 - Фокин М. Против течения… С. 219; Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 33.].)«Карнавал» был многим обязан «Балаганчику». Как и в пьесе Блока, там смешивались элементы комедии и реальности: среди персонажей традиционной арлекинады появлялись и гости в карнавальных масках. В обоих спектаклях преобладал иронический тон, и в обоих случаях сцена была затянута синими драпировками. Премьера прошла в ходе бала, организованного журналом «Сатирикон». В финальном танце исполнители смешивались с публикой, что весьма соответствовало известному мейерхольдовскому высказыванию того времени – «разбить рампу». (В возобновлении пьесы Блока 1908 года у Мейерхольда «Автор» озвучивал свои протесты из публики, а годом раньше в постановке «Победы смерти» исполнители в прологе выходили из глубины зрительного зала.) В довершение всего, обе постановки объединял образ Пьеро, одинокого мечтателя, который воплощал трагедию поэта среди мещанской толпы. «Стилизованные жесты» Мейерхольда, писала одна из актрис – участниц первой постановки, «были внушены ему музыкальными понятиями о создании образов; они были красноречивы, потому что… их подсказывал внутренний ритм роли»[94 - Цит. по: Braun, Meyerhold, p. 70.]. Внутренний ритм был характерен и для мейерхольдовской игры в «Карнавале».
Нижинская, выступавшая в этой роли, вспоминала:
Бесшумно преследовал Пьеро улетавшую от него бабочку. Прячась, он перебегал от одного дивана к другому, украдкой выглядывая то оттуда, то отсюда, потом неожиданно кидался за мной, я убегала со сцены, и он терял меня из виду. Пьеро казалось, что бабочка где-то на земле, он накрывал ее шапочкой и, размахивая руками, прыгал от радости. Затем ложился на пол рядом с шапочкой и осторожно, чтобы не помять нежные крылья бабочки, приподнимал ее край. Подрагивание рук Мейерхольда прекрасно передавало трепетание бабочки под шапочкой. Он был весь в волнении, ему так не терпелось близко взглянуть на это прекрасное и недоступное создание. Когда же Пьеро обнаруживал, что бабочка исчезла, что ее нет под шапочкой, взгляд его был полон такого душераздирающего разочарования, такого отчаяния! Он грустно надевал шапочку, натягивал ее на лоб, а затем, повеся голову и безвольно болтая длинными белыми руками, медленно большими шагами пересекал авансцену и исчезал[95 - Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 35.].
На вопрос о влиянии Мейерхольда на Фокина не так легко ответить. Прежде всего, сведений об этом довольно мало. Потом, существует «прометеевский» миф, который породил сам Фокин: если верить его мемуарам, заслуга создания «нового балета» принадлежит ему одному. Однако то, что Мейерхольд и Фокин сотрудничали, – документально зафиксированный факт. Кроме «Карнавала», они вместе работали над «Саломеей» Оскара Уайльда, показанной в 1908 году в Михайловском театре, над постановкой «Орфея и Эвридики» Глюка в Мариинском театре в 1911 году и «Пизанеллой» Габриеле Д’Аннунцио, поставленной в Париже в 1913 году для Иды Рубинштейн. Более того, после 1908 года, когда Мейерхольд стал штатным режиссером Императорских театров, они с Фокиным существовали в одном и том же артистическом окружении, что давало им возможность наблюдать за достижениями друг друга. Есть основания предположить, что Фокин знал о частных постановках Мейерхольда, его камерных работах, чаще всего экспериментального толка, которые он создавал вне стен Императорских театров. Одной из них, показанной в конце 1908 года в театре при одном из актерских клубов Петербурга, был фольклорный фарс Петра Потемкина «Петрушка». Оформленный Добужинским и Билибиным, этот спектакль наверняка обратил на себя внимание Фокина – если и не напрямую, то через Бенуа, который не только лично знал Билибина и Добужинского, но и был автором критических отзывов на ряд постановок Мейерхольда тех лет[96 - Об отзывах Бенуа на постановки «Победа смерти» (1907), «Тристан и Изольда» (1909), «Дон Жуан» (1910), «Борис Годунов» (1911), «Орфей и Эвридика» (1911) и «Заложники жизни» (1912) см.: Braun, Meyerhold, рр. 83, 98, 109, 111, 113, 114, и Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М.: Наука, 1969. С. 137, 138, 142, 149, 159, 160, 179, 190, 192, 197, 198.].
В мемуарах Фокина упоминание о Мейерхольде встречается лишь однажды. Знаменательно, что хореограф говорит о нем лишь в связи с постановкой «Карнавала» и подчеркивает только его мастерство как мима, упоминая о том, что именно «Карнавал» посвятил режиссера-новатора в тайны ритмического движения[97 - Фокин М. Против течения… С. 219, 220.]. Как нам известно, это не соответствует истине и в данном контексте выглядит совершенно неоправданным – как будто Фокин после долгих лет затаенной злобы наконец нашел способ уменьшить заслуги Мейерхольда. Источником этой злобы стала, надо полагать, постановка «Орфея и Эвридики» – необычный эксперимент, над которым они работали совместно, пытаясь преобразовать сцену в динамичную, многогранную конструкцию. Чтобы избежать дисгармонии между хором и кордебалетом, было принято решение – кто его предложил, мы, возможно, так и не узнаем – смешать их, отдав всю получившуюся массу под руководство Фокина. В письме Сирилу Бомонту, опубликованному в русском издании его мемуаров, он писал:
Я задумал так, при поднятии занавеса вся сцена покрыта недвижными телами. Группы в самых неестественных позах, как бы замерев в судороге, в ужасной адской муке облепили высокие скалы и свешивались в пропасти… Во время пения хора… вся эта масса тел делала одно медленное движение, один страшный коллективный жест. Будто одно невероятных размеров чудовище, до которого дотронулись, зловеще поднимается. Один жест во всю длинную фразу хора. Потом вся масса, застыв на несколько минут в новой группе, так же медленно начинает съеживаться, потом переползать. Все, изображающие теней, вся балетная труппа, весь хор мужской и женский и вся театральная школа, и сотни статистов – все это ползло, меняясь местами… Конечно, никто бы из публики не мог понять, где начинается балет, где кончается хор[98 - Фокин М. Против течения… С. 500, 501. Также цит. по: Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. С. 148. Другие отзывы о постановке см.: Beaumont, Fokine, рр. 81–83; Braun, Meyerhold, рр. 115–119.].
Фокин поставил еще несколько сцен или участвовал в их постановке, и в программке он, как и Мейерхольд, был обозначен как режиссер. Тем не менее он считал, что Мейерхольд преуменьшил степень его участия, и позднее Фокин чуть ли не утверждал, что являлся постановщиком практически всей оперы. Их разногласия стали достоянием прессы, и хотя после премьеры страсти немного поутихли, самолюбие Фокина было глубоко уязвлено. Однако куда более тяжелым для него стало прекращение сотрудничества с Мейерхольдом. (При постановке «Пизанеллы» для Иды Рубинштейн они работали вместе постольку, поскольку оба были приглашены, но это не было творческим союзом.) Разрыв с Мейерхольдом был злополучным вдвойне: Фокин в единый миг потерял своего союзника в кругах Мариинского театра и утратил тот экспериментаторский импульс, который в скором времени мог бы положить начало модернизму. Спустя менее полугода он понес еще одну, столь же болезненную, утрату. Покинув Русский балет, он расстался с балетной семьей, которая питала его хореографию с 1905 года. Около 1912 года наиболее плодотворный период в его карьере окончился.
В экзистенциальных героях Фокина нашла отражение одна из граней его понимания личности – хрупкость индивидуальной свободы и трагедия ее утраты. Другие роли прославляли иных героев: свободолюбивых личностей, живущих вне правил, принятых в обществе. Эти раскрепощенные герои – большей частью экзотические и обычно мужского пола – облекали мечту о свободе во плоть человеческих возможностей. Они превозносили силу людей, которые живут по своим инстинктам, реализуя свою истинную сущность и преступая рамки внешних приличий. Образцом такого героя был Золотой раб из «Шехеразады», станцованный Нижинским: первобытный человек, в образе которого, начиная с его появления на сцене и до последнего смертельного спазма, ярко воплощалась идея полностью освобожденной индивидуальности и ее неизбежного конфликта с обществом. Ныне «Шехеразада» кажется верхом балетной манерности. Шах, заподозрив любимую жену в неверности, уезжает из дому, чтобы испытать ее; возвращаясь, он застает гарем в разгаре оргии, а Зобеиду – в объятиях ее Золотого раба. Сверкают ятаганы – и вот уже занавес падает, закрывая сцену, полную трупов. Со времен Фокина секс уже вышел за пределы сераля. Но в 1910 году он все еще представлял собой запретный плод. Изображение вожделения и недозволенных отношений в «Шехеразаде» лишь отчасти говорило о страсти, рушащей супружеские узы. Гораздо важнее было, насколько взрывным оказался этот акт, который возвращал его участникам то, чего их лишал Шах, – свободу, тела и собственные личности любовников. Не менее смелым было изображение мужественности в лице исполнителя главной роли. Золотой раб скорее силой добивался своей госпожи, чем ухаживал за ней, скорее выставлял, чем прятал свое тело, в большей степени высвобождал свою физическую удаль, чем обуздывал ее. Фокинский первобытный раб был воплощением секса и делал на сцене то, что респектабельные джентльмены могли делать только в своих фантазиях.
Заглавная роль в «Видении Розы», также исполненная Нижинским, была построена вокруг подобной же темы: стремления мужчины, пренебрегающего устоями, недозволенно завладеть недоступной женщиной. Впрочем, в этой постановке тема секса была смягчена, идеализирована, приведена к романтике. Сераль превратился в будуар, гаремная жена – в незамужнюю дочь, агрессивный сластолюбец – в женоподобное существо в розовых лепестках. Как и в «Шехеразаде», двигателем действия служит вторжение. Как описывал Сирил Бомонт,
от его волшебного прикосновения [девушка] поднимается с кресла, чтобы соединиться с духом розы в постоянно ускоряющемся нежном вальсе. Ее высокие прыжки так грациозны, что кажется, будто и она оставила свою земную плоть. Они вместе взлетают в неподвижном воздухе, приведенные в движение магическим прикосновением его руки[99 - Cyril W. Beaumont, Complete Book of Ballets: A Guide to the Principal Ballets of the Nineteenth and Twentieth Centuries (London: Putnam, 1937), p. 715.].
Девушкам из хороших семей не был позволителен легкий флирт, что делало их еще более привлекательными для эротических фантазий. Таким же недозволенным для мужчин, исключая сферу их фантазий, было явно женоподобное поведение. Мужчины, должно быть, вступали в интимные отношения, но скрывали это; в салонах и гостиных они придерживались гетеросексуальности в стиле одежды и в манерах. Нижинский открыто не следовал ни тому ни другому. Мужественный по силе своих прыжков и женственный в изящных движениях рук, он распространял вокруг себя флюиды эротического своеобразия; казался живым воплощением третьего пола, ураническим наслаждением от высвобождения своей истинной сущности.
Индивидуализм как сила, преступающая законы, был темой других мужских ролей, в частности некоторых ролей, исполненных Адольфом Больмом. Великолепный характерный танцовщик, среди мужской части довоенной труппы Дягилева уступавший по таланту только Нижинскому, Больм на сцене был воплощением стихии; его выступления наводили на мысль о звере, живущем в глубине человеческой личности, варваре, так и не прирученном цивилизацией. В постановке «Тамары» его танец обольщения в роли пленного Князя блистал силой и страстью. Бомонт писал:
Он подпрыгивает вверх, делает резкие рывки головой и так сгибает ноги под собой, что с каждым прыжком его тело становится изогнутым, как натянутый лук. Он прыгает выше и выше, его ноги топают, изгибаются и поворачиваются, все быстрее и быстрее, под бешеный стук барабанов. Царица с удовлетворением ловит его лихорадочный взгляд, наблюдает его неистовые движения. Она присоединяется к танцу, и их губы сливаются в страстном поцелуе[100 - Ibid. P. 715.].
За сценой царица и пленник совокупляются; на сцене она вонзает кинжал в его сердце. Как и в «Шехеразаде», утверждение свободы посредством запретного соития приводит к смерти.
Только «Половецкие пляски», первый балет Фокина, созданный под покровительством Дягилева, представляют собой иной случай. Там правит добродетель первобытного мужчины (в исполнении Больма), вождя половцев, и его воинов, приумножающих присущие ему героизм и волю к сопротивлению. Как и Нижинский, Больм совершал прыжки, рассеивая группы, обрамляющие сцену. «Все его существо, – пишет Бомонт, – пульсирует в наивысший момент его дикого ликования. Он постоянно кружится, прыгает вверх, вращается в воздухе и приземляется в гущу танцовщиков. Его брови изогнуты, голова запрокинута, из широко открытого рта разносится хриплый, задыхающийся вопль триумфа»[101 - Ibid. P. 686.]. В конце балета это ликование становится коллективным: ряды воинов пересекают друг друга, сотрясая воздух прыжками, землю – луками, распаляя дух хриплыми возгласами до тех пор, пока тела на сцене не превращаются в единую клокочущую живую массу. Обозреватель газеты «Ле Тан» писал в 1909 году:
Был момент, когда весь зал, увлеченный неистовством танцев восточных рабов и половецких воинов в конце «Князя Игоря», был готов встать и схватиться за оружие. Энергичная музыка, лучники, пламенные, дикие и жестокие, вся эта человеческая смесь, мелькание оружия, рук и разноцветных костюмов, казалось, на миг вскружили головы парижской публике, ошеломленной лихорадочным и безумным движением[102 - Jules Claretie, “La Vie ? Paris”, Le Temps, 21 May 1909, p. 2.].
Хотя драматический реализм был излюбленным принципом Фокина, его освобожденным героям была чужда психология. С начала и до конца они оставались одними и теми же – полностью реализованными существами, чьи роли обозначали психическое пространство, где подсознание выходило из своих границ и торжествовало. Визуально это пространство тоже было обозначено, отгорожено от более широкого игрового пространства сцены, словно небольшой театр индивидуальной фантазии: в «Шехеразаде» Золотой раб внезапно появлялся из закрытых дверей в глубине сцены; в «Видении Розы» герой влетал сквозь окно будуара; в оригинальной версии «Карнавала» действующие лица входили через складки занавеса, окружавшего сцену. Во многих балетах Бакст разместил на сцене массивные вертикали – колонны (в «Клеопатре»), храмы на скале (в «Синем боге»), деревья (в «Дафнисе и Хлое»), – которые создавали одновременно и изоляцию, и тягостную атмосферу драмы. Широкий занавес, протянутый из верхнего угла сцены в «Шехеразаде», служил тому же воздействию – как и крутые, направленные вверх диагонали в «Тамаре», сходившиеся в вершине монументального треугольника. Во всех этих балетах окружение, подобно огромной руке, нависает над попирающими устои главными героями. Если массивные и всеокружающие формы Бакста символизировали общество, враждебное личным стремлениям человека, то его пространства, манящие обещанием тайных наслаждений, и его цвета – теплые, яркие, интенсивные – увеличивали эмоциональность внутренней драмы. Бакст «использовал цвета символически, – писал один из критиков, – чтобы передать эмоции или вызвать желаемую реакцию у публики»[103 - Mayer, “The Theatrical Designs of Leon Bakst”, p. 182.]. Он делал это сознательно: как художники и поэты-символисты, он искал способ соединения чувственных впечатлений с эмоциональными состояниями и мысленными образами. Бакст писал в 1915 году:
Я часто замечал, что в каждом цвете спектра существуют градации, которые иногда выражают открытость и непорочность, иногда – чувственность и даже грубость, порой гордость, порой отчаяние. Это можно почувствовать и передать публике с помощью эффекта различных оттенков. Именно это я пытался сделать в «Шехеразаде». Напротив мрачного зеленого я поместил синий цвет, полный отчаяния, – это может казаться парадоксальным. Есть оттенки красного, которые убивают, и оттенки красного, которые выражают торжество… Художник, который знает, как это использовать, и дирижер оркестра, который может привести все это в движение одним взмахом палочки, не перемешивая оттенки… может создать у зрителя точно такое чувство, какое он желает вызвать[104 - Ibid.].
Как и Фокин, Бакст героизировал персонажа двумя путями: преувеличивая чувство, приписанное его личности, и демонстрируя его неподчинение рамкам социального окружения. Как визуально, так и хореографически это утверждение индивидуальности достигало эпических высот.
Фокин никогда не отказывался от языка балета. Но его эстетика освобождения требовала значительных изменений техники, которая отрабатывалась в классах Мариинского театра. Техника эта, в которой мягкость французской школы соединялась с бескомпромиссной виртуозностью итальянской, представляла собой самую суть искусства Петипа; ее особенности происходили из его хореографической практики и, в свою очередь, вдохновляли эту практику. К 1900 году эта связь прервалась. Поскольку созидательные силы Петипа пошли на спад, техника Императорских театров застыла на этапе его ранних шедевров: она превратилась в академический язык балета, который не терпел отступлений от своих законов. Синтаксис и лексика, бывшие для Петипа лишь средствами, стали теперь целями – в большей степени границами выразительности, чем инструментами ее создания.
С самого начала Фокин вел борьбу против академичности, от которой балет задыхался. Он сражался во имя красоты, веря, что танец – не демонстрация превосходного исполнения, а искусство поэтических образов. В 1904 году он писал:
Великая, выдающаяся особенность нового балета в том, что вместо акробатических трюков, призванных вызывать аплодисменты, и формальных выходов и пауз, нужных лишь для создания эффекта, должно быть только одно – стремление к красоте. В ритме телодвижений балет может найти способ выразить идеи, чувства, эмоции. Танец так же соотносится с жестикуляцией, как поэзия – с прозой. Танец – это поэзия движения[105 - Цит. по: Beaumont, Fokine, p. 23.].
Во имя поэзии Фокин освободил балет от обязательного требования виртуозности и от традиций, которые поддерживали это требование. Он преобразовал па-де-де, которое у Петипа имело фиксированную форму – адажио, сольные вариации и коду – в дуэт, гибкий по форме и предназначению. Отвергнув структуру Петипа, он покончил с вариациями, которые так часто служили демонстрацией хореографического мастерства; использовал па новыми и необычными способами, а также значительно дополнил устоявшийся канон поддержек. Более того, он сделал отношения партнеров подчеркнуто эмоциональными, превратив формальные соединения танцующих у Петипа в реалистичные встречи людей. В отличие от кавалера XIX века, стоявшего за балериной и на уровне талии удерживавшего ее в равновесии, танцовщики у Фокина выходили из тени своих партнерш, поддерживая их в различных контактных точках. За исключением нескольких обычных подъемов, отношение партнерства в «Шопениане» сконцентрировано в руках и кистях: первые создают образ единения пары, вторые способствуют выражению взаимного доверия. Хотя партнеры почти все время физически соприкасаются друг с другом, они остаются тем не менее на расстоянии вытянутой руки; будучи самостоятельными личностями, они стремятся друг к другу в добровольном порыве. В «Видении Розы» Фокин полностью отказался от поддержки за талию: там, в мире сновидения, тела касаются друг друга легко, как крылья бабочки. Вновь руки берут на себя бо?льшую часть веса; задействуются запястья – например, в arabesque penchеe, когда партнеры соприкасаются в первый раз; при подъемах руки исчезают на уровне подмышек, будто отказываясь от своей роли в воплощении желания балерины взлететь. Если Фокин в той или иной мере использовал талию – как это было в «Жар-птице», – он превращал ее в точку манипуляции, символ попадания в ловушку. Иван-царевич стоит за своей добычей, дерзко схватив ее; она извивается, наклоняется, вертится, тянется к его рукам, надеясь отдалиться от него, чтобы они оказались в разных пространствах – каждый в своем. Противопоставляя старый и новый принципы построения дуэта, Фокин обнаруживал идеологические предпосылки каждого из них.
Нельзя сказать, чтобы Фокин полностью избегал бравурного танца. Однако он использовал его элементы скупо и нешаблонно, пытаясь любыми способами избежать того, чтобы он стал поводом для аплодисментов. Он отказался от последовательных повторов. В мужских соло из «Видения Розы» и «Шопенианы» единственное антраша заменяло серии из четырех, восьми или даже шестнадцати, какие Петипа обычно использовал в вариациях. В то же время Фокин включил бравурные па в контекст танцевальных номеров. Как в «Видении Розы», так и в «Карнавале» многочисленные пируэты и grands jetеs – традиционные па мужского бравурного танца – пульсируют в череде движений: они начинаются с минимальных препарасьонов и заканчиваются в коротком плие; ни одна пауза или поза не прерывает движение фразы – и не дает публике повода разразиться аплодисментами. Отвращение Фокина к виртуозным стереотипам, переходящее в пародию, было основной темой «Петрушки», и главный удар при этом был обрушен на женский бравурный танец. Роль Балерины, по сути, символизировала то, что он презирал сильнее всего: склонность к техническим фокусам (ее вариация состояла в основном из острых еchappеs и мелких прыжков на пуантах, passеs relevеs и быстрых фуэте) и к бессмысленной демонстративности, а заодно и более мелкие огрехи: затянутые препарасьоны, нарочитую выворотность, руки венчиком, рваную фразировку – все, чего он не допускал в своей «правильной» хореографии. В «Петрушке» была и вторая пародия на балерину – Уличная танцовщица, девчонка-сорванец, исполнявшая трюки для участников карнавальных гуляний. В своих «Ранних воспоминаниях» Бронислава Нижинская, исполнявшая эту роль, прямо говорит о том, что объектом пародии была не кто иная, как Кшесинская, prima ballerina assoluta Мариинского театра, фаворитка великого князя и заклятый враг Фокина и «нового балета»:
– Ну, что же мне для вас поставить, Бронислава Фоминична? Уличная танцовщица-акробатка. Вы знаете какие-нибудь трюки? Умеете делать шпагат или быстро крутиться на одной ноге, высоко подняв другую?
Я ответила шутя:
– Михаил Михайлович, если вам требуется что-нибудь акробатическое, я станцую балеринскую часть коды из «Талисмана».
И я проделала все кабриоли и relevеs на пальцах так, как их исполняла Матильда Кшесинская под громовые аплодисменты петербургских балетоманов.
– Замечательно. Именно то, что нужно, – смеясь, сказал Фокин[106 - Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 130. В 1915 г. в Мариинском театре Фокин создал первую роль для Кшесинской – роль Юной девушки в «Эросе», мечтательный танец в духе Тальони на музыку «Серенады для струнного оркестра» Чайковского. Балет, очевидно, имел успех, хотя Андрей Левинсон подозревал Фокина в неискренности: «Применены и заноски, и сложные пируэты, как бы идущие навстречу виртуозным навыкам М. Ф. Кшесинской». «Эрос» сохранялся в репертуаре по меньшей мере до 1918–1919 г., то есть все время, пока Баланчин учился в средних классах Императорского театрального училища. В 1935 г. он использовал музыку Чайковского для своего балета «Серенада». См.: Левинсон А. Старый и новый балет. С. 128. Фрагменты других отзывов см.: Mathilde Kchessinska, Dancing in Petersburg, trans. Arnold Haskell (New York, 1961; rpt. New York: DaCapo, 1977), pp. 155, 156. О балетах Фокина в послереволюционном репертуаре см.: Yuri Slonimsky, “Balanchine: The Early Years”, trans. John Andrews, ed. Francis Mason, Ballet Review, 5, No. 3 (1975–1976), pp. 25, 26.].
Антиакадемичность Фокина замечательно просматривалась в том, как он использовал корпус и руки: первый был освобожден от корсета вертикальности, вторые – от смирительной рубашки округлых форм. Его целью в обоих случаях было повышение выразительности тела путем расширения его контуров, увеличения его пластичности и трехмерности его нахождения в пространстве. Эти реформы оказались революционными. Менее чем за десяток лет он изменил облик танцовщицы и заново создал ее тело. Несмотря на то что танец, особенно балетный, требует устойчивости и ловкости, подобающих гимнасту, танцовщицы XIX века постоянно затягивали себе талии. Такие педагоги, как Энрико Чекетти (который периодически вел балетный класс в труппе Дягилева в 1920-е годы), выступали за необходимость шнуровки, объясняя это тем, что корсет поддерживает спину, но были, очевидно, и другие, еще менее преодолимые причины. Одной из них была мода: до Первой мировой войны самые элегантные дамы носили корсеты. Другая причина крылась в самой балетной технике: при наклонах корпус редко отклонялся от вертикальной линии; подвижность была сконцентрирована в ногах.
Фокин, наоборот, в работе действовал смело и раскованно. Его «мимика всего тела» требовала от корпуса такой же гибкости и выразительности, как и от конечностей. Избавив женщин от корсетов, он дал свободу и талии, и спине; отказавшись от строгого следования вертикали, провозгласил красоту изогнутых линий. Фокинские перегибы назад и наклоны вперед, рывки в стороны и повороты в талии превращали тело в способную к расширению спираль. В сфере эмоций он также осваивал неизведанные территории. В то время как в «Шехеразаде» гибкость сидящих альмей была пронизана чувственностью, в «Нарциссе» вакханки взлетали с высоко поднятым коленом в экстатической пляске. Как и глубокий изгиб назад, этот скачок стал фирменным знаком Фокина, который он использовал в нескольких балетах. Эти два движения были связаны между собой: в серии хореографических набросков к «Синему богу», воспроизведенных в русском издании воспоминаний Фокина, обнаженная женская фигура выгибается назад, наклоняется вперед в скачке и затем пускается в бег с запрокинутой назад головой – это выражение ликующего, дикого динамизма[107 - Фокин M. Против течения… С. 297.]. Отбросив закругленные и прямоугольные формы академического стиля, Фокин использовал руки танцующего, чтобы увеличить размах его движения, открыть верхнюю часть тела и усилить общее впечатление импровизационности. «Руки, – говорил он одному из американских учеников много лет спустя, – это не рисунки на стене, а горизонты»[108 - Цит. по: Dawn Lille Horwitz, “A Ballet Class With Michel Fokine”, Dance Chronicle, 3, No. 1 (1979), p. 42.]. Фокин позволил рукам танцовщика широко раскрыться наружу и над головой, позади него и впереди; он использовал руки несимметрично – не для того, чтобы обрамлять тело, но для того, чтобы придать его форме трехмерность, сделать его округлым, а не плоским. Кроме того, он настаивал, чтобы руки производили естественное впечатление, чтобы они, как зеркало души, раскрывали самую глубину чувств танцовщика и передавали эти личные эмоции зрителю.
Не меньше, чем хореография, освобождению тела служили костюмы. Как и Фокин, Бакст стремился сделать свободными спину и живот. Он одевал женщин в туники и восточные шаровары, в мягкие ниспадающие одеяния, которые высвобождали торс из сдавливающего лифа балетной пачки. В его костюмах оставались обнаженными необычные участки тела: в «Клеопатре» был виден пупок, в «Шехеразаде» – нижняя часть позвоночника; в некоторых балетах ноги выглядывали из разреза на юбке. (Груди, которые свободно выставлялись из туники на некоторых эскизах, на сцене всегда были благопристойно прикрыты.) Ноги были вдвойне обнажены, так как в экзотических и «греческих» балетах танцовщики часто выступали без трико, открывая взору публики живую плоть ноги и ее форму. Пачка, конечно, также приоткрывала тело – руки и плечи выше лифа, колени и низ ног ниже многослойной юбки. Кроме низа, впрочем, все открытые части костюма выглядели пристойно, сродни вырезам у вечернего туалета: затянутая талия и пышная юбка скрывали среднюю часть тела. Бакст обладал даром скрывать ее очень искусно, что и привлекало к ней внимание. Созданные им гаремные шаровары подчеркивали линию ягодиц, тот же эффект создавали и полотнища туники, сшитые высоко на бедрах. Силуэт «песочных часов», характерный для Belle Еpoque[109 - Прекрасная эпоха (франц.) – период в истории Франции, охватывающий конец XIX – начало XX в. – Примеч. пер.], уступил место естественному, ничем не стесненному телу. Свободные движения тела, таким образом, лишь увеличивали впечатление обнаженности и естественности. В отличие от пачки, которая либо стесняла тело, либо подлетала по его окружности, костюм, придуманный Бакстом, совершал движения вместе с телом, делая эти движения струящимися, свободными и широкими. Если силуэт танцовщицы Императорских театров напоминал вертикальную фигуру, заключенную в круг, то ее преемница у Фокина олицетворяла саму идею движения.
Не менее неортодоксальные костюмы Бакст создавал для мужчин. У танцовщиков также были открыты некоторые части тела. Однако, как и у балерин, тело приоткрывалось лишь избирательно и всегда пристойным образом; мужчина – герой балета соблюдал условности. На ногах у него было облегающее трико, бедра были целомудренно прикрыты театрализованным вариантом светского наряда. В императорских балетах, оформленных в античном стиле, плечи и ключицы были закрыты туниками: женщины могли оставлять их открытыми, мужчины – никогда. Бакст же придерживался удивительной свободы в создании костюмов для танцовщика, делая их либо явно открытыми, либо явно женскими. В заглавной роли «Видения Розы» Нижинский выступал в облегающем костюме, расшитом лепестками, в роли Золотого раба в «Шехеразаде» – в наряде танцующей гурии. Костюмы для балетов «Нарцисс» и «Синий бог» – с укороченной юбкой, четко обозначенной талией, выставленными напоказ ключицами и плечами – не слишком соответствовали традиционному представлению о мужественности. Даже Больм, «настоящий мужчина» в составе труппы, в роли Даркона в «Дафнисе и Хлое» выходил в свободно ниспадающей тунике, окутывавшей тело атмосферой «естественной» женственности.
В том, что Бакст «одел» столько балетов той поры в костюмы, на которые его вдохновили греческие одеяния, можно усмотреть влияние танцовщицы, упомянутой нами лишь вскользь, несмотря на то что она стала вдохновительницей создания «нового балета». Айседора Дункан впервые выступала в Петербурге в декабре 1904 года. Она вновь приезжала в начале следующего года, затем в декабре 1907-го и в апреле 1909-го – эти визиты совпадали по времени с первыми хореографическими начинаниями Фокина. Ее дебют был значительным событием: в престижном зале Дворянского собрания сидели сливки петербургского художественного и высшего общества. Два ее выступления (первая программа целиком состояла из произведений Шопена, вторая носила название «Танцевальные идиллии») имели «невероятный успех и были признаны среди танцовщиков и любителей танца сенсационными, эпохальными событиями»[110 - Francis Steegmuller, “Your Isadora”: The Love Story of Isadora Duncan and Gordon Craig (New York: Random House and The New York Public Library, 1974), p. 40.]. Как и плеяда звезд Мариинского театра, «Мир искусства» явился на ее концерт в полном составе; Бенуа высказался о ней в печати. Фокин, со своей стороны, был покорен. Дягилев, позже утверждавший, что эти двое посещали ее концерты вместе, писал, что «Фокин не на шутку увлекся ею, и влияние Дункан было изначальной основой всего его творчества»[111 - С. Дягилев. Письмо к У. А. Проперту от 17 февраля 1926 г. Цит. по: W. A. Propert, The Russian Ballet 1921–1929, preface Jacques-Emile Blanche (London: John Lane, 1931), p. 88. О первом петербургском концерте Дункан см.: Steegmuller, Your Isadora, гл. 3 и примеч.]. Это утверждение Дягилева стоит рассматривать скептически – и не только потому, что оно было высказано в личной переписке спустя двадцать лет после самого факта, но также потому, что к 1926 году он стал считать Фокина вышедшим из моды хореографом. (То, что спрос со стороны критиков и публики заставил его именно тогда возобновить несколько фокинских балетов, в том числе «Жар-птицу», должно быть, обострило его язвительный тон.)
Тем не менее самая суть его утверждения была верна. Фокин был поражен, и даже в самые тяжелые дни 1930-х, когда горечь помутила его рассудок, Дункан оставалась яркой звездой его юности. Как сказано в гимне шейкеров[112 - Шейкеры – протестантская религиозная группа, основанная в Англии в 1747 г. – Примеч. пер.], «быть простым – это дар», и хотя Дункан выросла в богемной и феминистской атмосфере Сан-Франциско, природа наделила ее этой шейкеровской добродетелью, которая стала, в свою очередь, ее даром Фокину. В редкостный момент осознания ее влияния он писал:
Дункан напоминала о красоте естественных движений… [она] доказала нам, что все примитивные, обычные, естественные движения – простой шаг, бег, поворот на обеих ногах, небольшой прыжок на одной ноге – намного лучше, чем все богатства балетной техники, если в угоду этой технике нужно пожертвовать грацией, выразительностью и красотой[113 - Фокин М. Против течения… С. 378.].
Все эти движения появились в хореографии Фокина. В «Шопениане» и «Видении Розы» они преобразовали словарь классического танца, облегчили его фактуру и четче очертили контуры. В других балетах они проявились как характерные особенности почерка, которые то и дело фиксировались фотографами того времени. В иных постановках они стали основой, на которой Фокин выстраивал целые танцы. В «Жар-птице» девичий двор Царевны окружает влюбленных ритмичным ходом; в «Половецких плясках» пленные девушки движутся по сцене с трепетным скольжением. Фокин долгое время осуждал акробатические трюки, поставленные для того, чтобы сорвать аплодисменты публики. За этими негативными отзывами стояла возвышенная простота Дункан, открывавшая ему взгляд на то, что могло бы быть; в ее танце он видел все богатство хореографических возможностей.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: