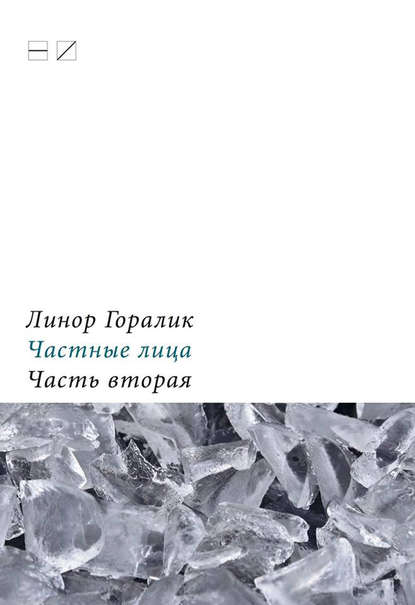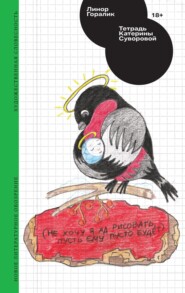По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими. Часть вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими. Часть вторая
Линор Горалик
Читателю обычно не приходится рассчитывать на то, что поэт напишет собственную биографию; в большинстве случаев поэты никогда этого и не делают. Поэту же, по большому счету, никогда не приходится рассчитывать на то, что ему будет дано право представить читателю свою жизнь так, как он сам пожелал бы. В проекте Линор Горалик «Частные лица» поэты получают свободу рассказать о себе на своих условиях, а читатели – редкую возможность познакомиться с их автобиографиями, практически не искаженными посредниками. Второй том «Частных лиц» включает в себя автобиографии двенадцати поэтов: Льва Рубинштейна, Полины Барсковой, Станислава Львовского, Евгении Лавут, Ивана Ахметьева, Евгения Бунимовича, Гали-Даны Зингер, Демьяна Кудрявцева, Николая Звягинцева, Сергея Круглова, Дмитрия Веденяпина и Дмитрия Воденникова.
Линор Горалик
Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими. Часть вторая
© Новое издательство, 2017
От составителя
Это предисловие во многом повторяет предисловие к первому тому «Частных лиц» – в силу того что работа строилась и строится по одним и тем же принципам, и это, на мой взгляд, – одна из важнейших характеристик проекта. Пока второй том готовился к изданию, я начала потихоньку работать с коллегами над томом третьим, то есть над следующей подборкой писательских автобиографий.
Причина, заставляющая меня браться за эту работу, остается неизменной: читателю никогда не приходится рассчитывать на то, что поэт напишет автобиографию; в большинстве случаев поэты никогда этого и не делают. Поэту же, по большому счету, никогда не приходится рассчитывать на то, что ему будет предоставлено право рассказать читателю о собственной жизни так, как сам поэт пожелал бы: именно то, что хочется, именно в той форме, в которой хочется.
Проект «Биографии поэтов, рассказанные ими самими» я затеяла в 2006 году. «Новое издательство» во главе с Андреем Курилкиным немедленно согласилось в нем участвовать. Я изложила Андрею идею примерно в мае 2006-го и пообещала подготовить первый том проекта (с автобиографиями двенадцати-пятнадцати поэтов) к декабрю того же года. Когда книга была завершена и собрана, с того самого декабря прошло шесть лет: я изначально переоценила не только свои силы, но и способность своих собеседников «вот так сесть и все изложить залпом», как сказал один из них. Внутренняя работа, в первую очередь моих собеседников, потребовала от многих из них огромных сил и времени – и я в высшей степени благодарна им за то, что они ее проделали.
Я сразу говорила участникам проекта, что результат будет целиком и полностью таким, каким они захотят его видеть. Можно выкидывать куски, можно дописывать куски; можно передумать и отказаться от публикации вообще; можно сказать: «Мне не нравится то, что получилось; давайте начнем все сначала».
Процесс работы был устроен так: я садилась перед поэтом с диктофоном и говорила: «Расскажите, пожалуйста, для начала, какой была ваша семья до вас». Дальше разговор мог длиться два часа и идти очень легко, а мог стать циклом из нескольких многочасовых встреч, между которыми случались перерывы в несколько лет. Потом мой друг и коллега Мариам Тавризян делала очень бережную расшифровку разговора – и я присылала эту расшифровку собеседнику. Когда только начиналась работа над первым томом «Частных лиц», я пыталась вносить в эту расшифровку чисто техническую, как мне казалось, правку – со всей бережностью, на какую была способна, и постоянно спрашивая собеседника о неясных местах. Теперь я жалею об этом: следовало присылать поэту нетронутый «сырец», не поддаваясь даже соблазну исправления ослышек и описок расшифровщика (случавшихся очень редко), – просто для того, чтобы случайно не вмешаться в структуру, интонацию конечного текста. Впоследствии перед отправкой сырца я стала проделывать только одну манипуляцию: сокращать свои реплики, оставляя лишь те, которые казались мне совершенно необходимыми для связности повествования. Отправляя расшифровку собеседнику, я старалась напоминать, что он волен делать с текстом абсолютно все, что считает нужным. В результате кто-то вносил в разговор только минимальную правку, оставляя текст очень разговорным, кто-то, напротив, перерабатывал интервью в цельные эссе (Сергей Гандлевский даже издал свое эссе отдельной книжкой, что стало для меня большой радостью), кто-то добавлял или убирал некоторые рассказанные истории (один из участников проекта решил, например, публиковать только первую половину нашей с ним беседы).
При выборе собеседников я не руководствовалась совершенно никакими формальными параметрами, а просто просила участвовать тех, чьи тексты дороги лично мне. Даже решение о том, кто войдет в первый том, кто – во второй, а кто – в уже готовящийся третий, было подчинено исключительно географическим и хронологическим случайностям, а не какой бы то ни было стратегии. И конечно, я не могу себе простить того, что в результате моей лени и медлительности упустила возможность поговорить с несколькими выдающимися людьми, ушедшими от нас за эти годы.
Мне кажется важным подчеркнуть, что «Частные лица» – не журналистский проект. Я не ставила перед собой цели «получить информацию», или «пролить свет», или «уточнить подробности». Здесь важно, если угодно, обратное: настолько, насколько это возможно (а наличие спрашивающего, наличие собеседника все-таки, увы, неизбежно задает определенную рамку), дать поэту свободу говорить о себе на своих условиях. То, что именно поэт рассказывает, как, когда, в каком порядке, каким языком, мне виделось гораздо более важным, чем любые конкретные подробности, состыковки и факты, – ровно поэтому мы с редактором договорились относиться к конечным текстам как к поэзии, оставляя и авторские интонации, и авторские шероховатости, и даже смайлики. Конечно, степень моего знакомства с говорящими, ощущение легкости или, напротив, робости в разговоре неизбежно влияли на результат. Я жалею об этом, но не представляю себе, как избежать этого в дальнейшей работе, не прибегая к малоинтересным (и, боюсь, малорезультативным) формальным играм.
Я хочу поблагодарить не только всех участников проекта (чье доверие и уделенное мне время значили для меня больше, чем я могу описать словами), но и «Новое издательство», сразу заинтересовавшееся идеей и терпеливо ожидавшее результата. Отдельно спасибо – расшифровщикам интервью, проделавшим очень непростую и очень кропотливую работу. И наконец, спасибо порталу Colta.ru, редакция которого предложила делать препринты автобиографий и тем самым очень поддержала проект на разных его этапах.
Лев Рубинштейн
ГОРАЛИК. Если можно, расскажите про свою семью до вас.
РУБИНШТЕЙН. Я не так много знаю, к сожалению. Мама – Коган Елена Михайловна. И она, и отец родились еще до революции. Отец в 1911-м, мать в 1913-м. Я, будучи уже взрослым, не столько узнал, сколько догадался, что их изначально назвали, конечно, не так, как их звали. Мама называлась Елена Михайловна, и я сильно подозреваю, что она была, скорее всего, Мейлаховна, и не Елена, а, допустим, Элька. Во всяком случае все старшие родственники ее звали Еля. Я помню много маминых рассказов про ее детство и юность. Она родилась в Полтаве. Даже под Полтавой, где у ее отца, то есть у моего деда, была мельница.
На этой мельнице он и работал. Он и несколько его братьев. Мама рассказывала, что когда по Украине пошли погромы, в какой-то момент погромщики явились и на их мельницу. Так вот дед и его братья, которые были довольно здоровыми и крепкими ребятами – мельники все-таки, – вышли на порог с топорами и сказали: «Ну, идите сюда». И те что-то поворчали и ушли. Тем более что среди погромщиков были и соседи, которые их знали и сказали: «Пошли. Не надо с ними связываться».
Позже они жили уже в Полтаве. У них был маленький, но свой дом. И даже пианино. И старшие ее братья даже в гимназии успели там поучиться.
В основном она себя помнит с пяти-шести лет, уже в Гражданскую войну. Она водила дружбу с дочерьми Короленко – они жили на соседних улицах. Во время Гражданской войны погромы устраивали все, кроме двух армий: красных и немцев. На их улице жила вдовая попадья, которая, когда начинались погромы, всех еврейских детей собирала и прятала в своем подвале. К ней погромщики, естественно, не входили. Ну и Короленко, как известно, заступался за всех. Потом они переехали в Харьков, она там закончила какое-то учебное заведение, что-то типа железнодорожного института. И, по-моему, уже после окончания института она приехала в Москву к каким-то своим родственникам. А родственники привели ее в гости к своим родственникам или друзьям, и она попала в большую, шумную, дружную семью моего отца, которая жила уже тогда в Москве.
ГОРАЛИК. А до этого?
РУБИНШТЕЙН. Не очень знаю. Кажется, они жили раньше в Кременчуге. Но отец помнил себя всегда в Москве. И отец, и мать были младшими в своих семьях. Мама была пятой. Отец – шестым.
Семья отца жила (это место я считаю своим родовым гнездом) в Скарятинском переулке. Есть такой дом напротив нынешнего посольства Испании. Это дом XIX века, в котором, если верить легенде, бывал Пушкин. Говорили, что это когда-то был дом князей Щербатовых. Я в детстве помню какой-то кусок печки – все было так перегорожено, что другой кусок печки был в другой квартире. Так жила семья моего отца, их было очень много, они были очень дружные, шумные и веселые. Это были 1930-е годы, то есть, собственно говоря, 1937-й – самое «веселье».
И они все время танцевали. В их поколении было принято и модно уметь танцевать – это было важно. И вот этот невысокий и уже лысеющий молодой человек покорил мамино сердце тем, что он очень здорово танцевал и вообще был «столичной штучкой». Вот они как-то сразу друг друга полюбили, и через какое-то время родился мой старший брат.
ГОРАЛИК. Сколько у вас братьев?
РУБИНШТЕЙН. Брат у меня один. Он недавно умер в Нью-Йорке. Девять лет у нас разница.
Ну вот, родился брат, потом была война. Это все было до моего рождения.
Но давайте сначала про отца до мамы. Про семью отца я немного знаю. Они действительно очень рано переехали в Москву, чуть ли не… То ли до революции, то ли сразу после. Я помню огромное количество теток и дядек. Брат отца, например, дядя Боря, был знаменитейшим в Москве гинекологом, его знала вся Москва. Куча теток, которые меня обожали. Все жили в Москве. У меня очень много двоюродных братьев и сестер со всех сторон. Отец прямо до смерти хвастался тем, что он был в числе первых пионеров. Поскольку Красная Пресня рядом, он был то ли в первом, то ли во втором пионерском отряде. И его принимал в пионеры то ли Калинин, то ли Троцкий.
ГОРАЛИК. И то, и то прекрасно.
РУБИНШТЕЙН. Да-да-да. Он еще запомнил такой эпизод, потом рассказывал: после этого торжественного приема в пионеры он ехал домой на трамвае, а в этом же трамвае ехал, кажется, Троцкий.
Отец учился в инженерно-строительном институте и очень быстро, в скорости после рождения моего старшего брата, попал в армию. И стал военным инженером. В этом качестве его уже и застало начало войны. То есть к началу войны он уже был офицером.
В 1938 году родился мой старший брат. Родился он в Харькове, где жила мамина родня. Потом они переехали в Москву и жили все в том же доме, который я описал. Это была совершенно удивительная квартира, такая Воронья слободка. Еще и я там успел пожить после рождения.
Сразу после присоединения Балтии к СССР отца послали в Литву.
Сначала они приехали в Каунас, про который мама рассказывала мне потом, как тамошние русские, которые только что туда приехали, шутили, называя город не «Каунас», а «Пока у нас».
Буквально за несколько дней до начала войны отец был командирован куда-то – в Ригу, кажется. А мама осталась с моим трех с половиной летним братом в маленьком литовском городке. Совсем рядом с границей. Там было очень много евреев. И комнату они снимали тоже в каком-то еврейском доме.
В тот день, когда началась война, а было это, как мы знаем, ночью, какой-то сослуживец отца вспомнил, что есть такая семья Рубинштейна, и он заехал за ними на грузовике. Она успела схватить сына, одеяло, пальто, часики и паспорт. Они сели в машину и поехали.
В каждом городе, который они проезжали, они собирались сесть в поезд и ехать в Москву. Но не тут-то было. В Вильнюсе уже вовсю стреляли, прямо по машине. Вокзал в Минске был разбомблен и горел. Они почти до Москвы доехали, короче говоря.
В это же время отца, который находился в Риге (там тоже начали все бомбить), и еще каких-то военных посадили на какое-то судно, чтобы вывезти из Риги на восток. И это судно тоже разбомбили. И вот отец, не умевший плавать, барахтался два с лишним часа в воде в пробковом поясе. Он говорит, что прямо рядом с ним люди стрелялись. Но оставшихся в живых кто-то подобрал.
Ну, дальше Ленинградский фронт – с начала и до конца. Ленинградский фронт, где, как он рассказывал, больше умирали от дистрофии, чем от пуль и снарядов.
В общем, отец успел провоевать всю войну.
Мои родители друг о друге ничего не знали несколько месяцев, и оба друг про друга были уверены, что их нет в живых. В общем, вся эта история – сплошное чудо. Потом они все же списались через каких-то родственников.
Мать тоже в эвакуацию с братом уехала. В Уфу. В этой эвакуации много было всяких историй. Я как-то, уже взрослый, спросил однажды у брата: «А что ты ел самое вкусное в своей жизни?» Он немножко подумал и рассказал, что однажды в этой самой Уфе какая-то девочка, с которой он дружил, пригласила на свой день рождения, и ее мама угостила детей тортом собственного приготовления. Торт был изготовлен из картофельных очисток, маргарина и сахарина. Но она его еще как-то украсила. И вот брат сказал, что ничего в жизни вкуснее не ел.
Мама мне однажды призналась, когда я был уже взрослым, что вообще я не только не предполагался, но даже были предприняты попытки от меня избавиться, но это было тогда очень строго запрещено. И мама мне рассказывала, уже потом, что она договорилась с каким-то «левым» доктором и уже ему заплатила, и уже пришла к нему делать операцию, а он прямо на пороге своей квартиры ей сказал: «Вот вам ваши деньги, вы меня не видели, я вас не видел. Моего коллегу вчера арестовали за это дело. Все, до свидания». И она ушла в слезах. А потом как-то успокоилась и подумала: «Ну ладно, ну рожу я уже. Но пусть это будет хотя бы девочка». Нет, родился этот Левочка. Четыре с половиной килограмма, между прочим.
Я родился еще при карточках, а в конце года карточки отменили. И мама мне рассказывала, что в тот день, когда их отменили, она сразу же пошла в Елисеевский магазин, купила так называемую французскую булку, сто граммов окорока и не донесла до дома. Она села на Тверском бульваре и съела это все в один присест.
ГОРАЛИК. Почти идентичная история, в которой участвует французская булочка, есть у моей бабушки. Точно так же, про это же время.
РУБИНШТЕЙН. Еще мне мама рассказывала, что, когда она была мною беременна, она все время ходила гулять в скверик около Гнесинского института, и уверяла меня, что у меня хороший слух именно поэтому. Дело в том, что я единственный в семье, у кого приличный слух.
ГОРАЛИК. Вы родились в ту же квартиру с углом печки?
РУБИНШТЕЙН. Да, я родился «туда же».
ГОРАЛИК. Отец уже вернулся?
РУБИНШТЕЙН. Ну да, собственно, следствием его возвращения и было мое рождение. Да, уже вернулся, и все мое детство, по крайней мере до школы, он еще носил погоны.
Линор Горалик
Читателю обычно не приходится рассчитывать на то, что поэт напишет собственную биографию; в большинстве случаев поэты никогда этого и не делают. Поэту же, по большому счету, никогда не приходится рассчитывать на то, что ему будет дано право представить читателю свою жизнь так, как он сам пожелал бы. В проекте Линор Горалик «Частные лица» поэты получают свободу рассказать о себе на своих условиях, а читатели – редкую возможность познакомиться с их автобиографиями, практически не искаженными посредниками. Второй том «Частных лиц» включает в себя автобиографии двенадцати поэтов: Льва Рубинштейна, Полины Барсковой, Станислава Львовского, Евгении Лавут, Ивана Ахметьева, Евгения Бунимовича, Гали-Даны Зингер, Демьяна Кудрявцева, Николая Звягинцева, Сергея Круглова, Дмитрия Веденяпина и Дмитрия Воденникова.
Линор Горалик
Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими. Часть вторая
© Новое издательство, 2017
От составителя
Это предисловие во многом повторяет предисловие к первому тому «Частных лиц» – в силу того что работа строилась и строится по одним и тем же принципам, и это, на мой взгляд, – одна из важнейших характеристик проекта. Пока второй том готовился к изданию, я начала потихоньку работать с коллегами над томом третьим, то есть над следующей подборкой писательских автобиографий.
Причина, заставляющая меня браться за эту работу, остается неизменной: читателю никогда не приходится рассчитывать на то, что поэт напишет автобиографию; в большинстве случаев поэты никогда этого и не делают. Поэту же, по большому счету, никогда не приходится рассчитывать на то, что ему будет предоставлено право рассказать читателю о собственной жизни так, как сам поэт пожелал бы: именно то, что хочется, именно в той форме, в которой хочется.
Проект «Биографии поэтов, рассказанные ими самими» я затеяла в 2006 году. «Новое издательство» во главе с Андреем Курилкиным немедленно согласилось в нем участвовать. Я изложила Андрею идею примерно в мае 2006-го и пообещала подготовить первый том проекта (с автобиографиями двенадцати-пятнадцати поэтов) к декабрю того же года. Когда книга была завершена и собрана, с того самого декабря прошло шесть лет: я изначально переоценила не только свои силы, но и способность своих собеседников «вот так сесть и все изложить залпом», как сказал один из них. Внутренняя работа, в первую очередь моих собеседников, потребовала от многих из них огромных сил и времени – и я в высшей степени благодарна им за то, что они ее проделали.
Я сразу говорила участникам проекта, что результат будет целиком и полностью таким, каким они захотят его видеть. Можно выкидывать куски, можно дописывать куски; можно передумать и отказаться от публикации вообще; можно сказать: «Мне не нравится то, что получилось; давайте начнем все сначала».
Процесс работы был устроен так: я садилась перед поэтом с диктофоном и говорила: «Расскажите, пожалуйста, для начала, какой была ваша семья до вас». Дальше разговор мог длиться два часа и идти очень легко, а мог стать циклом из нескольких многочасовых встреч, между которыми случались перерывы в несколько лет. Потом мой друг и коллега Мариам Тавризян делала очень бережную расшифровку разговора – и я присылала эту расшифровку собеседнику. Когда только начиналась работа над первым томом «Частных лиц», я пыталась вносить в эту расшифровку чисто техническую, как мне казалось, правку – со всей бережностью, на какую была способна, и постоянно спрашивая собеседника о неясных местах. Теперь я жалею об этом: следовало присылать поэту нетронутый «сырец», не поддаваясь даже соблазну исправления ослышек и описок расшифровщика (случавшихся очень редко), – просто для того, чтобы случайно не вмешаться в структуру, интонацию конечного текста. Впоследствии перед отправкой сырца я стала проделывать только одну манипуляцию: сокращать свои реплики, оставляя лишь те, которые казались мне совершенно необходимыми для связности повествования. Отправляя расшифровку собеседнику, я старалась напоминать, что он волен делать с текстом абсолютно все, что считает нужным. В результате кто-то вносил в разговор только минимальную правку, оставляя текст очень разговорным, кто-то, напротив, перерабатывал интервью в цельные эссе (Сергей Гандлевский даже издал свое эссе отдельной книжкой, что стало для меня большой радостью), кто-то добавлял или убирал некоторые рассказанные истории (один из участников проекта решил, например, публиковать только первую половину нашей с ним беседы).
При выборе собеседников я не руководствовалась совершенно никакими формальными параметрами, а просто просила участвовать тех, чьи тексты дороги лично мне. Даже решение о том, кто войдет в первый том, кто – во второй, а кто – в уже готовящийся третий, было подчинено исключительно географическим и хронологическим случайностям, а не какой бы то ни было стратегии. И конечно, я не могу себе простить того, что в результате моей лени и медлительности упустила возможность поговорить с несколькими выдающимися людьми, ушедшими от нас за эти годы.
Мне кажется важным подчеркнуть, что «Частные лица» – не журналистский проект. Я не ставила перед собой цели «получить информацию», или «пролить свет», или «уточнить подробности». Здесь важно, если угодно, обратное: настолько, насколько это возможно (а наличие спрашивающего, наличие собеседника все-таки, увы, неизбежно задает определенную рамку), дать поэту свободу говорить о себе на своих условиях. То, что именно поэт рассказывает, как, когда, в каком порядке, каким языком, мне виделось гораздо более важным, чем любые конкретные подробности, состыковки и факты, – ровно поэтому мы с редактором договорились относиться к конечным текстам как к поэзии, оставляя и авторские интонации, и авторские шероховатости, и даже смайлики. Конечно, степень моего знакомства с говорящими, ощущение легкости или, напротив, робости в разговоре неизбежно влияли на результат. Я жалею об этом, но не представляю себе, как избежать этого в дальнейшей работе, не прибегая к малоинтересным (и, боюсь, малорезультативным) формальным играм.
Я хочу поблагодарить не только всех участников проекта (чье доверие и уделенное мне время значили для меня больше, чем я могу описать словами), но и «Новое издательство», сразу заинтересовавшееся идеей и терпеливо ожидавшее результата. Отдельно спасибо – расшифровщикам интервью, проделавшим очень непростую и очень кропотливую работу. И наконец, спасибо порталу Colta.ru, редакция которого предложила делать препринты автобиографий и тем самым очень поддержала проект на разных его этапах.
Лев Рубинштейн
ГОРАЛИК. Если можно, расскажите про свою семью до вас.
РУБИНШТЕЙН. Я не так много знаю, к сожалению. Мама – Коган Елена Михайловна. И она, и отец родились еще до революции. Отец в 1911-м, мать в 1913-м. Я, будучи уже взрослым, не столько узнал, сколько догадался, что их изначально назвали, конечно, не так, как их звали. Мама называлась Елена Михайловна, и я сильно подозреваю, что она была, скорее всего, Мейлаховна, и не Елена, а, допустим, Элька. Во всяком случае все старшие родственники ее звали Еля. Я помню много маминых рассказов про ее детство и юность. Она родилась в Полтаве. Даже под Полтавой, где у ее отца, то есть у моего деда, была мельница.
На этой мельнице он и работал. Он и несколько его братьев. Мама рассказывала, что когда по Украине пошли погромы, в какой-то момент погромщики явились и на их мельницу. Так вот дед и его братья, которые были довольно здоровыми и крепкими ребятами – мельники все-таки, – вышли на порог с топорами и сказали: «Ну, идите сюда». И те что-то поворчали и ушли. Тем более что среди погромщиков были и соседи, которые их знали и сказали: «Пошли. Не надо с ними связываться».
Позже они жили уже в Полтаве. У них был маленький, но свой дом. И даже пианино. И старшие ее братья даже в гимназии успели там поучиться.
В основном она себя помнит с пяти-шести лет, уже в Гражданскую войну. Она водила дружбу с дочерьми Короленко – они жили на соседних улицах. Во время Гражданской войны погромы устраивали все, кроме двух армий: красных и немцев. На их улице жила вдовая попадья, которая, когда начинались погромы, всех еврейских детей собирала и прятала в своем подвале. К ней погромщики, естественно, не входили. Ну и Короленко, как известно, заступался за всех. Потом они переехали в Харьков, она там закончила какое-то учебное заведение, что-то типа железнодорожного института. И, по-моему, уже после окончания института она приехала в Москву к каким-то своим родственникам. А родственники привели ее в гости к своим родственникам или друзьям, и она попала в большую, шумную, дружную семью моего отца, которая жила уже тогда в Москве.
ГОРАЛИК. А до этого?
РУБИНШТЕЙН. Не очень знаю. Кажется, они жили раньше в Кременчуге. Но отец помнил себя всегда в Москве. И отец, и мать были младшими в своих семьях. Мама была пятой. Отец – шестым.
Семья отца жила (это место я считаю своим родовым гнездом) в Скарятинском переулке. Есть такой дом напротив нынешнего посольства Испании. Это дом XIX века, в котором, если верить легенде, бывал Пушкин. Говорили, что это когда-то был дом князей Щербатовых. Я в детстве помню какой-то кусок печки – все было так перегорожено, что другой кусок печки был в другой квартире. Так жила семья моего отца, их было очень много, они были очень дружные, шумные и веселые. Это были 1930-е годы, то есть, собственно говоря, 1937-й – самое «веселье».
И они все время танцевали. В их поколении было принято и модно уметь танцевать – это было важно. И вот этот невысокий и уже лысеющий молодой человек покорил мамино сердце тем, что он очень здорово танцевал и вообще был «столичной штучкой». Вот они как-то сразу друг друга полюбили, и через какое-то время родился мой старший брат.
ГОРАЛИК. Сколько у вас братьев?
РУБИНШТЕЙН. Брат у меня один. Он недавно умер в Нью-Йорке. Девять лет у нас разница.
Ну вот, родился брат, потом была война. Это все было до моего рождения.
Но давайте сначала про отца до мамы. Про семью отца я немного знаю. Они действительно очень рано переехали в Москву, чуть ли не… То ли до революции, то ли сразу после. Я помню огромное количество теток и дядек. Брат отца, например, дядя Боря, был знаменитейшим в Москве гинекологом, его знала вся Москва. Куча теток, которые меня обожали. Все жили в Москве. У меня очень много двоюродных братьев и сестер со всех сторон. Отец прямо до смерти хвастался тем, что он был в числе первых пионеров. Поскольку Красная Пресня рядом, он был то ли в первом, то ли во втором пионерском отряде. И его принимал в пионеры то ли Калинин, то ли Троцкий.
ГОРАЛИК. И то, и то прекрасно.
РУБИНШТЕЙН. Да-да-да. Он еще запомнил такой эпизод, потом рассказывал: после этого торжественного приема в пионеры он ехал домой на трамвае, а в этом же трамвае ехал, кажется, Троцкий.
Отец учился в инженерно-строительном институте и очень быстро, в скорости после рождения моего старшего брата, попал в армию. И стал военным инженером. В этом качестве его уже и застало начало войны. То есть к началу войны он уже был офицером.
В 1938 году родился мой старший брат. Родился он в Харькове, где жила мамина родня. Потом они переехали в Москву и жили все в том же доме, который я описал. Это была совершенно удивительная квартира, такая Воронья слободка. Еще и я там успел пожить после рождения.
Сразу после присоединения Балтии к СССР отца послали в Литву.
Сначала они приехали в Каунас, про который мама рассказывала мне потом, как тамошние русские, которые только что туда приехали, шутили, называя город не «Каунас», а «Пока у нас».
Буквально за несколько дней до начала войны отец был командирован куда-то – в Ригу, кажется. А мама осталась с моим трех с половиной летним братом в маленьком литовском городке. Совсем рядом с границей. Там было очень много евреев. И комнату они снимали тоже в каком-то еврейском доме.
В тот день, когда началась война, а было это, как мы знаем, ночью, какой-то сослуживец отца вспомнил, что есть такая семья Рубинштейна, и он заехал за ними на грузовике. Она успела схватить сына, одеяло, пальто, часики и паспорт. Они сели в машину и поехали.
В каждом городе, который они проезжали, они собирались сесть в поезд и ехать в Москву. Но не тут-то было. В Вильнюсе уже вовсю стреляли, прямо по машине. Вокзал в Минске был разбомблен и горел. Они почти до Москвы доехали, короче говоря.
В это же время отца, который находился в Риге (там тоже начали все бомбить), и еще каких-то военных посадили на какое-то судно, чтобы вывезти из Риги на восток. И это судно тоже разбомбили. И вот отец, не умевший плавать, барахтался два с лишним часа в воде в пробковом поясе. Он говорит, что прямо рядом с ним люди стрелялись. Но оставшихся в живых кто-то подобрал.
Ну, дальше Ленинградский фронт – с начала и до конца. Ленинградский фронт, где, как он рассказывал, больше умирали от дистрофии, чем от пуль и снарядов.
В общем, отец успел провоевать всю войну.
Мои родители друг о друге ничего не знали несколько месяцев, и оба друг про друга были уверены, что их нет в живых. В общем, вся эта история – сплошное чудо. Потом они все же списались через каких-то родственников.
Мать тоже в эвакуацию с братом уехала. В Уфу. В этой эвакуации много было всяких историй. Я как-то, уже взрослый, спросил однажды у брата: «А что ты ел самое вкусное в своей жизни?» Он немножко подумал и рассказал, что однажды в этой самой Уфе какая-то девочка, с которой он дружил, пригласила на свой день рождения, и ее мама угостила детей тортом собственного приготовления. Торт был изготовлен из картофельных очисток, маргарина и сахарина. Но она его еще как-то украсила. И вот брат сказал, что ничего в жизни вкуснее не ел.
Мама мне однажды призналась, когда я был уже взрослым, что вообще я не только не предполагался, но даже были предприняты попытки от меня избавиться, но это было тогда очень строго запрещено. И мама мне рассказывала, уже потом, что она договорилась с каким-то «левым» доктором и уже ему заплатила, и уже пришла к нему делать операцию, а он прямо на пороге своей квартиры ей сказал: «Вот вам ваши деньги, вы меня не видели, я вас не видел. Моего коллегу вчера арестовали за это дело. Все, до свидания». И она ушла в слезах. А потом как-то успокоилась и подумала: «Ну ладно, ну рожу я уже. Но пусть это будет хотя бы девочка». Нет, родился этот Левочка. Четыре с половиной килограмма, между прочим.
Я родился еще при карточках, а в конце года карточки отменили. И мама мне рассказывала, что в тот день, когда их отменили, она сразу же пошла в Елисеевский магазин, купила так называемую французскую булку, сто граммов окорока и не донесла до дома. Она села на Тверском бульваре и съела это все в один присест.
ГОРАЛИК. Почти идентичная история, в которой участвует французская булочка, есть у моей бабушки. Точно так же, про это же время.
РУБИНШТЕЙН. Еще мне мама рассказывала, что, когда она была мною беременна, она все время ходила гулять в скверик около Гнесинского института, и уверяла меня, что у меня хороший слух именно поэтому. Дело в том, что я единственный в семье, у кого приличный слух.
ГОРАЛИК. Вы родились в ту же квартиру с углом печки?
РУБИНШТЕЙН. Да, я родился «туда же».
ГОРАЛИК. Отец уже вернулся?
РУБИНШТЕЙН. Ну да, собственно, следствием его возвращения и было мое рождение. Да, уже вернулся, и все мое детство, по крайней мере до школы, он еще носил погоны.