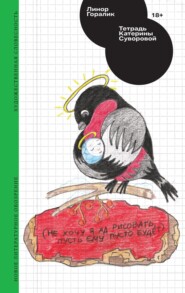По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Двойные мосты Венисаны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Двойные мосты Венисаны
Линор Горалик
Венисана #2
Захватывающая сказка-миф в нескольких книгах. История о страшной войне, развернувшейся между людьми и живущими в воде ундами, и о девочке Агате, оказавшейся между двух миров. Почему Агата оказывается отвержена своими друзьями? Почему нельзя ходить по правой стороне двойных мостов Венисаны? Как так получается, что Агата узнает в предательнице Азурре самого близкого человека во всем мире? Загадок становится все больше…
Вторая книга цикла.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Линор Горалик
Двойные мосты Венисаны
© Линор Горалик, 2020
© Издательство «Лайвбук», 2021
ПЕРВАЯ КНИГА СЕРИИ
Холодная вода Венисаны
В первой книге серии девочка Агата вместе с другими детьми живет в колледжии, и за каждым их шагом назойливо, но заботливо следят мистресс.
Но однажды, после падения в воду, жизнь Агаты круто меняется. Отныне ее считают опасной, зараженной, и она вынуждена скрываться. Прежний мир отталкивает Агату, а загадочная вода Венисаны, где живут утопленники, мечтающие вернуться на сушу, и крылатые габо, владеющие телепатией и ненавидящие людей, – манит. Девочка пытается понять, как же устроен этот страшный непостижимый город и узнает про грядущую войну между обитателями Венисаны.
Сцена 1,
угодная святой Агате, ибо здесь расстаются с тем, о чем плачет сердце
Кончик пера такой округлый, и гибкий, и упругий, что Агате хочется только одного: пусть этот момент никогда не кончается, пусть она вечно стоит вот так, с закрытыми глазами, у самой стенки, в самом дальнем углу спальни девочек, укутанная до самых глаз – так, что по спине текут тоненькие, щекочущие струйки пота, – и гладит пальцем кончик пера, торчащего из подкладки ее перьевой шубки, и никто, никто ее не замечает. Когда-то у Агаты была целая коллекция перьев габо – они с папой собирали эти перья по дороге от дома к са'Марко, и больше всего на свете Агата любила трогать пальцем их упругие мягкие кончики. Папа обещал сделать Агате из этих перьев высокую белую корону в три ряда, и тогда бы они играли в злую королеву Вассу и ее тайного возлюбленного, праведного ловчего Гарциона, но до войны папа не успел, а теперь даже думать такие мысли нельзя, нет, нет, нет, не дай бог у Агаты потекут слезы, Агате только этого не хватало. Агата отдергивает руку от кончика пера и больно щипает себя за запястье: то-то же, нечего. Жар шубки, валенок и валяной шапочки становится невыносимым, но снимать шапку нельзя, почти вся ее команда уже оделась, брат Йонатан привел мальчиков, таких же укутанных, как Агата, кто тут девочка, а кто мальчик – теперь не разберешь, все похожи на толстых, огромных и нелепых птенцов габо. Раньше Агата сказала бы это Мелиссе и Торсону, и они бы немного поиграли в птенцов габо – для такой игры и не надо ничего, они бы просто знали, что они птенцы габо, а больше бы никто не знал, и это было бы прекрасно; раньше бы – но не теперь. Теперь Агата никому ничего не говорит. Тем более Мелиссе. И уж тем более о габо: нет уж, только разговора о габо Агате и не хватало («Эй, ты, габетисса!..» «Джойсон, если я услышу это слово еще хоть раз, ты не выйдешь из мастерской двенадцать часов подряд и будешь перемывать в чане волосы, пока твои руки не сотрутся в кровь, я тебе это обещаю». «Сестра Юлалия, но ведь это не ругательство!» «Джойсон! Ты отправляешься мыть волосы в мастерских прямо сейчас!..») Что же до Торсона… Торсон далеко, Торсону надо ухаживать за бабушкой теперь, когда быть профетто больше не запрещено и его родители ушли в армию, а ненависть Мелиссы, бывшей лучшей Агатиной подруги, к «девочке, начавшей войну» (и разлучившей ее с Торсоном) так сильна, что вчера в Вечерней комнате Мелисса отказалась взять чашку с пуншем у Агаты из рук: перегнулась и налила себе пунш сама, пролила половину – но вот так. Агата на секунду представляет себе большого, спокойного, умного Торсона и прикусывает губу, чтобы не заскулить от тоски и боли. Торсону можно было бы все сказать. Нет, не так: Торсону можно было бы ничего не говорить. Он бы не заставлял Агату разговаривать, как делают сейчас Рита с Урсулой, кидая в нее хлебные шарики, чтобы разозлить и заставить сказать хоть слово. Торсон мог бы просто положить руку ей на плечо – и вот эта боль утекла бы вниз, из груди – в живот, из живота – в ноги, из ног – в пол, а через пол – в землю, думает Агата. А еще Торсон мог бы опустить лицо в миску с водой, открыть глаза – и сказать Агате, правда ли, что после начала войны унды убили всех утопленников, опасаясь, что те будут помогать людям, и продолжают убивать утонувших солдат. А еще… Нет, нет, нет, об этом тоже нельзя думать. Агата снова щипает себя за запястье, очень больно, но это помогает. Теперь она не думает ни о чем, кроме противной жаркой перьевой шапки: скорее бы их уже вывели отсюда. На улице, наверное, еще жарче, чем за толстыми стенами колледжии, но надо просто потерпеть. А потерпеть Агата умеет; чему-чему, а этому за три месяца войны она научилась очень хорошо.
Внезапно Агата понимает, что кто-то смеется, что к этому смеху присоединяются все новые и новые голоса. Оказывается, сестра Юлалия уже несколько раз окликнула ее, все построились, ждут только Агату. Агата с удивлением смотрит на свою команду: никто не обвязан веревкой, зато у каждого есть пара; пары держатся за руки, а тот, кто стоит слева, еще и держит за плечо идущего впереди. У монахов все иначе, чем у учителей колледжии. Для Агаты нет пары, и она стоит в растерянности, не понимая, что ей делать и чего от нее хотят.
– Может, ее габо понесут, – говорит кто-то очень громким шепотом.
Раздаются смешки, и на секунду Агату охватывает ужас: она почти верит, что кто-то сумел заглянуть в ее мечты, в ее одну-единственную мечту: как она лежит ночью в кровати, и как в окно дормитории, в ее окно на третьем этаже, тихо стучится желтый клюв с кроваво-красной точкой на конце, и она видит маленького габо Гефеста, успевшего стать очень, очень большим… Агата бы разбудила Мелиссу, она бы даже заговорила, честное слово: она бы осмелилась просить Мелиссу пойти с ней, она бы умоляла и уговаривала, и они бы полетели к Торсону, а потом нашли Агатиных родителей и остались воевать рядом с ними, плечом к плечу, а потом… Но габо исчезли на третий день войны, улетели на самые верхние этажи, и больше их никто не видел. Несколько часов весь воздух был заполнен габо, они летели вверх, это было страшно и прекрасно, а теперь Нолан, который каждый день ходит по улицам с братом Серманом и подает умирающим Первую и Последнюю кашу, говорит, что взрослые шепчутся: мол, на верхних этажах нет рыбы, и там, на самом-самом верху, габо нападают на людей, сажают их в клетки, откармливают и едят; а еще взрослые говорят, что габо в сговоре с ундами, только в чем этот сговор – никому невдомек. Правда, Ульрик считает, что габо теперь так же ненавидят ундов, как всегда ненавидели людей, но Агата не понимает, за что габо ненавидеть ундов, а Ульрик не может объяснить толком; он очень умный, но иногда соображает больше, чем может рассказать словами. Время от времени Агате кажется, что Ульрик – еще один человек, с которым она могла бы заставить себя говорить: она могла бы объяснить ему, объяснить… Что? «Я не хотела. Я хотела, как лучше. Я не знала, что так будет». Время от времени Агата случайно встречается с Ульриком взглядом, и у нее создается впечатление, что он и так все понимает. Ульрик и правда очень умный. Агата поспешно ищет его глазами в слабой надежде, что Ульрик даст ей какой-нибудь знак и поможет понять, как ей быть, но Ульрику не до нее: он утешает плачущую перепуганную Шанну, которая выглядит самой взрослой из них всех, а на самом деле ребенок ребенком. Тогда сестра Юлалия подходит к Агате и мягко берет ее за плечо. Агата пойдет впереди, в паре с самой сестрой Юлалией, а брат Йонатан будет замыкать шествие. Агате хочется обернуться, ей вдруг становится так страшно, еще страшнее, чем прежде: сколько раз она мечтала вырваться из колледжии, а теперь она, кажется, готова сесть на пол, упереться ногами и руками и выть, как делал ее младший брат Андрей, когда был совсем малышом, – лишь бы ее не уводили из этих знакомых стен, не переставших быть знакомыми даже теперь, когда вместо парт в классах стоят кровати, а дормитория, где раньше спали Агата, Мелисса и еще девять их одноклассниц, вся завешана сохнущими на веревках волосами. Раненых начнут перевозить через час, Агата вчера слышала, как за стенкой сестра Юлалия своим невероятным серебряным голосом объясняла сестрам и братьям Ордена Святой Агаты планы на этот день; Агата почти уверена, что именно за этот голос, способный, наверное, проникать сквозь землю и подниматься к небесам, сестру Юлалию и сделали старшей аббатисой, – недаром же святая Агата, покровительница могильщиков, профетто, нарциссов, изменников, отчаянных, врачей и миротворцев, говорила с мертвыми грешниками сквозь кладбищенскую землю, и они каялись и попадали в рай. Никаких других достоинств Агата в сестре Юлалии не видит, сердце у этой женщины – как камень, от нее даже больные – что люди, что унды – не слышат ни одного доброго слова, одни правила и приказания. Правда, все братья и сестры ведут себя с людьми и ундами одинаково – то есть, по крайней мере, стараются: так уж ордену положено, служители святой Агаты – госпитальеры, и они должны лечить всех одинаково; но получается это не у всех – Агата же видит, как у старого брата Виктория поджимаются губы каждый раз, когда надо клеить повязки на гладкую, скользкую кожу ундов, и как двум молодым сестрам (они и правда сестры между собой, Алина и Аделаида) делается тошно, когда унды заводят свою вечернюю музыку на зубных пластинках.
Агата все видит: когда никто не разговаривает с тобой без крайней нужды, а самты вообще не разговариваешь ни с кем, когда тебя презирают больше, чем даже дезертиров, тебе только и остается, что смотреть, а еще – слушать; она напрягает слух каждую секунду, не может перестать, потому что твердо знает: сколько ни запрещай всем говорить о войне, все равно все говорят о войне, вот только не с Агатой. Агате кажется, что слух у нее стал, точно у кошки: иногда она даже не понимает, действительно ли услышала сказанное шепотом в другом конце комнаты или это ее измученная, сжавшаяся в комок маленькая душа воображает бог весть что; и еще ей кажется, что от напряжения уши у нее стали болеть где-то там, внутри, – совсем как болят от бесконечной возни со священными нарциссами и твердыми, как картон, цветами сердцеедки в палисаднике ее перетруженные запястья. Сперва эта ушная боль пугает Агату, она даже думает поговорить с отцом Викторием, который отвечает за здоровье детей, и попросить его заглянуть ей в уши, но позже она решает, что нет в этом никакого смысла. В конце концов, некоторые вещи, которые Агата слышит, она бы ни за что на свете не согласилась пропустить – и нет, она еще не спала, хотя уже засыпала, когда вчера совершенно отчетливо услышала, как папа говорит маме совсем-совсем вот так, как будто они не сражались сейчас против ундов вместе со своей командой где-то у опушки синего леса Венисфайн, а стояли рядом с ее, Агатиной, кроватью: «Это разобьет мне сердце». От папиного голоса и этой странной, страшной фразы Агату подбросило на кровати, сетка заскрипела, Рита тут же сказала что-то приторное и ядовитое, но Агата не слышала ее, а слышала только папин голос, руки у нее дрожали: папа Агаты – гордость своей команды, папа Агаты – самый сильный, самый храбрый человек на свете, хоть он и не милитатто, как мама или дядя Рино; что же такое мама должна сделать, чтобы разбить ему сердце? Агата ущипнула себя за запястье – раз, другой, третий, очень больно, ровно там, где от щипков уже давно образовался громадный синяк, который надо прятать от монахов и монахинь; она быстро обшарила свою ночную рубашку – нет ли где маленького клочка шерсти или крошечного сломанного когтя? Агате двенадцать, она уже слишком взрослая, чтобы верить, будто ночные мары действительно садятся человеку на грудь и будят его, чтобы во сне он не узнал того, с чем не сможет жить дальше, – трясут его так, что потом находишь на себе их шерсть или кусочек коготка, – но в тот момент Агата была совсем детеныш, меньше Андрея, и чего бы она только не отдала, чтобы можно было заплакать, позвать папу, и он пришел бы, включил ее домашний ночник с морскими кабанчиками, которых они любили ловить сетью и отпускать, послушав их похрюкивания, с моста у площади пья'Волла, рассказал ей наизусть знакомую историю о том, как святую Агату полюбил святой Норманн, муж святой Фелиции, и Агатина святая стала покровительницей изменников… Ох, как бы все сразу стало хорошо. На секунду Агату обдало ужасом: если бы Рита или Ульрика проснулись и увидели, как она шарит по одеялу, они бы издевались над ней неделю – но все спали, все, кроме Агаты. Нет, не все: кто-то шептался в дальнем углу, кто-то был так занят своим разговором, что им не было дела до Агаты и ее глупостей, и Агата затаилась, свернулась клубком, туго-туго, напрягла свои кошачьи уши и услышала слово «ось», и еще услышала, как кто-то очень тихо плачет. Плакала Шанна, длинная нескладная Шанна, самая трусливая девочка на свете, и сестра Морицца, сидя у нее на кровати, рисовала круги в воздухе, и Агата, закрыв глаза, начала повторять себе то, что им объясняли день за днем: все это слухи, глупые слухи, ни люди, ни унды не могут «перевернуть мир», никто не может перевернуть мир так, чтобы Венискайл ушел под воду, это просто такое выражение, это невозможно. Видно, Шанне было совсем плохо, если сестра Морицца позволила ей говорить о войне – пусть и так, пусть и шепотом, в темноте дормитории, пусть и не с другими детьми, а с одной из монахинь: когда Ульрику и хромого Харманна (всегда и всем клявшегося, что его точно возьмут быть милитатто, потому что он самый сильный в команде, и плевать на его хромоту) брат Йонатан застукал в красильной комнате за разговором о том, что унды собираются затопить первый этаж и так выиграть войну, им пришлось сначала выслушать лекцию по физике и признать, что поднять уровень воды невозможно, а потом окрашивать восемь корзин волос в самый трудный, темно-синий цвет, и они закончили только к шести утра и от усталости заснули прямо около красильных чанов, и потом весь день у них обоих страшно болела голова. Все ненавидят красить волосы, особенно в синий цвет, поэтому в красильной комнате работают в основном монахи или те, кого наказали. Зеленый не намного лучше: чтобы волосы стали синими, их надо прокрашивать четыре раза, а чтобы зелеными – три. Зато красными волосы становятся всего с одного раза, но пока ты топишь их в чане с красным раствором и мешаешь тяжеленной серебряной палкой, у тебя ужасно чешутся и слезятся глаза – зато и стежки красными волосами получаются самыми красивыми, они блестят даже в темноте, когда на вышивке много красного – она самая дорогая, а огромная икона святой Агаты в красном пиджаке и с рыжими волосами, которая теперь висит в столовой колледжии, наверное, стоит столько, что во всей Венисане не найдется человека с такими деньгами, – даже майстер Саломон, про которого говорят, что весь чердак его булочной забит золотыми «ласками», небось, не смог бы ее купить, да и монахи эту икону ни за что, наверное, не согласились бы продать. У Риты есть тонкий волосяной пояс с вышивкой из немеритовых косточек, который ее богатый-пребогатый папа подарил ей на десятилетие и который Рита носит каждый день не снимая, даже сейчас, поверх монастырской формы, – и то он стоил столько, что Ритина мама сказала, будто за эти деньги они могли всей семьей отдыхать на четвертом этаже три недели (если, конечно, Рита не врет, Рита – это Рита). Агата никогда не работала в красильной комнате, она ведет себя очень тихо, тише воды – ниже травы, но Рита говорит, мол, за все, что Агата натворила, ее надо запереть в красильной и заставить работать там с утра до ночи. Распутывать и мыть волосы у Агаты тоже не получилось, она начинала засыпать, а для вышивания волосами у нее не хватало таланта, не то что у Мелиссы, на которую монахини не могли нахвалиться и которой уже доверили вышивать самостоятельно маленькие дешевые образки; Мелисса гордо говорит, что такие образки покупают чаще всего и что как раз на вырученные за них деньги орден и живет, бесплатно леча больных и исповедуя погребенных. Нет, Агате нашли другую работу, работу для девочки, которая живет как во сне и почти ничего не может: она ухаживает за палисадником с маленькими статуями святых, которые теперь стоят прямо под окнами дормиторий, по одному святому на каждое имя – будь то имена учеников, ушедших на войну мистресс и майстеров или монахов с монахинями, а за всех ундов отдувается святой Арман, покровитель одиноких сердцем, ушедших из дома, заблуждающихся, блаженных и лысых. Большинству детей – «сыновей» и «дочерей», так их теперь называют монахи, – нет до своих святых никакого дела, только Ульрик и Ульрика да еще несколько ребят, родившихся и выросших в семьях монахов, приходят к своим статуям помолиться и приносят фигурки, слепленные из хлеба. Ульрик лепит очень хорошо, и Агата всегда пытается угадать по его дарам, о чем он просит святую Ульрику, хотя это и некрасиво, а его сестра-близнец просто делает из хлеба кубики или колбаски, и Агата не верит, что Ульрике есть до святой хоть какое-нибудь дело. У Ульрики длинные волосы, которыми она страшно гордится, и когда Ульрика проходит мимо Агаты так, будто Агата – пустое место, Агата злорадно думает, что недолго Ульрике осталось ходить с этой прекрасной белой гривой: год, а то и меньше, и засадят повзрослевшую Ульрику вышивать собственными волосами – если, конечно, она решит быть монахиней, как ее мать с отцом. Перед войной почти все женщины, уходя на фронт, остригли волосы для удобства, и теперь монахам хватит волос для вышивки, наверное, на десять лет вперед – если, подумала Агата, через десять лет мир все еще будет вот таким, как сейчас, если через десять лет мы все не будем рабами ундов, не будем жить под водой и стеречь их икру. Агата попыталась представить себе маму без двух длинных темных кос и вдруг начала рыдать, и щипать, щипать себя за руку, и кусать, кусать, кусать подушку, и тут рука сестры Мориццы легла ей на голову, и Агата услышала шепот у себя над ухом: «Пресвятая Агата, старшая сестра наша, сильная среди нас, мудрая среди нас, страдающая за нас, посмотри на дочь твою…» – и от слова «дочь» Агате стало так невыносимо больно, что она изо всех сил оттолкнула от себя сестру Мориццу, и та ударилась бедром о столбик кровати, постояла немного и тихо ушла. Чувствуя, что кошмар вот-вот навалится на нее опять, Агата тогда закусила уголок подушки и начала говорить себе: «Не спи! Не спи! Не смей спать! Тебе опять приснится такое… Такое… Не смей спать! Не спи! Не спи! Не спи!..»
– Не спи, Агата! Не спи! – резко говорит серебряный голос у Агаты над ухом; цепкая рука дергает ее за руку. За спиной у Агаты смеются, кто-то больно тычет ее пальцем в спину. Агата понимает, что она опять застыла и из-за нее вся колонна, вся ее команда встала посреди улицы, перед воротами колледжии, в шубах и шапках стоит на жаре, ждет, когда Агата с сестрой Юлалией двинутся вперед.
– Закрывайте глаза, – командует брат Йонатан, – закрывайте глаза и доверяйте друг другу: идите за тем, кто идет впереди.
Агата делает шаг, еще шаг, обливаясь потом и чувствуя, что ее мокрая ладошка вот-вот выскользнет из ладони сестры Юлалии; что тогда? Агата притворяется, что закрывает глаза, но оставляет маленькие щелочки и все видит. Они проходят вдоль палисадника: посаженные Агатой нарциссы втоптаны в землю, сердцеедки валяются, оскалив жадные зубы, на перерытом каблуками газоне; незнакомый Агате толстый монах и младшая хозяйка ордена, сестра Лоретта, заворачивают статуи святых в холстину и укладывают на одну из повозок, проседающих под грузом парт и кроватей, одежды и книг, медикаментов и бинтов, волосяных икон и деревянных ящиков с консервными банками. Еще десять повозок стоят пустыми – Агата видит, как за окнами бывшей главной залы, ставшей центральной палатой лазарета, монахи перекладывают на носилки тех раненых, которые не могут идти сами. Внезапно у Агаты перехватывает дыхание: господи, она бы все сейчас отдала за то, чтобы просто вернуться во вчерашний день, в уже знакомый мир госпиталя, который еще сегодня утром казался ей таким невыносимым! Она бы выдержала и ежедневную серую кашу без сахара, и хлебные шарики, и сны, и тихий плач Шанны каждую ночь, и ужасные слухи, которые пересказывает по вечерам, после отбоя, Мелисса, клянясь, будто брат Корин говорил брату Гориану, что в синем лесу Венисфайн теперь… В эту секунду сердце Агаты бухает, потому что Агата вдруг чуть не валится вперед, споткнувшись обо что-то огромное и упругое, и, забыв приказ брата Йонатана, распахивает глаза. Два тела лежат поперек тротуара: одно – гладкое, полупрозрачное, длинное, и Агата успевает заметить рядом с телом тяжелый кривой предмет с острой стрелой в прозрачном ложе, а другое тело – крупное, круглое, и Агата видит только золотые квадратики на рукаве и темное озерцо под рукавом, и тут сестра Юлалия резко закрывает Агате глаза ладонью и тащит ее вперед, и Агата, задыхаясь, до боли сжимает веки, и не понимает, не понимает, что эти тела делают тут, на улице, если бои идут под водой, бои должны идти под водой?..
Потея и отдуваясь, укутанная в перья и валяные ботики команда Агаты с закрытыми глазами медленно идет по раскаленным улицам родного первого этажа, мимо домов с заколоченными ставнями, к пья'Скалатто – к огромной лестнице, ведущей на второй этаж Венискайла.
Сцена 2,
угодная святой Агате, ибо здесь ее именем действуют без ее помощи
Они идут все медленнее, жара становится все невыносимей, а шум – все громче, и никто уже, конечно, не держит глаза закрытыми, и Агата тоже, и все они смотрят на небо, и все боятся посмотреть вниз. Наконец вся их маленькая колонна останавливается, и Агата чувствует, как напряжена ладонь сестры Юлалии: вся пья'Скалатто забита людьми, колонна не может двигаться дальше. Агата не понимает, почему такое столпотворение: в их с Торсоном вылазках в город она привыкла видеть на этой дальней площади только кукловодов и огненных танцоров да ценителей их искусства, вечно спорящих о том, почему именно каждый из плясунов в подметки не годится великому Крылатому Юджину, да возрадуется святой Юджин его неистовым пляскам там, на сияющей внешней тверди Венисаны. Но сейчас люди на площади стоят плотной, напряженной, нервной толпой, и Агате страшно: она не понимает, почему как минимум половина города пытается прорваться к лестнице на второй этаж – и почему бы всем этим людям, собственно, просто не подняться по лестнице. «Пропуск, – шепчет у нее за спиной Каринна, – солдаты никому не дают пройти без пропуска». Идущий в паре с Каринной Харманн начинает громко требовать, чтобы его отвели к солдатам, – он-то все знает про солдат и умеет разговаривать на их языке, оба его отца – милитатто в отборном отряде, который охотится на дезертиров и уже два раза почти поймал их презренную предводительницу по кличке Азурра (интересно, вяло думает Агата, откуда ему знать? Вот болтун), а сам Харманн, когда станет капо милитатто, уж как-нибудь позаботится, чтобы его солдаты делали свою работу быстро и не устраивали на площадях столпотворений. Только пустите его, Харманна, к солдатам, и их маленькая колонна мигом окажется на втором этаже. Агата думает о том, что Харманн, наверное, станет наглостью их команды, и молчит, истекая по?том под шубкой и разглядывая серые ворсистые разводы на своих маленьких валенках, но в глубине души очень сильно сомневается, что через год, когда половину их команды отберут и начнут тренировать, чтобы, как в каждой команде до них вот уже двести лет подряд, у них были свои воины-милитатто, Харманн окажется в этой половине – не из-за его хромоты (вот у дяди Рона нет, например, одного глаза, а он капо милитатто своей команды), а из-за этого самого горлопанства. Но Агата, конечно, держит свои мысли при себе: она закрыла глаза и слушает, слушает и слышит всех, даже сквозь вопли Харманна: и шмыгающую носом вечно простуженную Риту, и Ульрику, от страха шепотом молящуюся своей святой, чтобы ундийские шпионы не похитили ее прямо тут, в толпе, и не утащили под воду, чтобы на ней учиться лучше пытать людей, и шарканье подошв отца Йонатана, который растерянно топчется на месте и явно не понимает, что делать дальше, и еще какой-то странный звук: как будто очень тонко поет комар, и Агата знает этот звук, – это очень тонко, очень тихо плачет Мелисса, и тут же раздается тихий смешок и похлопывание ладони Мелиссе по спине:
– Я же шучу-у-у, – протяжно говорит Рита. – Что ты как дурочка, шуток не понимаешь?
Несколько дней, всего несколько дней назад Мелисса с мерзкой улыбочкой говорила, как будто Агата была невидимкой и не сидела прямо на соседней кровати, что Агата все выдумала про свою дружбу с габо, что ни один габо не стал бы иметь дело с человеческой девочкой, и Агата чувствовала, что вот-вот у нее потекут слезы, и точно так же Мелисса говорила протяжно, совсем Ритиным голосом: «Я же шучу-у-у… Что ты как дурочка, шуток не понимаешь?»
Внезапно Агата замечает, что у нее болит рука, потому что сестра Юлалия нервно сжимает ее изо всех сил, а еще – что у нее на плече больше не лежит ладонь Массимо: их маленькая колонна под давлением толпы начинает распадаться, их вот-вот разбросает в разные стороны, кто-то уже взвизгивает и пытается прорваться вперед, кто-то уже грубо отталкивает в сторону, под ноги к вездесущим, ненавидимым монахами продавцам аляповатых индульгенций, вцепившихся друг в друга Сонни и Самарру, двух влюбленных малышек, которые, по словам мистресс Джулы, обещают стать осторожностью своей команды, и Ульрик пытается удержать их на месте, но гладкие перья их шубок выскальзывают у него из рук. По лицу сестры Юлалии течет пот, она срывает с головы шапку и озирается в панике, и Агате кажется, что сестра Юлалия сейчас заплачет. Взгляды Агаты и Ульрика скрещиваются, и вдруг Агата чувствует себя так, словно у нее внутри просыпается некто давным-давно уснувший, кого Агата знала очень хорошо, но совсем забыла, не видела давным-давно и так страстно, так жадно хочет увидеть, и сейчас этот прекрасный, сильный, отважный кто-то бросится к Ульрику на помощь, двумя словами успокоит Сонни, оттолкнет двух злобных женщин, теснящих прочь от лестницы Мелиссу и Шанну, пробьется сквозь толпу к брату Йонатану и вместе с ним замкнет хвост колонны, вот сейчас, вот сейчас… И тут над площадью плывет прекрасный, нежный серебряный голос, и Агата узнает слова Моления к святой Агате – под эти слова, выпеваемые на рассвете монашескими голосами в бывшем научном классе, она уже привыкла просыпаться:
– О Ты, Великая Канцелярша, Ты, опора тех, чьи бумаги сгорели в огне небесного гнева, Ты, для кого не существует непреложных печатей, Ты, выводящая на свет площадей из тьмы душевной…
Где-то далеко за спиной у Агаты сильный мужской голос затягивает во всю силу:
– …К Тебе я обращаю свое лицо, Тебе протягиваю свое сердце: вот, сними с него отпечатки, впиши меня в свой блаженный реестр…
Слева от Агаты, задыхаясь, пробиваясь сквозь толпу, таща за собой робко подпевающих Сонни и Самарру, громко поет, почти выкрикивая слова, Ульрик:
– …Что для меня пустое слово – для Тебя книга души моей, что для меня вода – в ампулах Твоих становится панацеей…
Толпа расступается, постепенно они сбиваются в кучку – вспотевшие, укутанные птенцы, поющие гимн кто во что горазд, и даже Агата в этот момент поет – не размыкая губ и не открывая рта, но все-таки поет про себя, – а брат Йонатан уже быстро разбивает своих «дочерей» и «сыновей» по парам, а сестра Юлалия, снова натянув на свою короткую, ежиком остриженную голову шапку, быстро кладет ладошки стоящих сзади на плечи впередистоящих – и вот они трогаются в путь, и их пропускают, и они подходят к подножию огромной, широченной, выше некоторых одноэтажных зданий лестнице на второй этаж, по которой, если бы не война, Агате было бы строго-настрого запрещено подниматься еще два года, и даже прежняя, ничего не боявшаяся Агата, знавшая первый этаж как собственную ладошку, никогда не осмелилась бы нарушить этот запрет. От желтоватых камней лестницы, от ее немыслимо древних, в человеческий рост перил с вырезанными во времена Первого рабства сценами битв между еще не умевшими ходить предками ундов и синими, как лес Венисфайн, предками габо, тянет холодом. Гимн распадается на отдельные слова и смолкает, Агата кисло думает, что вот же – и от святой Агаты, в которую она после всех своих молитв больше совсем-совсем, ни капельки не верит, есть какая-то польза. Сестра Юлалия протягивает одному из одетых в серое солдат, цепью преграждающих путь на лестницу, пачку голубоватых бумаг: на каждой сверху стоит Печать святой Агаты – канцелярская скрепка и шприц в кольце света, – а внизу подпись и печать ка'дуче. Толпа завистливо вздыхает. Солдат медленно идет вдоль Агатиной команды, пересчитывая всех по головам; потом проходит обратно, спрашивая каждого, как его зовут, и сверяясь с бумагами, и когда настает очередь Агаты, за нее отвечает сестра Юлалия.
– Твой святой – твоя судьба, —
хмыкает солдат, и Агата, которой за последние месяцы эта фраза надоела хуже горькой редьки, только ниже опускает голову и видит у себя под ногами чей-то маленький, дешевый, втоптанный в раскаленную брусчатку пья'Скалатто нагрудный волосяной образок, на котором еще видны острые рыжие уши святопризванной дюкки Ласки.
Наконец солдаты расступаются, сестра Юлалия тянет Агату за собой, и они поднимаются по крутым ступеням, которые постепенно становятся все холоднее и хо-лоднее: у Агаты даже в валяных ботиках мерзнут ноги, и она вдруг замечает, что ботики начали поскрипывать. Это очень странно: совершенно непонятно, что бы в них могло скрипеть; Агата хочет остановиться и осмотреть свои валяные шерстяные подошвы, но останавливаться нельзя – монахи торопят их, вокруг по лестнице поднимаются еще какие-то люди, сзади Агату то и дело почти толкают в спину Мелисса и Нолан, и вдруг Мелисса громко вскрикивает:
– Снег! Это же снег!!! – и Агата понимает, что впервые в жизни видит настоящий снег.
Снег падает медленно-медленно, и на секунду вся их маленькая колонна замирает. Это совсем не то, что видеть быстро тающие снежинки у себя на ладони, когда майстер Пуро, преподаватель науки, осторожно вытряхивает их из принесенной с ледника колбы и ты боишься, что тебе не хватит. Снег похож на пух габо, вот на что, думает Агата, и при мысли о габо у нее на секунду сжимается сердце. Габетисса. Подставляя под снег ладони, Агата пытается вообразить, что это действительно пух габо – падает с неба, потому что огромные прекрасные птицы прилетели за ней, Агатой, и сейчас Гефест, который, наверное, успел здорово вырасти, заберет ее отсюда – туда, на самые верхние этажи, о которых никто ничего не знает, а если знает, то уж точно детям не рассказывает (Мелиссины байки о Верхнем Море и о ядовитых обезьянах тоссикато, к которым нельзя прикасаться, не в счет). Или еще лучше – габо подхватят ее, пролетят над строем солдат вниз по лестнице и унесут под воду, к папе с мамой, и Агата будет сражаться рядом с ними, бок о бок, против ундов, которые хотят, чтобы люди, как двести лет назад, стали их рабами, платили оброк и никогда больше не ловили рыбу, а мама будет учить ее всему, что умеют милитатто, и она, Агата, станет милитатто даже лучше мамы, вот только убивать ундов ей очень страшно, но она справится, ей не впервой убивать, или, может, даже убивать совсем не придется: они с Гефестом найдут самого главного унда и возьмут его в плен, и тогда у нее, у Агаты, появится новое прозвище: «Девочка, прекратившая войну»… В нетерпении Агата поднимает голову – и видит серое холодное небо второго этажа, прошитое алыми нитями пылающего рассвета, и очень странную улицу: совершенно прямую, очень широкую, так не похожую на все, к чему Агата привыкла, и дома на этой улице – изящные, двухэтажные, с колоннами и портиками, и тоже серые и холодные, их стены поблескивают не то от снега, не то сами по себе, и Агата понимает, что никуда, никуда, никуда она не денется отсюда, никуда, никуда, никуда. Их уже торопят: монастырь святой Агаты, он же госпиталь, далеко-далеко, а здешний холод никого не щадит.
– Уж поверьте, – сухо говорит сестра Юлалия, – на снег вы еще насмотритесь. Вперед, вперед, вперед.
К своему огромному удивлению, Агата замечает, что ей, совсем недавно изнывавшей от жары, действительно зябко: они спешат, обгоняя прохожих, несколько раз рука Мелиссы слетает с ее плеча и тут же судорожно нащупывает его вновь, колонна торопливо сворачивает на другой проспект, такой же прямой и очень широкий, и тут мимо них проносятся, вылетев из-за поворота, настоящие сани – впереди лошадка, за ней летящая по снегу санная повозочка, в повозочке полулежат мужчина и женщина. Агата успевает разглядеть, что женщина очень красива, а мужчина, легко похлопывающий лошадь по крупу длинным-длинным кнутиком, кажется ей смутно знакомым, вот только непонятно, где Агата могла его видеть. Вдруг она понимает, что согрелась, но согрелась как-то странно, – снизу вверх: ногам тепло, и это тепло заползает под шубку, а щеки и нос все еще мерзнут так, что Агата их едва чувствует; на секунду ей приходит в голову странная мысль, что под ногами у нее лежит огромный жаркий кот и от него идет сладкий майский запах цветущей сирени. Но нет, все гораздо страннее: прямо впереди, посреди асфальта, улицу пересекает огромная трещина – в нее могли бы провалиться санки с лошадью и седоками, если бы не очень странный мостик, пересекающий расселину буквой V: одна половина мостика забирает влево, другая вправо. Левый рукав мостика кажется поуже правого, но санки с лошадью медленно и осторожно почему-то въезжают на него, мужчина наклонился вперед и крепко держит лошадку за поводья, лакированный бок санок чуть не царапает ограждение мостика, а из расщелины идет нежное, знакомое тепло. Там, за мостиком, за правым рукавом моста, у расщелины греются двое нищих: на одном рваная, серая от грязи перьевая шуба – сквозь прорехи Агата видит зеленое сукно, грубо расшитое красными звездочками; грязное лицо этого человека в серой шубе вдруг кажется Агате очень красивым. Второй завернут в широкую шерстяную попону; когда санки едва не задевают боком ограду моста, первый нищий смеется и кричит седоку:
– Не жалей, новые купишь, а эти мы заберем!
– Не смотрите на них! – вдруг командует сестра Юлалия и резко отворачивается от нищих. – Никому на них не смотреть! Всем смотреть на меня!
Агата наконец понимает, что это за красные звездочки на зеленом: этот нищий – беглый монах-гугианин, навсегда покрывший себя позором: братьев и сестер из ордена святого Гуго знают только по их делам, им нельзя показываться людям, а если такой монах покажет себя в миру, на него нельзя смотреть и с ним нельзя разговаривать. Прежняя Агата, конечно, смотрела бы на него во все глаза и даже спросила бы, правда ли, что монахи его ордена пьют секретную воду, чтобы никогда не спать по ночам, и потому так много успевают, но нынешней Агате до этого дела нет: ей очень хочется попасть домой, а правый рукав моста пуст. Агата тянет сестру Юлалию вправо, но та стоит на месте, ждет, когда санки проедут, и только потом говорит, обращаясь к своему маленькому выводку:
– Только за мной, только друг за другом, только по левой стороне! Всем понятно?
Плотно прижимаясь друг к другу плечами, они вступают на левый рукав мостика, и вдруг за спиной у Агаты происходит какое-то неприятное движение, взвизгивает Мелисса, смеется Рита, хихикает в кулак Ульрика – она всегда так делает, когда хочет притвориться, что не имеет отношения к какой-нибудь очередной гадости. Мелисса стоит на середине правого рукава мостика, куда ее вытолкнули Рита с Ульрикой, – стоит, вцепившись в деревянный поручень с вырезанными на нем узкими фигурами вздыбленных коней, ни жива ни мертва от страха, а Рита смеется, а Ульрика хихикает, а сестра Юлалия испепеляет Риту взглядом, а Рита говорит:
– Я же пошути-и-и-ила… Что она как дурочка, шуток не понимает?
– Мелисса, спокойно иди вперед, – твердо говорит сестра Юлалия.
Линор Горалик
Венисана #2
Захватывающая сказка-миф в нескольких книгах. История о страшной войне, развернувшейся между людьми и живущими в воде ундами, и о девочке Агате, оказавшейся между двух миров. Почему Агата оказывается отвержена своими друзьями? Почему нельзя ходить по правой стороне двойных мостов Венисаны? Как так получается, что Агата узнает в предательнице Азурре самого близкого человека во всем мире? Загадок становится все больше…
Вторая книга цикла.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Линор Горалик
Двойные мосты Венисаны
© Линор Горалик, 2020
© Издательство «Лайвбук», 2021
ПЕРВАЯ КНИГА СЕРИИ
Холодная вода Венисаны
В первой книге серии девочка Агата вместе с другими детьми живет в колледжии, и за каждым их шагом назойливо, но заботливо следят мистресс.
Но однажды, после падения в воду, жизнь Агаты круто меняется. Отныне ее считают опасной, зараженной, и она вынуждена скрываться. Прежний мир отталкивает Агату, а загадочная вода Венисаны, где живут утопленники, мечтающие вернуться на сушу, и крылатые габо, владеющие телепатией и ненавидящие людей, – манит. Девочка пытается понять, как же устроен этот страшный непостижимый город и узнает про грядущую войну между обитателями Венисаны.
Сцена 1,
угодная святой Агате, ибо здесь расстаются с тем, о чем плачет сердце
Кончик пера такой округлый, и гибкий, и упругий, что Агате хочется только одного: пусть этот момент никогда не кончается, пусть она вечно стоит вот так, с закрытыми глазами, у самой стенки, в самом дальнем углу спальни девочек, укутанная до самых глаз – так, что по спине текут тоненькие, щекочущие струйки пота, – и гладит пальцем кончик пера, торчащего из подкладки ее перьевой шубки, и никто, никто ее не замечает. Когда-то у Агаты была целая коллекция перьев габо – они с папой собирали эти перья по дороге от дома к са'Марко, и больше всего на свете Агата любила трогать пальцем их упругие мягкие кончики. Папа обещал сделать Агате из этих перьев высокую белую корону в три ряда, и тогда бы они играли в злую королеву Вассу и ее тайного возлюбленного, праведного ловчего Гарциона, но до войны папа не успел, а теперь даже думать такие мысли нельзя, нет, нет, нет, не дай бог у Агаты потекут слезы, Агате только этого не хватало. Агата отдергивает руку от кончика пера и больно щипает себя за запястье: то-то же, нечего. Жар шубки, валенок и валяной шапочки становится невыносимым, но снимать шапку нельзя, почти вся ее команда уже оделась, брат Йонатан привел мальчиков, таких же укутанных, как Агата, кто тут девочка, а кто мальчик – теперь не разберешь, все похожи на толстых, огромных и нелепых птенцов габо. Раньше Агата сказала бы это Мелиссе и Торсону, и они бы немного поиграли в птенцов габо – для такой игры и не надо ничего, они бы просто знали, что они птенцы габо, а больше бы никто не знал, и это было бы прекрасно; раньше бы – но не теперь. Теперь Агата никому ничего не говорит. Тем более Мелиссе. И уж тем более о габо: нет уж, только разговора о габо Агате и не хватало («Эй, ты, габетисса!..» «Джойсон, если я услышу это слово еще хоть раз, ты не выйдешь из мастерской двенадцать часов подряд и будешь перемывать в чане волосы, пока твои руки не сотрутся в кровь, я тебе это обещаю». «Сестра Юлалия, но ведь это не ругательство!» «Джойсон! Ты отправляешься мыть волосы в мастерских прямо сейчас!..») Что же до Торсона… Торсон далеко, Торсону надо ухаживать за бабушкой теперь, когда быть профетто больше не запрещено и его родители ушли в армию, а ненависть Мелиссы, бывшей лучшей Агатиной подруги, к «девочке, начавшей войну» (и разлучившей ее с Торсоном) так сильна, что вчера в Вечерней комнате Мелисса отказалась взять чашку с пуншем у Агаты из рук: перегнулась и налила себе пунш сама, пролила половину – но вот так. Агата на секунду представляет себе большого, спокойного, умного Торсона и прикусывает губу, чтобы не заскулить от тоски и боли. Торсону можно было бы все сказать. Нет, не так: Торсону можно было бы ничего не говорить. Он бы не заставлял Агату разговаривать, как делают сейчас Рита с Урсулой, кидая в нее хлебные шарики, чтобы разозлить и заставить сказать хоть слово. Торсон мог бы просто положить руку ей на плечо – и вот эта боль утекла бы вниз, из груди – в живот, из живота – в ноги, из ног – в пол, а через пол – в землю, думает Агата. А еще Торсон мог бы опустить лицо в миску с водой, открыть глаза – и сказать Агате, правда ли, что после начала войны унды убили всех утопленников, опасаясь, что те будут помогать людям, и продолжают убивать утонувших солдат. А еще… Нет, нет, нет, об этом тоже нельзя думать. Агата снова щипает себя за запястье, очень больно, но это помогает. Теперь она не думает ни о чем, кроме противной жаркой перьевой шапки: скорее бы их уже вывели отсюда. На улице, наверное, еще жарче, чем за толстыми стенами колледжии, но надо просто потерпеть. А потерпеть Агата умеет; чему-чему, а этому за три месяца войны она научилась очень хорошо.
Внезапно Агата понимает, что кто-то смеется, что к этому смеху присоединяются все новые и новые голоса. Оказывается, сестра Юлалия уже несколько раз окликнула ее, все построились, ждут только Агату. Агата с удивлением смотрит на свою команду: никто не обвязан веревкой, зато у каждого есть пара; пары держатся за руки, а тот, кто стоит слева, еще и держит за плечо идущего впереди. У монахов все иначе, чем у учителей колледжии. Для Агаты нет пары, и она стоит в растерянности, не понимая, что ей делать и чего от нее хотят.
– Может, ее габо понесут, – говорит кто-то очень громким шепотом.
Раздаются смешки, и на секунду Агату охватывает ужас: она почти верит, что кто-то сумел заглянуть в ее мечты, в ее одну-единственную мечту: как она лежит ночью в кровати, и как в окно дормитории, в ее окно на третьем этаже, тихо стучится желтый клюв с кроваво-красной точкой на конце, и она видит маленького габо Гефеста, успевшего стать очень, очень большим… Агата бы разбудила Мелиссу, она бы даже заговорила, честное слово: она бы осмелилась просить Мелиссу пойти с ней, она бы умоляла и уговаривала, и они бы полетели к Торсону, а потом нашли Агатиных родителей и остались воевать рядом с ними, плечом к плечу, а потом… Но габо исчезли на третий день войны, улетели на самые верхние этажи, и больше их никто не видел. Несколько часов весь воздух был заполнен габо, они летели вверх, это было страшно и прекрасно, а теперь Нолан, который каждый день ходит по улицам с братом Серманом и подает умирающим Первую и Последнюю кашу, говорит, что взрослые шепчутся: мол, на верхних этажах нет рыбы, и там, на самом-самом верху, габо нападают на людей, сажают их в клетки, откармливают и едят; а еще взрослые говорят, что габо в сговоре с ундами, только в чем этот сговор – никому невдомек. Правда, Ульрик считает, что габо теперь так же ненавидят ундов, как всегда ненавидели людей, но Агата не понимает, за что габо ненавидеть ундов, а Ульрик не может объяснить толком; он очень умный, но иногда соображает больше, чем может рассказать словами. Время от времени Агате кажется, что Ульрик – еще один человек, с которым она могла бы заставить себя говорить: она могла бы объяснить ему, объяснить… Что? «Я не хотела. Я хотела, как лучше. Я не знала, что так будет». Время от времени Агата случайно встречается с Ульриком взглядом, и у нее создается впечатление, что он и так все понимает. Ульрик и правда очень умный. Агата поспешно ищет его глазами в слабой надежде, что Ульрик даст ей какой-нибудь знак и поможет понять, как ей быть, но Ульрику не до нее: он утешает плачущую перепуганную Шанну, которая выглядит самой взрослой из них всех, а на самом деле ребенок ребенком. Тогда сестра Юлалия подходит к Агате и мягко берет ее за плечо. Агата пойдет впереди, в паре с самой сестрой Юлалией, а брат Йонатан будет замыкать шествие. Агате хочется обернуться, ей вдруг становится так страшно, еще страшнее, чем прежде: сколько раз она мечтала вырваться из колледжии, а теперь она, кажется, готова сесть на пол, упереться ногами и руками и выть, как делал ее младший брат Андрей, когда был совсем малышом, – лишь бы ее не уводили из этих знакомых стен, не переставших быть знакомыми даже теперь, когда вместо парт в классах стоят кровати, а дормитория, где раньше спали Агата, Мелисса и еще девять их одноклассниц, вся завешана сохнущими на веревках волосами. Раненых начнут перевозить через час, Агата вчера слышала, как за стенкой сестра Юлалия своим невероятным серебряным голосом объясняла сестрам и братьям Ордена Святой Агаты планы на этот день; Агата почти уверена, что именно за этот голос, способный, наверное, проникать сквозь землю и подниматься к небесам, сестру Юлалию и сделали старшей аббатисой, – недаром же святая Агата, покровительница могильщиков, профетто, нарциссов, изменников, отчаянных, врачей и миротворцев, говорила с мертвыми грешниками сквозь кладбищенскую землю, и они каялись и попадали в рай. Никаких других достоинств Агата в сестре Юлалии не видит, сердце у этой женщины – как камень, от нее даже больные – что люди, что унды – не слышат ни одного доброго слова, одни правила и приказания. Правда, все братья и сестры ведут себя с людьми и ундами одинаково – то есть, по крайней мере, стараются: так уж ордену положено, служители святой Агаты – госпитальеры, и они должны лечить всех одинаково; но получается это не у всех – Агата же видит, как у старого брата Виктория поджимаются губы каждый раз, когда надо клеить повязки на гладкую, скользкую кожу ундов, и как двум молодым сестрам (они и правда сестры между собой, Алина и Аделаида) делается тошно, когда унды заводят свою вечернюю музыку на зубных пластинках.
Агата все видит: когда никто не разговаривает с тобой без крайней нужды, а самты вообще не разговариваешь ни с кем, когда тебя презирают больше, чем даже дезертиров, тебе только и остается, что смотреть, а еще – слушать; она напрягает слух каждую секунду, не может перестать, потому что твердо знает: сколько ни запрещай всем говорить о войне, все равно все говорят о войне, вот только не с Агатой. Агате кажется, что слух у нее стал, точно у кошки: иногда она даже не понимает, действительно ли услышала сказанное шепотом в другом конце комнаты или это ее измученная, сжавшаяся в комок маленькая душа воображает бог весть что; и еще ей кажется, что от напряжения уши у нее стали болеть где-то там, внутри, – совсем как болят от бесконечной возни со священными нарциссами и твердыми, как картон, цветами сердцеедки в палисаднике ее перетруженные запястья. Сперва эта ушная боль пугает Агату, она даже думает поговорить с отцом Викторием, который отвечает за здоровье детей, и попросить его заглянуть ей в уши, но позже она решает, что нет в этом никакого смысла. В конце концов, некоторые вещи, которые Агата слышит, она бы ни за что на свете не согласилась пропустить – и нет, она еще не спала, хотя уже засыпала, когда вчера совершенно отчетливо услышала, как папа говорит маме совсем-совсем вот так, как будто они не сражались сейчас против ундов вместе со своей командой где-то у опушки синего леса Венисфайн, а стояли рядом с ее, Агатиной, кроватью: «Это разобьет мне сердце». От папиного голоса и этой странной, страшной фразы Агату подбросило на кровати, сетка заскрипела, Рита тут же сказала что-то приторное и ядовитое, но Агата не слышала ее, а слышала только папин голос, руки у нее дрожали: папа Агаты – гордость своей команды, папа Агаты – самый сильный, самый храбрый человек на свете, хоть он и не милитатто, как мама или дядя Рино; что же такое мама должна сделать, чтобы разбить ему сердце? Агата ущипнула себя за запястье – раз, другой, третий, очень больно, ровно там, где от щипков уже давно образовался громадный синяк, который надо прятать от монахов и монахинь; она быстро обшарила свою ночную рубашку – нет ли где маленького клочка шерсти или крошечного сломанного когтя? Агате двенадцать, она уже слишком взрослая, чтобы верить, будто ночные мары действительно садятся человеку на грудь и будят его, чтобы во сне он не узнал того, с чем не сможет жить дальше, – трясут его так, что потом находишь на себе их шерсть или кусочек коготка, – но в тот момент Агата была совсем детеныш, меньше Андрея, и чего бы она только не отдала, чтобы можно было заплакать, позвать папу, и он пришел бы, включил ее домашний ночник с морскими кабанчиками, которых они любили ловить сетью и отпускать, послушав их похрюкивания, с моста у площади пья'Волла, рассказал ей наизусть знакомую историю о том, как святую Агату полюбил святой Норманн, муж святой Фелиции, и Агатина святая стала покровительницей изменников… Ох, как бы все сразу стало хорошо. На секунду Агату обдало ужасом: если бы Рита или Ульрика проснулись и увидели, как она шарит по одеялу, они бы издевались над ней неделю – но все спали, все, кроме Агаты. Нет, не все: кто-то шептался в дальнем углу, кто-то был так занят своим разговором, что им не было дела до Агаты и ее глупостей, и Агата затаилась, свернулась клубком, туго-туго, напрягла свои кошачьи уши и услышала слово «ось», и еще услышала, как кто-то очень тихо плачет. Плакала Шанна, длинная нескладная Шанна, самая трусливая девочка на свете, и сестра Морицца, сидя у нее на кровати, рисовала круги в воздухе, и Агата, закрыв глаза, начала повторять себе то, что им объясняли день за днем: все это слухи, глупые слухи, ни люди, ни унды не могут «перевернуть мир», никто не может перевернуть мир так, чтобы Венискайл ушел под воду, это просто такое выражение, это невозможно. Видно, Шанне было совсем плохо, если сестра Морицца позволила ей говорить о войне – пусть и так, пусть и шепотом, в темноте дормитории, пусть и не с другими детьми, а с одной из монахинь: когда Ульрику и хромого Харманна (всегда и всем клявшегося, что его точно возьмут быть милитатто, потому что он самый сильный в команде, и плевать на его хромоту) брат Йонатан застукал в красильной комнате за разговором о том, что унды собираются затопить первый этаж и так выиграть войну, им пришлось сначала выслушать лекцию по физике и признать, что поднять уровень воды невозможно, а потом окрашивать восемь корзин волос в самый трудный, темно-синий цвет, и они закончили только к шести утра и от усталости заснули прямо около красильных чанов, и потом весь день у них обоих страшно болела голова. Все ненавидят красить волосы, особенно в синий цвет, поэтому в красильной комнате работают в основном монахи или те, кого наказали. Зеленый не намного лучше: чтобы волосы стали синими, их надо прокрашивать четыре раза, а чтобы зелеными – три. Зато красными волосы становятся всего с одного раза, но пока ты топишь их в чане с красным раствором и мешаешь тяжеленной серебряной палкой, у тебя ужасно чешутся и слезятся глаза – зато и стежки красными волосами получаются самыми красивыми, они блестят даже в темноте, когда на вышивке много красного – она самая дорогая, а огромная икона святой Агаты в красном пиджаке и с рыжими волосами, которая теперь висит в столовой колледжии, наверное, стоит столько, что во всей Венисане не найдется человека с такими деньгами, – даже майстер Саломон, про которого говорят, что весь чердак его булочной забит золотыми «ласками», небось, не смог бы ее купить, да и монахи эту икону ни за что, наверное, не согласились бы продать. У Риты есть тонкий волосяной пояс с вышивкой из немеритовых косточек, который ее богатый-пребогатый папа подарил ей на десятилетие и который Рита носит каждый день не снимая, даже сейчас, поверх монастырской формы, – и то он стоил столько, что Ритина мама сказала, будто за эти деньги они могли всей семьей отдыхать на четвертом этаже три недели (если, конечно, Рита не врет, Рита – это Рита). Агата никогда не работала в красильной комнате, она ведет себя очень тихо, тише воды – ниже травы, но Рита говорит, мол, за все, что Агата натворила, ее надо запереть в красильной и заставить работать там с утра до ночи. Распутывать и мыть волосы у Агаты тоже не получилось, она начинала засыпать, а для вышивания волосами у нее не хватало таланта, не то что у Мелиссы, на которую монахини не могли нахвалиться и которой уже доверили вышивать самостоятельно маленькие дешевые образки; Мелисса гордо говорит, что такие образки покупают чаще всего и что как раз на вырученные за них деньги орден и живет, бесплатно леча больных и исповедуя погребенных. Нет, Агате нашли другую работу, работу для девочки, которая живет как во сне и почти ничего не может: она ухаживает за палисадником с маленькими статуями святых, которые теперь стоят прямо под окнами дормиторий, по одному святому на каждое имя – будь то имена учеников, ушедших на войну мистресс и майстеров или монахов с монахинями, а за всех ундов отдувается святой Арман, покровитель одиноких сердцем, ушедших из дома, заблуждающихся, блаженных и лысых. Большинству детей – «сыновей» и «дочерей», так их теперь называют монахи, – нет до своих святых никакого дела, только Ульрик и Ульрика да еще несколько ребят, родившихся и выросших в семьях монахов, приходят к своим статуям помолиться и приносят фигурки, слепленные из хлеба. Ульрик лепит очень хорошо, и Агата всегда пытается угадать по его дарам, о чем он просит святую Ульрику, хотя это и некрасиво, а его сестра-близнец просто делает из хлеба кубики или колбаски, и Агата не верит, что Ульрике есть до святой хоть какое-нибудь дело. У Ульрики длинные волосы, которыми она страшно гордится, и когда Ульрика проходит мимо Агаты так, будто Агата – пустое место, Агата злорадно думает, что недолго Ульрике осталось ходить с этой прекрасной белой гривой: год, а то и меньше, и засадят повзрослевшую Ульрику вышивать собственными волосами – если, конечно, она решит быть монахиней, как ее мать с отцом. Перед войной почти все женщины, уходя на фронт, остригли волосы для удобства, и теперь монахам хватит волос для вышивки, наверное, на десять лет вперед – если, подумала Агата, через десять лет мир все еще будет вот таким, как сейчас, если через десять лет мы все не будем рабами ундов, не будем жить под водой и стеречь их икру. Агата попыталась представить себе маму без двух длинных темных кос и вдруг начала рыдать, и щипать, щипать себя за руку, и кусать, кусать, кусать подушку, и тут рука сестры Мориццы легла ей на голову, и Агата услышала шепот у себя над ухом: «Пресвятая Агата, старшая сестра наша, сильная среди нас, мудрая среди нас, страдающая за нас, посмотри на дочь твою…» – и от слова «дочь» Агате стало так невыносимо больно, что она изо всех сил оттолкнула от себя сестру Мориццу, и та ударилась бедром о столбик кровати, постояла немного и тихо ушла. Чувствуя, что кошмар вот-вот навалится на нее опять, Агата тогда закусила уголок подушки и начала говорить себе: «Не спи! Не спи! Не смей спать! Тебе опять приснится такое… Такое… Не смей спать! Не спи! Не спи! Не спи!..»
– Не спи, Агата! Не спи! – резко говорит серебряный голос у Агаты над ухом; цепкая рука дергает ее за руку. За спиной у Агаты смеются, кто-то больно тычет ее пальцем в спину. Агата понимает, что она опять застыла и из-за нее вся колонна, вся ее команда встала посреди улицы, перед воротами колледжии, в шубах и шапках стоит на жаре, ждет, когда Агата с сестрой Юлалией двинутся вперед.
– Закрывайте глаза, – командует брат Йонатан, – закрывайте глаза и доверяйте друг другу: идите за тем, кто идет впереди.
Агата делает шаг, еще шаг, обливаясь потом и чувствуя, что ее мокрая ладошка вот-вот выскользнет из ладони сестры Юлалии; что тогда? Агата притворяется, что закрывает глаза, но оставляет маленькие щелочки и все видит. Они проходят вдоль палисадника: посаженные Агатой нарциссы втоптаны в землю, сердцеедки валяются, оскалив жадные зубы, на перерытом каблуками газоне; незнакомый Агате толстый монах и младшая хозяйка ордена, сестра Лоретта, заворачивают статуи святых в холстину и укладывают на одну из повозок, проседающих под грузом парт и кроватей, одежды и книг, медикаментов и бинтов, волосяных икон и деревянных ящиков с консервными банками. Еще десять повозок стоят пустыми – Агата видит, как за окнами бывшей главной залы, ставшей центральной палатой лазарета, монахи перекладывают на носилки тех раненых, которые не могут идти сами. Внезапно у Агаты перехватывает дыхание: господи, она бы все сейчас отдала за то, чтобы просто вернуться во вчерашний день, в уже знакомый мир госпиталя, который еще сегодня утром казался ей таким невыносимым! Она бы выдержала и ежедневную серую кашу без сахара, и хлебные шарики, и сны, и тихий плач Шанны каждую ночь, и ужасные слухи, которые пересказывает по вечерам, после отбоя, Мелисса, клянясь, будто брат Корин говорил брату Гориану, что в синем лесу Венисфайн теперь… В эту секунду сердце Агаты бухает, потому что Агата вдруг чуть не валится вперед, споткнувшись обо что-то огромное и упругое, и, забыв приказ брата Йонатана, распахивает глаза. Два тела лежат поперек тротуара: одно – гладкое, полупрозрачное, длинное, и Агата успевает заметить рядом с телом тяжелый кривой предмет с острой стрелой в прозрачном ложе, а другое тело – крупное, круглое, и Агата видит только золотые квадратики на рукаве и темное озерцо под рукавом, и тут сестра Юлалия резко закрывает Агате глаза ладонью и тащит ее вперед, и Агата, задыхаясь, до боли сжимает веки, и не понимает, не понимает, что эти тела делают тут, на улице, если бои идут под водой, бои должны идти под водой?..
Потея и отдуваясь, укутанная в перья и валяные ботики команда Агаты с закрытыми глазами медленно идет по раскаленным улицам родного первого этажа, мимо домов с заколоченными ставнями, к пья'Скалатто – к огромной лестнице, ведущей на второй этаж Венискайла.
Сцена 2,
угодная святой Агате, ибо здесь ее именем действуют без ее помощи
Они идут все медленнее, жара становится все невыносимей, а шум – все громче, и никто уже, конечно, не держит глаза закрытыми, и Агата тоже, и все они смотрят на небо, и все боятся посмотреть вниз. Наконец вся их маленькая колонна останавливается, и Агата чувствует, как напряжена ладонь сестры Юлалии: вся пья'Скалатто забита людьми, колонна не может двигаться дальше. Агата не понимает, почему такое столпотворение: в их с Торсоном вылазках в город она привыкла видеть на этой дальней площади только кукловодов и огненных танцоров да ценителей их искусства, вечно спорящих о том, почему именно каждый из плясунов в подметки не годится великому Крылатому Юджину, да возрадуется святой Юджин его неистовым пляскам там, на сияющей внешней тверди Венисаны. Но сейчас люди на площади стоят плотной, напряженной, нервной толпой, и Агате страшно: она не понимает, почему как минимум половина города пытается прорваться к лестнице на второй этаж – и почему бы всем этим людям, собственно, просто не подняться по лестнице. «Пропуск, – шепчет у нее за спиной Каринна, – солдаты никому не дают пройти без пропуска». Идущий в паре с Каринной Харманн начинает громко требовать, чтобы его отвели к солдатам, – он-то все знает про солдат и умеет разговаривать на их языке, оба его отца – милитатто в отборном отряде, который охотится на дезертиров и уже два раза почти поймал их презренную предводительницу по кличке Азурра (интересно, вяло думает Агата, откуда ему знать? Вот болтун), а сам Харманн, когда станет капо милитатто, уж как-нибудь позаботится, чтобы его солдаты делали свою работу быстро и не устраивали на площадях столпотворений. Только пустите его, Харманна, к солдатам, и их маленькая колонна мигом окажется на втором этаже. Агата думает о том, что Харманн, наверное, станет наглостью их команды, и молчит, истекая по?том под шубкой и разглядывая серые ворсистые разводы на своих маленьких валенках, но в глубине души очень сильно сомневается, что через год, когда половину их команды отберут и начнут тренировать, чтобы, как в каждой команде до них вот уже двести лет подряд, у них были свои воины-милитатто, Харманн окажется в этой половине – не из-за его хромоты (вот у дяди Рона нет, например, одного глаза, а он капо милитатто своей команды), а из-за этого самого горлопанства. Но Агата, конечно, держит свои мысли при себе: она закрыла глаза и слушает, слушает и слышит всех, даже сквозь вопли Харманна: и шмыгающую носом вечно простуженную Риту, и Ульрику, от страха шепотом молящуюся своей святой, чтобы ундийские шпионы не похитили ее прямо тут, в толпе, и не утащили под воду, чтобы на ней учиться лучше пытать людей, и шарканье подошв отца Йонатана, который растерянно топчется на месте и явно не понимает, что делать дальше, и еще какой-то странный звук: как будто очень тонко поет комар, и Агата знает этот звук, – это очень тонко, очень тихо плачет Мелисса, и тут же раздается тихий смешок и похлопывание ладони Мелиссе по спине:
– Я же шучу-у-у, – протяжно говорит Рита. – Что ты как дурочка, шуток не понимаешь?
Несколько дней, всего несколько дней назад Мелисса с мерзкой улыбочкой говорила, как будто Агата была невидимкой и не сидела прямо на соседней кровати, что Агата все выдумала про свою дружбу с габо, что ни один габо не стал бы иметь дело с человеческой девочкой, и Агата чувствовала, что вот-вот у нее потекут слезы, и точно так же Мелисса говорила протяжно, совсем Ритиным голосом: «Я же шучу-у-у… Что ты как дурочка, шуток не понимаешь?»
Внезапно Агата замечает, что у нее болит рука, потому что сестра Юлалия нервно сжимает ее изо всех сил, а еще – что у нее на плече больше не лежит ладонь Массимо: их маленькая колонна под давлением толпы начинает распадаться, их вот-вот разбросает в разные стороны, кто-то уже взвизгивает и пытается прорваться вперед, кто-то уже грубо отталкивает в сторону, под ноги к вездесущим, ненавидимым монахами продавцам аляповатых индульгенций, вцепившихся друг в друга Сонни и Самарру, двух влюбленных малышек, которые, по словам мистресс Джулы, обещают стать осторожностью своей команды, и Ульрик пытается удержать их на месте, но гладкие перья их шубок выскальзывают у него из рук. По лицу сестры Юлалии течет пот, она срывает с головы шапку и озирается в панике, и Агате кажется, что сестра Юлалия сейчас заплачет. Взгляды Агаты и Ульрика скрещиваются, и вдруг Агата чувствует себя так, словно у нее внутри просыпается некто давным-давно уснувший, кого Агата знала очень хорошо, но совсем забыла, не видела давным-давно и так страстно, так жадно хочет увидеть, и сейчас этот прекрасный, сильный, отважный кто-то бросится к Ульрику на помощь, двумя словами успокоит Сонни, оттолкнет двух злобных женщин, теснящих прочь от лестницы Мелиссу и Шанну, пробьется сквозь толпу к брату Йонатану и вместе с ним замкнет хвост колонны, вот сейчас, вот сейчас… И тут над площадью плывет прекрасный, нежный серебряный голос, и Агата узнает слова Моления к святой Агате – под эти слова, выпеваемые на рассвете монашескими голосами в бывшем научном классе, она уже привыкла просыпаться:
– О Ты, Великая Канцелярша, Ты, опора тех, чьи бумаги сгорели в огне небесного гнева, Ты, для кого не существует непреложных печатей, Ты, выводящая на свет площадей из тьмы душевной…
Где-то далеко за спиной у Агаты сильный мужской голос затягивает во всю силу:
– …К Тебе я обращаю свое лицо, Тебе протягиваю свое сердце: вот, сними с него отпечатки, впиши меня в свой блаженный реестр…
Слева от Агаты, задыхаясь, пробиваясь сквозь толпу, таща за собой робко подпевающих Сонни и Самарру, громко поет, почти выкрикивая слова, Ульрик:
– …Что для меня пустое слово – для Тебя книга души моей, что для меня вода – в ампулах Твоих становится панацеей…
Толпа расступается, постепенно они сбиваются в кучку – вспотевшие, укутанные птенцы, поющие гимн кто во что горазд, и даже Агата в этот момент поет – не размыкая губ и не открывая рта, но все-таки поет про себя, – а брат Йонатан уже быстро разбивает своих «дочерей» и «сыновей» по парам, а сестра Юлалия, снова натянув на свою короткую, ежиком остриженную голову шапку, быстро кладет ладошки стоящих сзади на плечи впередистоящих – и вот они трогаются в путь, и их пропускают, и они подходят к подножию огромной, широченной, выше некоторых одноэтажных зданий лестнице на второй этаж, по которой, если бы не война, Агате было бы строго-настрого запрещено подниматься еще два года, и даже прежняя, ничего не боявшаяся Агата, знавшая первый этаж как собственную ладошку, никогда не осмелилась бы нарушить этот запрет. От желтоватых камней лестницы, от ее немыслимо древних, в человеческий рост перил с вырезанными во времена Первого рабства сценами битв между еще не умевшими ходить предками ундов и синими, как лес Венисфайн, предками габо, тянет холодом. Гимн распадается на отдельные слова и смолкает, Агата кисло думает, что вот же – и от святой Агаты, в которую она после всех своих молитв больше совсем-совсем, ни капельки не верит, есть какая-то польза. Сестра Юлалия протягивает одному из одетых в серое солдат, цепью преграждающих путь на лестницу, пачку голубоватых бумаг: на каждой сверху стоит Печать святой Агаты – канцелярская скрепка и шприц в кольце света, – а внизу подпись и печать ка'дуче. Толпа завистливо вздыхает. Солдат медленно идет вдоль Агатиной команды, пересчитывая всех по головам; потом проходит обратно, спрашивая каждого, как его зовут, и сверяясь с бумагами, и когда настает очередь Агаты, за нее отвечает сестра Юлалия.
– Твой святой – твоя судьба, —
хмыкает солдат, и Агата, которой за последние месяцы эта фраза надоела хуже горькой редьки, только ниже опускает голову и видит у себя под ногами чей-то маленький, дешевый, втоптанный в раскаленную брусчатку пья'Скалатто нагрудный волосяной образок, на котором еще видны острые рыжие уши святопризванной дюкки Ласки.
Наконец солдаты расступаются, сестра Юлалия тянет Агату за собой, и они поднимаются по крутым ступеням, которые постепенно становятся все холоднее и хо-лоднее: у Агаты даже в валяных ботиках мерзнут ноги, и она вдруг замечает, что ботики начали поскрипывать. Это очень странно: совершенно непонятно, что бы в них могло скрипеть; Агата хочет остановиться и осмотреть свои валяные шерстяные подошвы, но останавливаться нельзя – монахи торопят их, вокруг по лестнице поднимаются еще какие-то люди, сзади Агату то и дело почти толкают в спину Мелисса и Нолан, и вдруг Мелисса громко вскрикивает:
– Снег! Это же снег!!! – и Агата понимает, что впервые в жизни видит настоящий снег.
Снег падает медленно-медленно, и на секунду вся их маленькая колонна замирает. Это совсем не то, что видеть быстро тающие снежинки у себя на ладони, когда майстер Пуро, преподаватель науки, осторожно вытряхивает их из принесенной с ледника колбы и ты боишься, что тебе не хватит. Снег похож на пух габо, вот на что, думает Агата, и при мысли о габо у нее на секунду сжимается сердце. Габетисса. Подставляя под снег ладони, Агата пытается вообразить, что это действительно пух габо – падает с неба, потому что огромные прекрасные птицы прилетели за ней, Агатой, и сейчас Гефест, который, наверное, успел здорово вырасти, заберет ее отсюда – туда, на самые верхние этажи, о которых никто ничего не знает, а если знает, то уж точно детям не рассказывает (Мелиссины байки о Верхнем Море и о ядовитых обезьянах тоссикато, к которым нельзя прикасаться, не в счет). Или еще лучше – габо подхватят ее, пролетят над строем солдат вниз по лестнице и унесут под воду, к папе с мамой, и Агата будет сражаться рядом с ними, бок о бок, против ундов, которые хотят, чтобы люди, как двести лет назад, стали их рабами, платили оброк и никогда больше не ловили рыбу, а мама будет учить ее всему, что умеют милитатто, и она, Агата, станет милитатто даже лучше мамы, вот только убивать ундов ей очень страшно, но она справится, ей не впервой убивать, или, может, даже убивать совсем не придется: они с Гефестом найдут самого главного унда и возьмут его в плен, и тогда у нее, у Агаты, появится новое прозвище: «Девочка, прекратившая войну»… В нетерпении Агата поднимает голову – и видит серое холодное небо второго этажа, прошитое алыми нитями пылающего рассвета, и очень странную улицу: совершенно прямую, очень широкую, так не похожую на все, к чему Агата привыкла, и дома на этой улице – изящные, двухэтажные, с колоннами и портиками, и тоже серые и холодные, их стены поблескивают не то от снега, не то сами по себе, и Агата понимает, что никуда, никуда, никуда она не денется отсюда, никуда, никуда, никуда. Их уже торопят: монастырь святой Агаты, он же госпиталь, далеко-далеко, а здешний холод никого не щадит.
– Уж поверьте, – сухо говорит сестра Юлалия, – на снег вы еще насмотритесь. Вперед, вперед, вперед.
К своему огромному удивлению, Агата замечает, что ей, совсем недавно изнывавшей от жары, действительно зябко: они спешат, обгоняя прохожих, несколько раз рука Мелиссы слетает с ее плеча и тут же судорожно нащупывает его вновь, колонна торопливо сворачивает на другой проспект, такой же прямой и очень широкий, и тут мимо них проносятся, вылетев из-за поворота, настоящие сани – впереди лошадка, за ней летящая по снегу санная повозочка, в повозочке полулежат мужчина и женщина. Агата успевает разглядеть, что женщина очень красива, а мужчина, легко похлопывающий лошадь по крупу длинным-длинным кнутиком, кажется ей смутно знакомым, вот только непонятно, где Агата могла его видеть. Вдруг она понимает, что согрелась, но согрелась как-то странно, – снизу вверх: ногам тепло, и это тепло заползает под шубку, а щеки и нос все еще мерзнут так, что Агата их едва чувствует; на секунду ей приходит в голову странная мысль, что под ногами у нее лежит огромный жаркий кот и от него идет сладкий майский запах цветущей сирени. Но нет, все гораздо страннее: прямо впереди, посреди асфальта, улицу пересекает огромная трещина – в нее могли бы провалиться санки с лошадью и седоками, если бы не очень странный мостик, пересекающий расселину буквой V: одна половина мостика забирает влево, другая вправо. Левый рукав мостика кажется поуже правого, но санки с лошадью медленно и осторожно почему-то въезжают на него, мужчина наклонился вперед и крепко держит лошадку за поводья, лакированный бок санок чуть не царапает ограждение мостика, а из расщелины идет нежное, знакомое тепло. Там, за мостиком, за правым рукавом моста, у расщелины греются двое нищих: на одном рваная, серая от грязи перьевая шуба – сквозь прорехи Агата видит зеленое сукно, грубо расшитое красными звездочками; грязное лицо этого человека в серой шубе вдруг кажется Агате очень красивым. Второй завернут в широкую шерстяную попону; когда санки едва не задевают боком ограду моста, первый нищий смеется и кричит седоку:
– Не жалей, новые купишь, а эти мы заберем!
– Не смотрите на них! – вдруг командует сестра Юлалия и резко отворачивается от нищих. – Никому на них не смотреть! Всем смотреть на меня!
Агата наконец понимает, что это за красные звездочки на зеленом: этот нищий – беглый монах-гугианин, навсегда покрывший себя позором: братьев и сестер из ордена святого Гуго знают только по их делам, им нельзя показываться людям, а если такой монах покажет себя в миру, на него нельзя смотреть и с ним нельзя разговаривать. Прежняя Агата, конечно, смотрела бы на него во все глаза и даже спросила бы, правда ли, что монахи его ордена пьют секретную воду, чтобы никогда не спать по ночам, и потому так много успевают, но нынешней Агате до этого дела нет: ей очень хочется попасть домой, а правый рукав моста пуст. Агата тянет сестру Юлалию вправо, но та стоит на месте, ждет, когда санки проедут, и только потом говорит, обращаясь к своему маленькому выводку:
– Только за мной, только друг за другом, только по левой стороне! Всем понятно?
Плотно прижимаясь друг к другу плечами, они вступают на левый рукав мостика, и вдруг за спиной у Агаты происходит какое-то неприятное движение, взвизгивает Мелисса, смеется Рита, хихикает в кулак Ульрика – она всегда так делает, когда хочет притвориться, что не имеет отношения к какой-нибудь очередной гадости. Мелисса стоит на середине правого рукава мостика, куда ее вытолкнули Рита с Ульрикой, – стоит, вцепившись в деревянный поручень с вырезанными на нем узкими фигурами вздыбленных коней, ни жива ни мертва от страха, а Рита смеется, а Ульрика хихикает, а сестра Юлалия испепеляет Риту взглядом, а Рита говорит:
– Я же пошути-и-и-ила… Что она как дурочка, шуток не понимает?
– Мелисса, спокойно иди вперед, – твердо говорит сестра Юлалия.