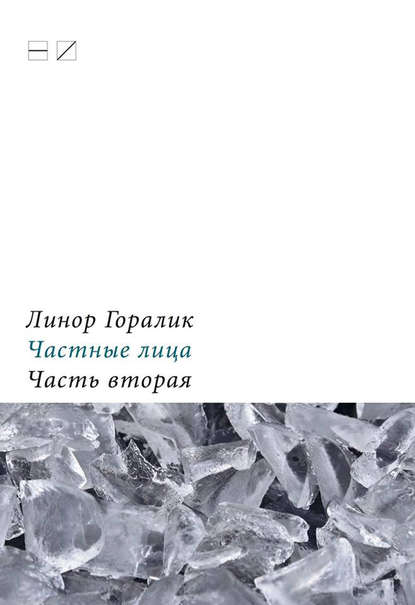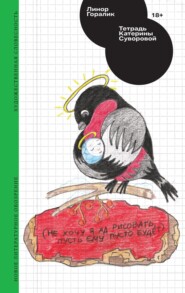По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими. Часть вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
РУБИНШТЕЙН. Да, я был бездетным и свободным, но у меня были пожилые родители. Пожилые родители, которые не поняли бы моего отъезда и сами бы никуда не поехали. Сначала родители, потом их могилы.
Одна мотивация была такая, чисто биографическая. Другая культурно-идеологическая. Я упорно не считал для себя правильным и даже возможным покинуть то место, где живет мой язык, который является моей профессией. Я понимал, что русского языка больше нигде нет.
Но я тем не менее, как и все в моем окружении, обдумывал эту возможность. Во всех компаниях того времени об этом беспрерывно говорилось. Люди даже ссорились по этому поводу.
ГОРАЛИК. Когда вы обдумывали – думалось про что? Воображалось что?
РУБИНШТЕЙН. Воображалась какая-то другая жизнь. Да, свобода. Отсутствие необходимости ходить на какие-то собрания, жить в этом отвратительном информационно-истерическом пропагандистском поле.
Но дело в том, что к середине 1970-х годов я, как и многие мои собратья по концептуализму, понял, что это поле – это как раз замечательное творчески заряженное пространство, что с этим можно и нужно работать. С советским языком оказалось очень интересно работать.
ГОРАЛИК. И он так поддается…
РУБИНШТЕЙН. Да. Соц-артисты с этим работали напрямую.
В общем, я решил остаться, хотя многие друзья уезжали. Друзья уезжали, и, как вы понимаете, это же было навсегда, это же – все. И бесконечные эти проводы, которые по всей своей фактуре напоминали поминки. Человек уезжает навсегда: «Ну, пиши».
И, надо сказать, довольно быстро прекращалось общение. Сначала писали письма, звонили по телефону, а потом я стал замечать, что многие уехавшие люди вдруг стали забывать, откуда они уехали. Некоторые вдруг начинали во время телефонного разговора спрашивать: «А что там у вас говорят и думают про войну в Афганистане?» Я говорю: «Я тебе потом расскажу, что думают».
ГОРАЛИК. Контекст теряли?
РУБИНШТЕЙН. Да. Причем как-то быстро забывались вещи, о которых вообще опасно говорить. Вот ведь свобода.
Многие уезжали – и я их не могу осудить – просто для того, чтобы не стоять в очередях за продуктами. Особенно те, у которых дети были. Не стоять в очереди, не унижаться в каких-то советских учреждениях. Это тоже мотив. И вполне не стыдный.
ГОРАЛИК. Кто-то из наших коллег напомнил мне недавно, что очередь – это еще и определенное психологическое состояние, которое тебя заставляют проходить несколько раз на дню.
РУБИНШТЕЙН. Конечно. Феноменология очереди совершенно отдельная и неисчерпаемая тема.
ГОРАЛИК. Возвращаемся к 1990-м.
РУБИНШТЕЙН. Был еще некоторый важный поворот в моей биографии, когда в середине 1990-х, а конкретно в 1996 году, я вдруг стал штатным колумнистом-эссеистом. До этого, как говорится, «ничто не предвещало». Я в этом жанре себя никогда не видел. Это произошло совершенно случайно и произошло извне, потому что тогда возник журнал «Итоги», в который пришли работать два моих старых приятеля: Сережа Пархоменко и Дина Годер, которых я знал еще по журналу «Театр», я у них публиковался.
И Дина меня позвала туда: «Ты, – говорит, – не прочь какую-нибудь работу найти?» Я говорю: «Совсем не прочь». «А давай-ка поработай в „Итогах“ книжным обозревателем». Я говорю: «Да я не умею». «А ты попробуй».
И я пошел «пробовать». Какое-то время я им даже был, обозревателем, хотя меня это жутко напрягало, потому что я, во-первых, внутри процесса, во-вторых, мне мало что нравится. Я написал несколько текстов, естественно, про книжки своих друзей. Потом круг друзей стал исчерпываться, а писать-то о чем-то надо.
Но, к счастью, там была рубрика такая – «Разговоры запросто». Она была на самой первой полосе. Там было два-три текста. Таких – как бы про все и ни про что.
ГОРАЛИК. Что в 1990-х вообще было очень важным жанром, кажется.
РУБИНШТЕЙН. Совершенно верно. И я от некоторой отчаянности, чтобы поменьше писать про книжки, стал писать в эту рубрику. И как-то я постепенно переориентировался. И постепенно стал писать про все на свете: про жизнь, про все подряд. Вот так я независимо от своих устремлений освоил новый жанр, который на сегодняшний день главный для меня и есть.
ГОРАЛИК. Новый жанр – это же, наверное, новое взаимодействие с воображаемым читателем? Как это было?
РУБИНШТЕЙН. Довольно странно. Во-первых, хотя это может быть не заметно для постороннего глаза, но для тех, кто меня как автора хорошо знает, очевидно, что я в этом жанре очень многое использую из того, что есть у меня в поэзии. Взять хотя бы мою склонность к каталогизаторству. Долгое время (а вообще до сих пор) это был постоянный стресс, поскольку я всегда был такой свободный, хотя и «подпольный» человек. А тут возникла вот эта постоянная необходимость…
ГОРАЛИК. Производственная дисциплина?
РУБИНШТЕЙН. Ну да. И я, в общем-то, и теперь в постоянном стрессе, потому что я психологически совсем не журналист. Меня, помню, поражало, что какой-нибудь коллега из журнала говорил: «К четырем часам будет текст на 15 тысяч знаков». «Откуда он это знает?» – думал я. Откуда он знает, что это будет 15 тысяч знаков и что к четырем часам? Для меня это совершенно невероятно до сих пор, хотя я уже сто лет в медиа.
А из моих журнальных текстов постепенно собираются книжки. Их уже вышли четыре книжки, и скоро будет пятая.
ГОРАЛИК. Это два разных человека: поэт Лев Рубинштейн и эссеист Лев Рубинштейн?
РУБИНШТЕЙН. Надеюсь, что нет. Просто работают разные механизмы порождения текстов. И, возможно, этим заведуют разные участки мозга. А может быть, и нет. Сейчас ведь я крайне редко пишу поэзию, потому что просто мозг занят другим. В любом случае – это не два разных человека. Точно.
ГОРАЛИК. Вот мы подобрались почти к «сейчас», о котором не все любят говорить: иногда есть ощущение, что ничего особенного не случилось…
РУБИНШТЕЙН. Случилось как раз много всего. Не столько за десять лет, сколько за последний год. Очень много всего произошло. Этот последний год, 2012-й, очень важен, по-моему.
До него мне начинало уже казаться, что вновь наступает привычная советская безысходность, что страна ходит кругами, что люди ничего не хотят.
В меня этот последний год, несмотря на то что мы сегодня наблюдаем самую откровенную, классическую реакцию, тем не менее вселил довольно отчетливый оптимизм. Потому что за дело взялось совсем другое поколение. Оно выросло. Оно идеалистично в самом хорошем смысле слова. И оно хочет честности.
В начале 1990-х годов толпы людей, которые выходили на улицу, скорее, хотели еды. Сейчас достаточно много тех, кто, в общем, чего-то добился и теперь хочет чего-то добиться в других областях. Сейчас такие понятия, как, например, достоинство, вдруг оказались политически востребованными понятиями.
И я очень этому рад. Я понимаю, что быстрой победы не будет, но она все равно будет. И я думаю, что это поколение уже не остановишь. Я боюсь другого. Будет не очень хорошо, если у многих из них просто не выдержат нервы и опять начнется массовая эмиграция, как это уже однажды было.
Когда началось здесь что-то – перестройка и тем более ее конец, когда что-то стало реально меняться, я просто физически ощущал, как здесь не хватает многих людей, которые когда-то уехали. Ох, как бы они здесь были важны и уместны в то время! «Где такой-то?» – «А он в Нью-Йорке». «А этот где?» – «А он в Калифорнии».
Я, конечно, не ощущаю свое право удерживать, хватать за фалды прекрасных и необходимых стране молодых людей. Но я был бы безмерно рад, если бы они все же остались здесь. Со мной.
2012
Полина Барскова
ГОРАЛИК. Расскажи, пожалуйста, про твою семью до тебя.
БАРСКОВА. На этот вопрос есть разные способы отвечать, я попробую несколько из них как-то реализовать в нашей беседе. Я прожила до 16 лет в Ленинграде, имея одно представление о своей семье до себя, потом там случились какие-то перемены. Я прожила в семье Юрия Константиновича Барскова и Нонны Чудиновой-Барсковой на станции метро «Московская» в Ленинграде. В таком, скорее, брежневском домике, на юге. Если прилетаешь в аэропорт, то как раз туда прилетаешь – там еще нужно проехать мимо блокадного памятника многофигурного. До Невского 18 минут на метро. Родители-востоковеды с неудавшимися, с какой-то точки зрения, профессиональными судьбами по причине их идеологического легкомыслия. После того как они приехали, мама из Ленинска Новокузнецкого, Кемерово, Новосибирска, а папа в тот момент из Владивостока, приехали поступать на филфак в Питер, и по причине интереса к неизвестным им совершенно вещам оба оказались специалистами по Бирме. То, что сейчас называется Мьянма. Папа был такой весьма многообещающий, и мама была многообещающей, но несколько в иной плоскости. Мама была такая очень красивая, очень по-своему отвлеченная и очень независимая барышня. Папа действительно хотел делать науку свою. Он был историком-востоковедом, насколько я могу судить, вполне одаренным и увлеченным. Они оказались в Рангуне, где они работали несколько лет, и это было частью моего детства потом каким-то образом. Потом они возвращаются в Советский Союз, и как-то так выясняется, что людям с дипломатическими какими-то обстоятельствами приходится по возвращении вступать в какие-то специальные отношения. Ну, они не вступают в отношения с этими институциями, и в общем на этом… Папа не может преподавать в университете, а мама вообще нигде не может преподавать. Такая тривиальная история. И их карьеры, судьбы так тихонечко странным образом складывались. Папа преподает в педагогическом институте, и у него проблемы с диссертацией. Мама становится техническим переводчиком в таком институте, куда берут не одобренных никем другим людей. Там какой-то очень славный директор этого института, который пришел с войны и не боится ничего, и складывается такой мир и круг общения. Это не фронда и не диссиденты, это люди, которые приняли очень ограниченный круг решений, который при этом внес ограничения в их жизни. Мама при этом очень много общается с художниками ленинградскими, и позирует им в частности, и с литературными персонажами тоже. И вот я выросла в той семье, общаясь с ними. Это была какая-то такая не очень веселая, но очень тактичная семья, очень-очень хотевшая, чтобы я читала. Это была какая-то такая классическая история, где в основном был главный мир – чтение.
ГОРАЛИК. Они были молодыми, когда ты родилась?
БАРСКОВА. Нет, они не были молодые… В общем это был такой мир не очень веселый. Там в начале жизни помню я какую-то меланхолию, но и при этом какую-то свою невероятную к ним привязанность и их привязанность ко мне. Я была единственным ребенком поздним. Какая-то связь между нами была не совсем понятная, как ты скоро поймешь по тому, что я расскажу. Много ходили по городу. Я с мамой, я с папой. Но с папой очень много молчания было в этих прогулках. Вообще не разговорчивый был человек, со мной же особенно. И как-то вот отношения с городом нам замещали отношения друг с другом. Никто мне особенно не рассказывал про то, что вот это был такой особняк или кто-то кого-то любил или убил, просто это была какая-то огромная часть этих молчаливых прогулок. А потом, гораздо позже, когда мне было 16 лет, папа умер… Он еще болел очень-очень много, и это было частью нашей жизни, его молчание и болезни.
Он умирает, и потом как-то окончательно проявляется вторая часть того, что как-то существовало тенеобразно, но… То какие-то были оговорки, то ко мне подходили люди и говорили «да, очень похожа» и отходили. И я думала, что же это значит? При этом пикантность состояла в том, что я не была похожа категорически на родных родителей. Родители русские, и очень странной русской внешности. Большинство людей, которых я знаю, говорят, что моя мама была очень красивой в молодости, и у отца была, как пишется, благородная внешность. Это на самом деле были очень красивые люди. Я очень люблю перебирать наши старые слайды – любуюсь ими. Я думаю, не случайно сыграла свою роль в истории ленинградской культуры красота моей матери. Мама была такая, она и сейчас есть, сейчас правда немножко другая, она была тогда очень-очень рыжая, бледная, с такими как стекло морское длинными-длинными глазами, с диким количеством веснушек, такая она была вся как плеть, очень длинная женщина, гибкая. И в общем ничего общего внешне я с ними не имела категорически, как мы можем видеть. Но тогда долго, хотя мне всячески пытались принести, нашептать эту правду так называемую, но до какой-то степени я сопротивлялась ей.
Но потом в 16 лет папа умирает от инфаркта, и через год происходит мое знакомство с моим биологическим отцом, что в общем было крайне для меня изумительно, потому что я в то время уже серьезно относилась к творчеству Евгения Борисовича и совсем уж серьезно относилась к творчеству того, кого Евгений Борисович считал и называл Кем-то. Своим то ли учителем, то ли учеником… Мы так до конца и не будем знать, кого Евгений Борисович кем считал, потому что Евгений Борисович существо не то чтобы лукавое, но… Нет, не лукавое, он… Выдумщик он. И вот я с Рейном познакомилась, это было все сложно мне. Там с папой был тоже замечательный ход, потому что он узнал… Он очень долго думал, что у него рак, и очень надеялся от него умереть сам по себе, в советскую больницу не шел, потом пошел в больницу и выяснилось, что у него не рак, но было уже поздно в том смысле, что он провел столько лет с этим всем, что у него осталось полгода здоровой жизни, и он умирает от разрыва сердца. При том что папа, который вероятно знал о какой-то части всей этой тривиальной и малоаппетитной истории, это как-то надорвало его, и у нас были странные отношения, я не была его радостью, но я была его жизнью. И при этом близости не было никакой, а было это молчание разделенное. И когда он ушел, огромная пустота возникла. В общем это было трудно и так в 16 лет, сиротство, а потом еще появляется Рейн, которому все было не особо интересно, хотя ему все уже к тому моменту стали говорить, что я, возможно, литературно занятное существо, но его это все же не заняло особо, а было слегка и ненадолго любопытно. Он такой человек совершенно весь посвященный выживанию, обслуживанию себя, ухаживанию за собой – это какая-то огромная его жизненная цель к самосохранению, болезнь к жизни. Вот, в общем все это было в какой-то степени сложно и важно и осталось таковым. Какое-то сочетание, я могу придумать, какой-то предрасположенности, книжности и вот этого молчания тревожного, в которое было погружено детство. Из этого сочетания, я полагаю, стихи и стали появляться. Самое замечательное, что со мной происходит последние несколько месяцев жизни, я вдруг (не то что вдруг, но и вдруг тоже) встретила двух девочек, женщин, которые являются моими как бы полусестрами. И одну из них я встретила позавчера. Это было одной из важных причин моего приезда сейчас в Израиль.
ГОРАЛИК. И каково это?
БАРСКОВА. Это очень странно и очень хорошо даже. Они – каждая по-своему – пленительны. Одна девочка – очень известная, блистательная вполне московская девочка со своими уже детьми, взрослыми девочками и мальчиками, ее зовут Аня. Другая девочка здесь живет, это девочка Аля, и у нее тоже уже есть сын. И это невероятно странное ощущение – как бы немножечко наблюдение за инвариантом твоей судьбы и тебя, немножко что-то по-другому – и вот совсем другой человек получается. Поскольку мы живем в очень разных государствах, но при этом они мне обе очень понравились. Как-то вся эта ситуация, она как вода в песок, она просочилась в жизни нас и какой-то печалью внутренней и отсутствием ответов в нас осталась. Но при этом каждый с этим разбирается как умеет. Вот мне, опять же, повезло невероятно, мне были даны стишки, и я вот этот странный механизм пережевывания-переживания… Да, отношения с биологическим отцом у меня нет, о чем все любят спрашивать. Это по ряду каких-то причин прагматических возможно, но главное, что полное отсутствие необходимости и интереса с его стороны. И насколько я понимаю, более или менее это относится ко всем детям. Он из какого-то другого материала создан и устроен.
Ну вот. А потом мне 17–18–19 лет, я учусь в университете на филфаке на классическом отделении, и это были очень симпатичные годы в смысле общения, в смысле того, что я писала, и у меня была какая-то очень симпатичная дружеская жизнь. Но вот семья такая, семья странная немножечко. Но в какой-то момент потом, следует так же сказать, что из всего этого странного набора недосказанностей остались длившиеся и длящиеся всю жизнь и очень менявшиеся последние десять лет отношения с моей мамой, которая оказалась в Штатах, вдруг… Опять же «вдруг» смешное слово, мы любим Шкловского, но не совсем понятно, что оно значит, у каждого «вдруг» все-таки есть своя предыстория. Вот мама – одна из главных радостей моей жизни, у меня роман с мамой на радость всем читателям Фрейда и Шекспира. Она, наверное, один из самых любопытных, не понятных мне, понятных и непонятных персонажей, она увлекает меня, и мне с ней невероятно важно, всегда интересно, всегда смешно. Вот такая история.
ГОРАЛИК. Давай теперь сделаем заход с другой стороны и попробуем говорить не про твое детство в твоей семье, а про твое детство в тебе самой. Начнем с самого начала: какой ты была, когда ты была маленькой? И вообще – с какого момента ты себя помнишь?
БАРСКОВА. Я себя помню очень поздно, вот никаких этих дел с…